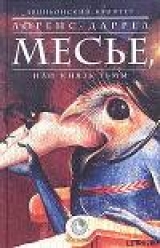
Текст книги "Месье, или Князь Тьмы"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
Вернувшись в свою нору, он открыл дверь на балкон, чтобы быть поближе к Сабине, и с удовольствием заполз в постель, словно в материнские объятия. Что может быть благословеннее утреннего сна, в предвкушении жаркого дня на венецианских каналах? Он встанет поздно, погуляет, позавтракает среди каменных галерей, ставших вдвойне прекрасными благодаря встрече с Сабиной. Однако в отличие от нее, Сатклифф не обладал даром ясновиденья, и для него было полной неожиданностью, когда в залитом солнцем кафе официант подал ему конверт. Он догадался. И, увы, не ошибся. Сабина сообщала, что должна вместе с отцом покинуть Венецию. (Неужели забыла, что ее старикан говорил зеркалу?) Довольно небрежно выразив надежду на встречу в будущем, она грозно приписала: «Я не позволяю себе ни к кому привязываться».
Если бы Сатклиффа спросили, почему он горько рассмеялся и ударил шляпой по колену, он бы процитировал Флобера: «Je ris tout seul comme une compagnie de vagins alterés devant un régiment de phallus».[104]104
Я смеюсь в полном одиночестве, как рота алчущих влагалищ при виде полка фаллосов (фр.).
[Закрыть]
Именно там и тогда он решил, что Венеция – сплошные развалины, и нужно немедленно ехать в Авиньон. Не оставляя себе шанса передумать, он послал Тоби телеграмму и отправился нанимать машину.
В маленькую красную записную книжку Сатклифф записывал мысли, приходившие в голову, безостановочный музыкальный поток. Перечитывая записи, он часто не улавливал их смысла, тем не менее продолжал твердо стоять на своем: писатель должен быть мужественным и записывать даже то, что не очень понимает. Где-то ведь это «понято».
Например, что-то в таком роде.
…Великолепный урок щедрости. Ясно, что я для нее не вариант – слишком стар. Курдючный писака.
В голосе Трэш отзывается обжорство обильно проканифоленных смычков. Куря сигарету, она кашляет, как туба. Лунное мерцание ее теплоты, эмфизема радушия. Сказала: «У Робина хватит чувства сострадания, чтобы вести корабль, милое дитя». Увы.
Мы сидели с Сабиной на набережной в ресторане «Квартила» и наблюдали за падающими звездами – наши любящие сердца воспламенялись одновременно. «Смотри!»
Как в смерти, так и в снах люди стареют с разной скоростью, и нелегко математически точно рассчитать нахождение vis-a-vis со смертью в каждый определенный момент. Человек то приближается к ней, то уходит от нее, если он художник. Мне известно только это племя.
Ее смех всегда звучал болезненно, а объект должен был быть исключительным (Пиа).
Пахнущая мускатной дыней кожа и маленькие невидящие глазки с катарактами (цыганская шлюха), как церковь с окнами из перламутра или (Каир) из промасленной разноцветной бумаги.
Несчастные сердца заперты в телах из золотого праха, позаимствованных у нимф.
Слепая женщина, которую забила до смерти ватага детишек, игравших в жмурки. Мне поведал о ней врач, а когда я стал выпытывать подробности (его вызвали к ней), он сказал: «Она была очень толстой, а если принять во внимание cor bovinum,[105]105
Бычье сердце (лат.).
[Закрыть] то у нее наверняка случился разрыв сердца».
Эпистолярная альфа бета фита… милая гримаса прикушенных экзотических губ.
Трэш – Президент!
Робин – Бескрылая Победа!
Пиа – Папа Иоанн
Подавляемая любовь этих двух женщин вызывала у него безумную зависть. Он умирал от голода, нет, калечил себя собственными фантазиями. Его приводила в ужас мысль, что ему придется воспользоваться грозным оружием болезни.
Глубокая рана от консервного ножа на руке официанта – артериальная кровь, высыхая, становится пурпурной, как чернила императоров и пап.
* * *
Через пару дней удивительный человек сел за руль небольшой машины, и она, гудя, бурча, хрипя, покатила по Ломбардской равнине в сторону Прованса. А удивительный он, потому что все еще живой и все еще способен улыбаться. Удивительный, потому что он – величайший из великих!
СТРАННОЕ ПИСЬМО
Изумительное путешествие в маленьком тупоносом «моррисе». Остались позади и плюмаж из белой благоухающей пыльцы на цветущих оливах, растущих вдоль дороги из Ломбардии в Прованс, и неприятности с мотором, и никчемные разговоры с промасленными механиками, новыми хозяевами нашей цивилизации. Так Сатклифф и ехал…
Покрыт рябью…
Унесен светом…
Рассеян молвой…
Сохранен по недосмотру…
Повешен, утоплен, четвертован с Общего Согласия…
Такой путь прошел бедняга Сатклифф…
Чего только не наслушаешься от бывалых механиков, заматеревших и много в чем понаторевших, которые окружают работающий на бензине мотор страшной тайной. Бензином благоухали пыльные дороги в Верфель, где я рассчитывал, встретившись с младшим братом, обновить чувства, привязывавшие меня к его старшей сестре, которую он обожал. (Милая, грустит Роб, как кот.) Разве есть на свете большая радость, чем лечь под машину с человеком, который может объяснить, как работает маховик, и что при этом происходит?
Благословенная грязь гаража,
Крепкие парни все в масле и мыле
Любовно оттирают шестеренки, -
Как матери когда-то – их пеленки,
Сыночков милых от мужей постылых.
Они все те же, хоть давно не дети.
И потому так любят игры эти
С машинками, от коих – ни на шаг.
В своей новой книге я должен написать что-нибудь во славу мотора.
– В грязи лежит думающая машина! – восклицает Рочестер.[106]106
Рочестер, Джон Уилмот (1647–1680) – английский поэт, фаворит Карла Второго.
[Закрыть]
– «А ведь машина эта Гамлет», – в загадочном «первом кварто» Гамлет кричит Офелии…
Пожалуйста, никаких литературных аллюзий.
Прошло несколько дней, и меня немножко огорчают натянутые отношения с юным Брюсом; мы учтивы и доброжелательны друг с другом, но все же легкая напряженность напоминает мне, что я много старше этой троицы. Никто вслух не вспоминает о Пиа. Несмотря ни на что, юный Тобиас полон жизни и внушает мне надежду. А вот троица – не знаю почему, производит странное впечатление. Они поглощены своими отношениями, которые со стороны выглядят на редкость романтичными, но на самом деле невероятно осложнены путаницей в их чувствах. Но о них я писать побаиваюсь, не уверен, что смогу до конца осмыслить ситуацию, которая даже для них самих загадочна и двусмысленна – аномальна. Сдается мне, что по сути вся эта романтика отдает фальшью – ведь любовь, какая бы она ни была, неизбежно порождает ревность к сопернику. В этом я уверен. И все же, судя по пространному объяснению, которое Тоби вырвал у них и передал мне, в этом треугольнике никто никого не ревнует. Брат и сестра… на редкость красивые и страстные! А Брюс – этакий белокурый крепыш, он совсем никакой рядом с ними. А те словно сошли со страниц поэм старика Лафорга.[107]107
Лафорг, Жюль (1860–1887) – французский поэт.
[Закрыть]
Утренние часы я провожу на высоком балконе, с которого видна оливковая роща на повороте. Юный Пьер в это время сидит в позе лотоса перед небольшой деревянной беседкой, увитой розами. Каждое утро он медитирует, как индиец и говорит об этом с нежностью и важностью. Девушка тоже занимается медитацией.
Средиземноморье поначалу, пока не очень его знаешь, кажется каким-то ненастоящим, словно иллюстрация к сказке, но это быстро проходит, стоит лишь немного ближе познакомиться с его жителями. Начинаешь понимать душу Прованса: насколько он древний, замкнутый и неиспорченный, и насколько он не похож на остальные районы Франции! Пожалуй, средиземноморцы – это совершенно особая нация. На эту мысль наводит их бесстыдное язычество и продукты из оливковых рощ. Прованс менее развит, там суше и жарче, чем на севере; он следующий после Валенсии, где растут оливы и где впервые вдруг замечаешь, что исчезли сметана и сливочное масло, а их место заняло оливковое масло, которое придает Средиземноморью характерную особенность. Верно, чтобы подтвердить мои неожиданные открытия, здешние жители неизменно улыбчивы, по-старомодному учтивы и никогда не спешат. Время принадлежит им, потому что в Провансе время определяют не по часам, которые правят жизнью нас, северян.
Сам Авиньон грязноват и постепенно чахнет, здесь потрескавшиеся тротуары, копающиеся в отбросах кошки, обглоданные веками стены – в некоторых местах бастионы стерты чуть ли не до фундамента, как зубы у древнего старца. Беспорядочные груды веток на крышах – вороньи гнезда; ощущение неприбранности и запустения из-за них усиливается. Более того, место со звучным названием Авиньон – обыкновенная деревня, которая при определенных погодных условиях и при определенной фазе луны напоминает затерявшееся в степи селение. Это я цитирую Тоби – он рассказывал мне, как провел в Авиньоне зиму, и, естественно, не забыл упомянуть речку с позвякивающими льдинками. Не один век миновал с тех пор, как всем тут заправляли папы. Их богатства и безудержный разврат диктовали совершенно особый стиль жизни, которая и создала довольно грязную репутацию этому городу. Порок и преступность расцветали в Авиньоне так же пышно, как торговля шелком и колоколами. День за днем длинные, овеянные шелковыми стягами процессии прокладывали путь между монументами. Звонили церковные колокола, гремели ружейные салюты – их грохот, да еще шелест птичьих крыльев нарушали покой реки со знаменитым мостом. Все исчезло, а неизбывная вульгарность и претенциозность архитектурных сооружений остались, и они бьют по глазам, лишенные прикрытия из шелковых знамен и множества сверкающих свечей.
Целая вечность отделяет нас от Петрарки, который, вздыхая, плача и дряхлея, писал стих за стихом, и были они сдержанно-бесстрастные, похожие на удары метронома в черепе, обтянутом усыхающей кожей. И все же я верю в великую любовь, мгновенно сразившую его, как она сразила Данте. И пусть Фрейд заткнется со своей сигарой. Музой настоящего поэта должна быть совсем юная девушка, хотя кое-кто считает, что ему следует пылать нелепой страстью к allumeuse[108]108
Кокетка (фр.).
[Закрыть] из среднего класса; не дай бог такую судьбу! Представляете, он берет ее в жены и понимает, что это все равно, как носить, не снимая, промокшие ботинки? Хороший писатель, наверняка, оценил бы этот сюжет.
Прогуливаясь в компании юного Тобиаса, я был очарован обычной для Средиземноморья роскошью флоры и фауны, норовящих отвоевать каждый дюйм пространства. Беседки утопали в розах и жимолости, зеленый плющ обвивал статуи, оставляя для обозрения разве что щиколотку, в трещинах на стенах птицы вили гнезда, и от их беспрерывных полетов туда-сюда начинало казаться, что ты попал в самую глубь девственных джунглей. Соловьи – сразу в дюжину голосов – распевали во влажных рощах, где по зеленому мху струились ручейки, выплескивавшиеся из переполненной чистыми весенними водами реки. Благодатное счастье, даруемое щедрыми опекунами – нимфами и речными богами. Когда-то богиней была и Рона. Воздух тут шелковистый, прохладный. Тишина в уединенных меловых и известняковых долинах с фиолетово-красной землей – признак большого количества бокситов, как мне сказали умные люди. Дороги присыпаны летучей пылью – мельчайшими крупинками глины, высохшей под жарким солнцем. Высокие изогнутые небеса напоминают об Аттике и, словно огромные паруса, то наполняются, то никнут под ритмичным дыханием хулиганистого ветра, мистраля, который сплющивает оливы, превращая их в серебристо-серые ширмы, который гнет кипарисы, будто былинки, и провоцирует взрыв налитых бутонов миндаля и слив, этот весенний артиллерийский залп. Стены покосившейся студии, в которой меня поселили (на случай, если я захочу побыть в одиночестве и заняться работой), увешаны пожелтевшими фотографиями, которые и побудили меня насладиться кратким описанием пейзажа – в общем-то на них то, что я вижу из своего высокого окна, когда смотрю поверх парка в сторону Альпия или красных черепичных крыш Авиньона. Эти побитые временем бордово-коричневые терракотовые ступени плавно спускаются к белой, похожей на шрам, реке. Погода стоит великолепная, солнечная; совсем не холодно. Работа? Почти все время мы – Тоби, Брюс и я – просиживаем перед огромным камином, жуя каштаны. Натянутость, которую я ощущал вчера, сегодня почти исчезла; на душе у меня легко – свидетельство того, что сюда меня пригнало одиночество. Таковы издержки преимущественно «бумажной» жизни; лучшие мои друзья – это мои корреспонденты, которых я обожаю, поскольку редко вижу, а то и не вижу совсем. К примеру, почтенная герцогиня Ту почти каждую неделю присылает мне многостраничное письмо, в коем излагает суть своей философии, которая сводится к приятному и аморальному разочарованию. Она курит длинные зеленые сигары и когда-то играла на банджо в посольском джаз-оркестре. Меня завораживает ее как будто рассеянный тон – очаровательная старая дама пытается писать мемуары в нарочито бессвязной манере; когда поток воспоминаний перехлестывает через все плотины, излишки она выплескивает на страницы, которые посылает мне. Таким образом, я вижу, как выстраивается ее книга, и наслаждаюсь рассказами о путешествиях и разочарованиях, накопившихся за долгую жизнь. Больше никто из моих знакомых старушек не торчит каждое лето в маленьком чешском городке. Тем самым она отдает дань своей десятилетней любви, конец которой положила смерть. Чехия! Соловьи в рощах и колдовской певучий язык.
Я часто писал ей, пока жил в Вене, и произвел на нее впечатление, главным образом тем, что забавлял курьезными деталями психоанализа. Например, во сне все телесные отверстия считаются равнозначными. На немецком языке влагалище – ухо между ногами, и в некоторых кругах девушек побуждают слушать клитором! Милая старушка этого не забыла.
Вот так я понемногу объясняю себя самому себе – кто еще будет слушать? Возможно, другая часть моего «я» появится в каком-нибудь списке жизнеспособных «я»; та часть, которую мне хотелось «инвестировать» в мою бледную прелестную Пиа. Ничего нет глупее таких инвестиций! Радостный старик-доктор «инвестировал» в меня особый, еврейский пессимизм и мономанию.[109]109
Болезненная склонность к одиночеству.
[Закрыть] Мы имеем дело с гибнущим рынком, и наши скромные вложения год от года обесцениваются. Иногда меня одолевает искушение разразиться риторикой о фондовой бирже, описать фонды или капитал как, скажем, «зрелый» или «плодоносный», словно речь идет о садовых культурах. Чем неудобен личный дневник? Тем, что его единственная функция (как скрипичных гамм) – тренировать руку пишущего, и определить, кого именно ему предстоит развлекать, практически невозможно. В другой жизни бедняга Сатклифф, наверняка, посмеется над своими одинокими остротами. А пока они заполняют время перед ланчем: дни перед смертью.
Среди обитателей Верфеля самые замечательные – его владельцы, брат и сестра. В них чувствуется благородство, и в облике и в речах; в аристократах всегда есть что-то беззащитное, хрупкое, нежное. Мы знаем, что ничего не можем для них сделать; и остается только радоваться им, а это бывает трудно, потому что частенько они настоящие исчадия ада.
Тоби рассказал мне про их тайну, и, если честно, для нашего пуританского времени их отношения весьма необычны. Кстати, в них чувствуется незавершенность, неопределенность. Меня всегда пугает и настораживает слово «любовники». В последней моей книжке начала было вырисовываться похожая парочка, но пришлось от нее избавиться, потому что постепенно она лишилась всякого правдоподобия. Интересно, почему? Пьер и Сильвия не лишены эгоистической осторожности, детьми предпочитают не обзаводиться. Они сами немного напоминают заблудившихся в лесу малюток. Застряли в этом огромном доме, в своих обширных владениях, которыми они пренебрегают по незнанию сельской жизни. Третий малыш – Брюс, он и придает ситуации уникальность, хотя все трое ведут себя очень естественно, никакого зажима, словно ничего не может быть банальнее. Я думаю то о Брюсе, то о Пиа – об их извращении; и потихоньку разжигаю в себе огонь ревности, ведь они благодаря этому извращению познали счастье. И тем не менее… Как усомниться в искренности горя Пиа из-за ее разбитой любви ко мне? Я наблюдаю за юным студентом-медиком, который неторопливо курит трубку, играя в шахматы с Пьером, а ведь они соперники. Девушка гуляет, читает, плавает в реке, играет на огромном рояле. Однако старый шато живет нерадостными предчувствиями; очень скоро из-за катастрофической нехватки денег его обитателей ждет разлука. Пьеру, скорее всего, придется служить, и от этого он печально-задумчив. Тонкокостный, хорошо сложенный юноша, истинный француз по характеру, он горяч, как породистая лошадка, и пылок во всем, включая дружбу. С тех пор, как я приехал сюда, у меня есть все. Мне легко с ними обоими, потому что Пиа они знают лишь по имени. Рассказывая о нежном отношении всех троих к Тоби, Брюс употребил довольно интересное сравнение – со свободной от сексуальной компоненты дружбой геологов или альпинистов, путешественников, связанных общей целью.
Прекрасно, но…
Каждый вечер, по заповедной традиции, человек тридцать сходятся в огромной центральной зале на патриархальный обед. Столы по-монастырски сдвинуты в длинный ряд, что придает помещению вид монашеской трапезной. С нашей стороны один стол поставлен поперек; но едва сидящие в дальнем конце слуги или расположившиеся во главе стола доны, то есть хозяева, приступают к еде, как за разговорами и добрым вином все постепенно начинают перемещаться. Вот Брюс отправился к старой даме, насколько я понимаю, домоправительнице, и тут же косматый старик-лесничий занял его кресло и принялся с жаром что-то втолковывать Сильвии – насчет фазанов. Вокруг снуют дети, словно в неаполитанском соборе. На покрытом циновками полу чешутся собаки и скачут блохи.
Голоса вольно, словно голуби, летают по зале. И поскольку все говорят с сильным местным акцентом, то мой аккуратный французский язык звучит здесь неестественно. Каждое утро во время бритья я практикуюсь в здешнем произношении – повторяю «ипе sauce blanche»,[110]110
Белый соус (фр.).
[Закрыть] словно в каждом слове по два слога: этот латинизированный выговор пришел из населенных нимфами рощ, и в нем слышится отзвук Италии и Испании. Конечно же у средиземноморцев свой, достойный гордости, фольклор и много примитивной народной поэзии, всякие тили-бом-кошкин-дом, никаких отвлеченных понятий, отчего явление по имени Валери кажется неразрешимой загадкой. Что же до остального, то добавлю: здешняя природа нас поглощает, а здешние обычаи и суеверия напоминают о языческих истоках великолепного моря, которое, так или иначе, влияет на нашу жизнь, этакая грандиозная бухта.
Здесь (в отличие от Италии) у тебя нет ощущения, будто рядом постоянно маячит католический священник, и надо отдать должное священникам местным: вид у них виноватый, словно они просят прощения за свое присутствие в этом краю олив. Но есть и духовные утешения, например, засветившийся в ночи остроугольник семизвездных Плеяд. Пьер рассказал мне, что местное население считает, что звезды (как на гравюре) – «напрысканы» на небо. Долгими вечерами мы играем в большие кегли на лужайке перед главным крыльцом, и к нам с важным видом присоединяются старый лесничий и управляющий. Поздно ночью, наверное, ближе к рассвету, в лесу начинают истошно кричать павлины. На рассвете загорелая девушка, взяв ружье, тихо идет в окутанную туманом рощу, а в это же время в нижних слоях тумана приходит в движение невидимая отара агнцев. Почему здесь так все спокойно? Почему все острее чувствуешь? Может, оттого то я горожанин? Во дворе Тоби совершает торжественный ритуал мытья головы. Завернувшись в белую простыню, он сидит на скамеечке, и доярка, успокаивающе приговаривая «ш-ш-ш», трет ему затылок и макушку, как будто скребет лошадь, savon de Sauveterre, это то же мыло, которым стирают белье, оно медового цвета. Потом в ход идет уксус, от которого волосы Тоби становятся легкими и пушистыми и вздымаются, словно ангельский нимб. Он даже вынужден просить у Пьера берет.
От бессонницы, боли в животе, даже от красного носа тут пьют травяные чаи – поистине чудодейственные, однако юного Тоби явно влекли иные снадобья; после проведенной в Авиньоне ночи он выглядит так, будто старческая осень до краев наполнила все его клеточки дождем и туманом. Ему удалось отыскать цыганский бордель, совершенно колдовской, с музыкой и дамами, у которых волосы, как вороново крыло. И теперь он намерен отвести туда меня, чтобы избавить от мук долгого воздержания.
Традиционные наряды Арля стремительно выходят из моды, но пожилые дамы с гордостью продолжают их носить; заплетенные в миллион крысиных хвостиков и украшенные монетами волосы они покрывают высоким плиссированным чепцом из белоснежного льна, похожим на корону критской королевы, надевают обязательную темную юбку, белоснежный фартук и fichu – яркие ленты. (Этот портрет домоправительницы взят из жизни.)
Любить, а потом спрягать этот великий и простой глагол… У некоторых отлично получается и то, и то. Вот если бы можно было насладиться привилегиями трубадура, который имел право любить королеву и, наверное, недурно проводил время в отсутствие господина. Droit du jongleur.[111]111
Право жонглера (фр.).
[Закрыть] Говоря откровенно, именно таков удел Брюса в его безмятежных отношениях с Пьером и Сильвией. Правда, сам он воспринимает это иначе. Позднее, когда я все еще размышлял о несвятой троице, на меня вдруг снизошло озарение. Неожиданно в этом союзе троих детей я увидел воплощение всеобъемлющего и единого «я», или символ этого понятия. Традиционно двойственной фигуре нашей космологии я противопоставил тройственную фигуру, составленную из двух партнеров-мужчин и одной женщины, по-моему, именно так принято у гностиков. «В жизни романтиков случаются только романтические события». Эта цитата навела меня на неприятные воспоминания о моих собственных романах с тщательно выписанными декорациями и любовной мотивацией действующих лиц. Полагаю, я еще не созрел, чтобы писать о Другом, что я мысленно поместил в регионе, на демаркационной линии которого стоит слово «Бог». Наверное, поэтому мне то и дело слышался отзвук Аккадовых рассуждений о мертворожденном Боге, о выкидыше. Вообще-то я всегда ощущал тяжесть в той части меня, которую символически называл сумкой, примерно, такой как у кенгуру, – своей маткой, если угодно. Там находится что-то мертвое и кляклое, как рождественский пуддинг, что никак не родится на свет. Сколько отрав я перепробовал, чтобы спровоцировать необходимое сокращение сумки – даже мертворожденное чадо лучше, чем ничего. Увы, когда я иду, это качается во мне как непереваренный рождественский пудинг, начиненный шестипенсовиками и украшенный падубом и крошечными британскими флажками – наша лютеранская, так сказать, кишечная культура, наша нутряная копилка, хрюшка с презренными накоплениями… Уже поздно, но крепкая наливка, которую мы пили после обеда, спровоцировала в моем мозгу неистовый мыслительный процесс, и вот до чего я додумался.
Очевидно, жестким разделением полов в нашей культуре мы обязаны моногамии, моносексуальности и связанными с ними табу. Свершилось надругательство над природой. Типологической парой, которая с тех пор доминирует в нашей психике, стал сотворяющий младенца дуэт, муж и жена, основатели города. А теперь грядет великая революция – хвала Мари Стопс,[112]112
Стопс, Мари (1880–1958) – доктор биологии, организовала первую в Англии клинику контрацепции.
[Закрыть] которая, благодаря открытию противозачаточных средств, освободила женщину от сексуальных пут и восстановила ее уважение к себе и свободу. Размыта граница между полами, мужчина становится женственным, а женщина – мужественной. В этом контексте мое трио любовников, возможно, прототип новых биологических отношений, которые предвещают появление другого общества, основанного на свободе женщины. Матриархат?
Интересно.
Но – сомневаюсь.
И что важно-то: они глубоко раздражают меня, заставляя думать об очень важных для писателя проблемах: в частности, как убедительно их изобразить, сделать их реальными и доступными для читательского восприятия. Ничего не получится. Победит романтический стереотип, потому что они есть то, что есть – юные и прекрасные. Мне необходимо их понять, чтобы избежать фальши – а они все время ускользают, ставят меня в тупик. Может, их как-то изменить, и тогда в целом картина станет более натуральной? Например, сделать из Пьера тучного низенького крестьянина с мокрыми губами и бегающими, как у пьянчужки, глазками. Сильвия пусть останется красавицей, но глухой, и чтобы высохшая нога. Что же до Брюса, деревенского врача – ему бы волчанку на лицо и шею, бордовые отметины… Да, так, пожалуй, неплохо. Увы, это скорее в духе Золя.
Вечером Сильвия и Пьер музицировали в четыре руки, а Брюс, не отрываясь смотрел в огонь, слегка опечаленный разговором за обедом, когда Пьер упомянул о надвигающемся кризисе, из-за которого возможно кардинальное изменение их жизни и даже разлука. А я… я втайне им завидовал – казалось, у них здесь, в Верфеле, есть все, чего можно желать. Моя троица владела философским камнем. Или я просто завидовал их юности?
Весь день бушевал ливень с ураганом, отчего заметно похолодало, и в зале зажгли камин. Именно здесь меня угораздило прочитать им «удивительное письмо из Александрии», как потом его называл Пьер. Оно пришло, разумеется, от моего друга Аккада, и в нем было много доводов в защиту гностической веры, вот только зачем ему понадобилось писать об этом мне? Ведь он знал, что я насмешник и скептик, и ни за что не ввяжусь в какую-то ересь, полюбившуюся кучке чумазых азиатов. Думаю, Пьера несколько шокировала моя многословная тирада, когда я откровенно изложил ему свои взгляды. Ему-то самому письмо доставило несказанную радость; похоже, мысли Аккада совпали с его собственными. Итак, в письме говорилось о сладостной жизни до Падения, то есть до Потопа: до того, как началось фатальное движение в сторону смерти, ставшее реальностью наших дней.
Аккад писал: «Да-да, некоторые моменты в прошлом можно вообразить с такой же точностью, с какой мы можем утверждать, что после сегодняшнего дня непременно настанет завтрашний. Происходили радикальные смещения акцентов – не менее значимые, чем в другие исторические периоды, отмеченные, скажем, сожжением Коперника или падением Константинополя, когда равновесие нарушалось не в пользу духа. Намеки на это можно отыскать в старых мифах. Изменилась ось человеческой восприимчивости – словно где-то растаяли полярные льды, невидимые и неведомые. На смену древней растительности пришла наша новая металлическая растительность, расцветшая бронзой, потом железом, потом сталью – началось постепенное затвердение артерий. Таблица сущностей уступила место таблице элементов. Философский камень, Святой Грааль древнего сознания, уступил место агрессивному золотому слитку, который стал новым правителем души; и раб, возомнивший себя свободным, начал оценивать свою силу монетой, капиталом, давая волю всей своей сатурнианской сущности. Воссияло сладкое темное ростовщичество. А свобода, которая есть всего лишь право тратить – прототип оргазма – была взята в кандалы сначала мысленно, а потом и физически. Способность к накоплению, к ростовщичеству проникла в сперму мужчины, вот он и принялся возводить культуру на соответствующем фундаменте – способности собирать, удерживать, запасать. Все это сродни насилию. Потом начались периодические кровопускания в виде войн с их символикой стального оружия – выточенное на станке яйцо смерти так же просто для понимания, как пенис и влагалище. Эта жаждущая смерти культура могла быть доведена до совершенства и пресуществлена только через самоубийство. Новое причастие требует крови, а не спермы, оплодотворяющей вселенную. Теперешний императив – копить золото и проливать кровь, против этого и восстает наше маленькое братство гностиков; не поднимая шума, мы делаем свой выбор, где можем и когда можем, отправляя наших детей даже на смерть. Сперма против монеты.
Кардинальное смещение акцента в сторону крови и золота повлекло за собой многие другие, иногда ужасные. Двойственность, например, стала основным принципом не только в философии, но также в языке, основной элемент которого, слово, оказалось во власти могущественной дихотомии. Когда изменились все соотношения и связи, смерть стала обязательной, неизбежной и не зависимой от выбора, каприза или психического состояния человека. Прежде у него был, так сказать, свой кусок пирога, который он помаленьку и жевал. Зачем умирать, если знаешь, как жить, не мучая себя – можно было перейти временной барьер и впасть в глубокую спячку самоотвержения, которая известна мудрецам Востока, отчасти, ибо и они не знают бессмертия. Однако то, о чем я говорю, – не плод человеческих усилий, не результат медитации и не достижение гения. Это так же общедоступно, как необязательно. Нам, совершенно раздавленным нынешней перевернутой системой ценностей, трудно вообразить тогдашнюю свободу. Я слышу, как с макиавеллиевским ехидством хмыкает месье Князь, читая это из-за моего плеча. Вы скажете, будто в качестве временного победителя Бога он живет лишь в нашем воображении: на самом деле, это карнавальная маска или тотемный символ, которым тамплиеры, по-видимому, заменяли крест. Но разве то, что мы с такой ясностью воображаем, не достаточно реально? Всегда полезно иметь наглядный образ для обладателя смятенного и неразборчивого ума – отсюда иконы и алтари, святилища и гермы.[113]113
Гермы – в древней Греции груды камней или столбы, которыми отмечались места погребений (в честь Гермеса – проводника душ умерших).
[Закрыть] Итак, мой милый Роб, если вы встретите на улице ангела, будьте повежливее и снимите шляпу, как Сведенборг;[114]114
Сведенборг, Эмануэль (1688–1772) – шведский ученый и теософ-мистик.
[Закрыть] а если он опустится, как голубь, на вашу голову, скептик, то имейте в виду, это ангел Блейка или Рильке и его должно кормить поэзией, манной первых посвященных. Да-да, Роб, был другой мир! Иногда его видишь слишком ясно. Те, кто тогда отказывались от жизни, делали это с молчаливым облегчением, как рулевой, который бросает тяжелый штурвал и счастлив возможностью уйти с вахты. Другими словами, ключевым посылом было оправдание смерти, которая всегда, так или иначе, живет в нашей душе, она может быть осмыслена и использована, как электрический заряд или двигатель – философский. Неспособность найти смерти оправдание иссушает душу. Сегодня же смерть для нас – это преддверие ада, заселенное живыми существами.
Итак, мы верим, что мир, благотворными силами которого так часто злоупотребляли, который уже больше похож на собственную тень, все еще возможен в изначальной своей сути для немногих счастливцев, для меньшинства, чей долг защищать свое дело, сражаться за Фермопилы духа до тех пор, пока некий благословенный разворот вспять не расставит все по-прежнему, и тогда появится надежда на то, что человек не превратится в соляной столб, если посмеет обернуться и взглянуть на правду. Можно ли воочию увидеть правду? Да. Мы в это верим. По другую сторону тьмы и бездны нашего сегодняшнего отчаяния горит слабый свет, хотя вечно кажется, что он вот-вот погаснет. В мире существуют две противоборствующие силы, и преимущество на стороне черной, которая может добиться окончательной победы. Когда я впадаю в отчаяние, подобный исход кажется мне наиболее вероятным. Что может изменить ситуацию? Ничто, скажете вы. Однако есть такое «ничто», которое, если отнестись к нему творчески, даст живительный кислород, а не отнимет его, которое скорее плодотворно, чем бесплодно. Но сначала надо храбро посмотреть в лицо правде: Бог либо умер, либо изгнан, и власть узурпирована злом. Такова наша позиция».








