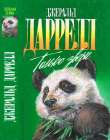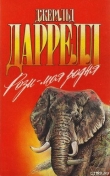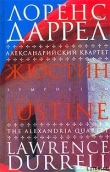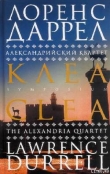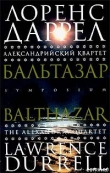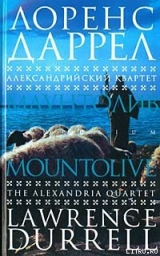
Текст книги "Маунтолив"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
«Я сделаю так, как считаю нужным, а если не увижу в нем толку, кто помешает мне в любой момент его отослать?»
Кенилворт сглотнул осторожно, как жаба под камнем, и медленный его, лишенный всякого выражения взгляд зацепился за случайную точку, за узор на обоях. Тихий шепоток лондонских вечерних улиц просочился в комнату и повис между ними.
«Ну, мне пора, – сказал Маунтолив, ощутивший уже первый легкий приступ неприязни к самому себе. – Заберу все эти папки с собой – я еду за город завтра вечером. За сегодня и за завтра покончу со всеми формальностями, а потом… смею надеяться на отпуск. До свидания, Кенни».
«До свидания». – Но с места он подниматься не стал.
Когда Маунтолив вышел, он кивнул, чуть улыбнувшись, закрывающейся двери, затем со вздохом вернулся к аккуратно перепечатанной докладной записке Эррола, подшитой в папке с надписью «К сведению назначенного в должность посла». Прочитав пару строк, он устало поглядел в темное окно, затем встал, вышел из-за стола, задернул шторы и снял телефонную трубку.
«Соедините меня с архивом, пожалуйста».
Мудрее будет – на данный момент – не слишком настаивать на особом мнении.
Пустячная эта размолвка имела, однако, свои последствия: Маунтолив не стал звать Кенилворта с собою в клуб, как намеревался. И сделал это с некоторым даже облегчением. Взамен он позвонил Лайзе Персуорден и пригласил ее пообедать вместе.
От Лондона до Дьюфорд Мэллоуз езды было от силы часа два, но стоило им выехать за город, и стало ясно, что сельская Англия заметена снегом – вся. Им пришлось сбавить скорость почти на нет, Маунтолива обстоятельство это привело в восторг, но водитель дежурной машины был просто вне себя от ярости.
«На месте будем к Рождеству, сэр, – сказал он, – и то, если повезет».
Деревеньки ледниковой эры, крытые соломой амбары и дома, обновленные снегом, словно вчера лишь созданные – для витрины – неким гением кондитерского дела; белые излучины лугов, испещренные, будто клинописью, отпечатками лапок птиц и выдр, тяжкими кляксами коровьих следов. Окна автомобиля понемногу заплывали наледью. Цепей на колесах у них не было, обогревателя тоже. Милях в трех от деревни они едва не наткнулись на застрявший в снегу грузовик, двое деревенских и какой-то еще человек в форме стояли рядом и дышали на окоченевшие пальцы. Телеграфные столбы вокруг были повалены. На серо-голубом, с искрой, расчищенном от снега ветром льду Ньютонского пруда лежала мертвая птица – ястреб. Нет, в гору на Парсонс Ридж им вовек не взобраться: Маунтолив сжалился наконец над водителем и отпустил его – еще на шоссе, у пешеходного мостика.
«Мне уже недалеко, там, за холмом, – сказал он. – Дойду пешком минут за двадцать пять, не больше».
Шофер обрадовался несказанно и не хотел даже брать чаевые. Он осторожно развернул машину и поехал назад, на север, а Маунтолив, выдохнув плотное облачко пара, ступил на царственно белоснежный ковер.
Он пошел знакомой дорогой прямо через поле, поднимавшееся понемногу, все круче, к невидимому горизонту, похожее (память услужливо дорисовала то, чего не видел глаз) в изысканной простоте своей на передний план Кэвендиша. Привычный пейзаж стал вдруг таинственным, почти невероятным в призрачном свете невидимого солнца, плывущего где-то там, наверху, за непрозрачными наплывами то ли тумана, то ли низкой плотной дымки, – открывались, слой за слоем, дымчато-серые шторы, пропуская его дальше, и снова смыкались за спиной. Дорога полна была воспоминаний – однако, за недостатком видимости, ему пришлось самому по памяти восстановить две крошечные деревушки чуть поодаль, на гребне холма, густые березовые рощи, развалины норманнского замка. Он шел, словно косою снося налипшие на высокой траве шапки снега, брюки, вниз от колен, давно уже промокли, голени заледенели.
Из ниоткуда шагнула вдруг ему навстречу шеренга призрачных дубов, и вместе с деревьями пришел жестяной трескучий шорох, тихое сумеречное бормотание – у них словно зубы стучали от холода; с верхних веток срывалась время от времени пригоршня-другая снега и гулко падала вниз, на землю.
Он поднялся на гребень холма, и пространство ушло из-под ног. По сторонам с мягким шорохом прыснули кролики. Высокую остролистую траву под ногами мороз превратил в хрусткую шиповатую поросль. Время от времени проглядывал сквозь дымку бледный призрак солнца, роняя горсточки рассеянного холодного света, словно далекий газовый фонарь. Он ускорил шаг и, подойдя к высоким воротам у входа в имение, услышал, как застучали его каблуки о покрытие подъездной дорожки. Дубы возле ворот словно усыпаны были брильянтами; он вошел; с ветвей ближайшего дуба сорвались два жирных голубя и, оглушительно тарахтя крыльями, скрылись в тумане – как будто захлопнули разом тысячу книг. Он вздрогнул и улыбнулся. На выгуле, совсем рядом с домом, он заметил заячью лежку. Пробежался по ветвям деревьев ветер, осыпая с нервическим звоном сосульки, – будто разбили тысячу хрустальных бокалов. Он нащупал старый «йельский» ключ от автоматического замка и еще раз улыбнулся, повернув его в скважине, и шагнул через порог, в уютное тепло за дверью, полное не забытых еще запахов – абрикосов и старых книг, мастики и цветов; безошибочная тропка в тот мир, где остались «Петр Пахарь», и пони, и удочки, и альбом с марками. Он остановился прямо в холле и тихо окликнул ее.
Мать сидела у огня в той же самой позе, в какой он оставил ее в прошлый раз, с книгою на коленях, и улыбалась. Между ними давно уже вошло в привычку как бы даже и не замечать его исчезновений и прибытий: вести себя так, будто он всего лишь на несколько минут выходил из большой уютной комнаты, где проходило теперь едва ли не все ее время; она читала, или писала маслом, или же вязала у камина. И улыбалась она той же самой улыбкой – скроенной когда-то раз и навсегда, чтоб сцементировать пространство и время и закалить, как сталь, одиночество, хрупкий стержень ее обычной, без сына, жизни. Маунтолив поставил на пол тяжелый свой кейс и, шагнув к ней, невольно сделал смешной, почти детский жест.
«Бог мой, – сказал он, – я вижу, ты все уже знаешь. А мне так хотелось сделать тебе сюрприз».
Они были оба расстроены, и, поцеловав его, она сказала:
«Гранье заезжали на чашку чая на той неделе. Прости, Дэвид, мне тоже хотелось, чтобы твой сюрприз… Но я совершенно не умею притворяться».
Маунтоливу вдруг по-детски, по-идиотски захотелось расплакаться от обиды: он уже проиграл про себя всю сцену, ее вопрос, свой ответ, от начала до конца. А теперь вроде как сжег нечаянно пьесу, в которую вложено столько воображения, столько тяжелой работы.
«Черт, – сказал он, – как непредусмотрительно с их стороны!»
«Они просто хотели меня порадовать, такая новость. Ты только представь, как я была счастлива».
Но он уже снова ступил, оттолкнувшись легко, без усилия, от слов ее назад, в поток воспоминаний, связанных с домом и с ней, его унесло в такую даль, едва ли не к одиннадцатому дню его рождения, и счастливое чувство полноты бытия поднялось ему навстречу, словно теплая волна от пламени в камине.
«Твой отец будет доволен, – сказала она, чуть помедлив, голосом иным, чуть более резким от невольной, неосознанной нотки ревности, – отметка, памятка об уровне воды в былых когда-то половодьях чувства, давно уже перебродившего – нехотя – в молчаливую покорность судьбе. – Всю твою почту я сложила для тебя в его кабинете».
«Его» кабинет – кабинет, которого отец в глаза не видел. Отцово дезертирство всегда висело между ними, как прочнейшая из связующих нитей, из тех, что поминают редко, но помнят постоянно – незримый вес отъединенного его существования, вдали от них двоих, на другом конце света: в счастье ли, в несчастье, кто знает? «Для тех, стоящих на краю вселенной, не востребованных Богом, ни единым из богов, единственная истина звучит: сама работа есть Любовь». Странная отцова фраза в академическом предисловии к тексту на пали. Маунтолив взвесил на ладони, повертел в руках тяжелый том в зеленом переплете, обдумывая смысл слов и примеряя их к собственным воспоминаниям об отце: смуглый худой человек, худой, как изголодавшаяся чайка; на голове нелепый пробковый шлем. Сейчас, скорей всего, он носит платье индийского факира! Как полагается реагировать в подобных случаях – улыбкой? Отца он не видел с тех пор, как уехал из Индии, с одиннадцати лет; и отец стал кем-то вроде приговоренного in absentia [25]25
Заочно (лат. ).
[Закрыть] за преступление… которого и не сформулируешь толком. Тихое бегство в мир восточной мудрости, коему сердцем своим он и так принадлежал давно, долгие годы. Необъяснимо и странно.
Маунтолив-старший был плоть от плоти Индии уже ушедшей, старый служака из почти поголовно вымершей команды чиновников, сама беззаветная преданность которых общему бремени сделала из них своего рода касту, но касту, где товарищем по оружию, попавшим в плен к буддийской мудрости, гордились больше, нежели попавшими в плен к наградному листу. Сухая, безличная преданность делу как раз и вела обыкновенно к страстной самоидентификации с предметом, так сказать, заботы – с пространным этим субконтинентом, со всеми племенами его и кастами, с его дворцами, и верами, и руинами дворцов и вер. Поначалу обычный судейский чиновник, буквально за несколько лет он превратился в непревзойденного специалиста по индийской философии, издателя и комментатора редчайших, не изученных доселе текстов. Маунтолив-младший, на пару с матерью, уютно обустроился в Англии в ожидании скорой отставки отца и мужа и, следовательно, счастливого воссоединения; к славной сей дате готовился и дом, обставленный трофеями – его трофеями, его картинами и книгами, катализаторами грядущих саг о долгих годах безупречной службы. И если дом теперь и смахивал отчасти на музей, то исключительно из-за отсутствия протагониста, решившего остаться в Индии, чтобы закончить свои исследования, которым (они оба давно уже это поняли) закончиться суждено лишь посмертно. Что ж, не такой редкий случай в рядах этой расформированной и списанной на берег команды. Но случилось все не вдруг. Он думал долго, не один год, прежде чем пришел к окончательному решению, а потому письмо, в котором он решение это изложил, имело вид документа, проработанного до последней буквы. Фактически то было последнее полученное ими от него письмо. Хотя время от времени случалась оказия и какой-нибудь совершенно посторонний человек, заехавший мимоходом в буддийский монастырь неподалеку от Мадраса, избранный отцом в качестве постоянного места жительства, привозил от него весточку и маленькие знаки внимания. И конечно же, книги, сами по себе, прибывали пунктуальнейшим образом, в роскошных переплетах, с помпезными шапками университетских издательств. Книги были в некотором роде и алиби его, и апологией.
Мать Дэвида решение это приняла со всем возможным уважением и вот уже много лет едва о муже упоминала. Только лишь изредка незримый режиссер их общего сюжета возникал на заснеженном этом острове вот так, в упоминании о «его» кабинете, или в другой подобной же ремарке, которая, оставшись без комментария, испарялась обратно в таинственную (для них) область неизвестных величин, неучтенных факторов. Маунтолив так и не смог никогда разглядеть сквозь зеркальную поверхность чувства собственного достоинства даже намека на истинное положение вещей – насколько же глубоко задело мать отцово дезертирство. Однако между ними, при малейшем намеке на нежелательную тему, возникало острое, едва ли не страстное чувство неловкости, ибо каждый почитал другого обиженным.
Прежде чем переодеться к обеду в тот вечер, Маунтолив прошел в сплошь заставленный книгами кабинет, служивший заодно и оружейной, и вступил в формальное владение «отцовым» столом – процедура, которую он неизменно повторял в каждый свой приезд. Он аккуратно разложил по ящикам и запер свои папки и рассортировал корреспонденцию. Среди открыток и писем оказался пухлый конверт с кипрской маркой, адрес надписан был, вне всякого сомнения, рукою Персуордена. По толщине конверта судя, там должна была быть некая рукопись, и он, недоумевая отчасти, пальцами сломал сургучную печать.
Мой дорогой Дэвид, – гласила первая страница. – Не сомневаюсь, что удивлю тебя посланием столь объемным. Но слухи о твоем назначении дошли до меня буквально только что, и именно в виде слухов; есть целый ряд вещей, касающихся здешних обстоятельств, о которых я хотел бы сообщить тебе, не прибегая к официальным каналам и канальям (хм!) и к обращениям типа «Господин назначенный в должность посла».
Будет, подумал Маунтолив со вздохом, будет еще время переработать всю эту кипу; он отпер еще раз ящик стола и положил письмо среди прочих бумаг. Он посидел за столом еще немного в полной тишине, убаюканный пряным запахом чужих воспоминаний, живущих в этой комнате, во всем этом bric-а-brac [26]26
Старье, хламе, старых вещах (фр. ).
[Закрыть]: буддийские мандалы из какой-нибудь бирманской обители, лепчийские флаги, иллюстрации к первоизданию «Книги джунглей» в простеньких рамках, коллекция бабочек, всяческая мелочь, пожертвованная по обету в забытый какой-нибудь храм. На полках редкие книги, брошюры: допотопный Киплинг в изданиях Тэккера и Спинка, Калькутта, «родные» издания Эдварда Томпсона, Янгхазбанд, Мэллоуз, Дарби… Когда-нибудь какой-нибудь музей будет счастлив… И каталожные номера хранения вернут предметам этим утраченную было анонимность.
Он подобрал с конторки старый тибетский молитвенный барабан и крутанул его раз или два, вслушиваясь в тихий шепоток – по кругу – резной, из дерева коробочки, набитой до сих пор пожелтевшими полосками бумаги, на которых верующие вывели давным-давно, многократно, классическую фразу: Ом Мани Падме Хум. Случайный подарок, прямо перед отъездом. Когда до отплытия судна оставалось всего несколько часов, он упросил отца купить ему целлулоидный аэроплан, и они вдвоем буквально прочесали весь базар, однако же игрушки так и не нашли. И тогда отец остановился у первого попавшегося лотка, купил у торговца молитвенный барабан и сунул его Дэвиду в руки в качестве замены. Было уже поздно. Пришлось спешить. И прощание вышло какое-то скомканное.
А потом – что потом? Грязно-желтое речное устье под ошалевшим солнцем, радужная пленка полуденного марева скрадывает очертания лиц, дым от горящих причалов, мертвые тела людей, распухшие, синие, плывут по течению вниз… Дальше, еще дальше, память его дорожку забыла. Он отложил тяжелый барабан в сторону и вздохнул. Дрогнуло оконное стекло под порывом ветра, плеснула следом горсть снежной пыли, словно бы напоминая, где он, что он. Он вынул из ящика сборники упражнений по арабскому и толстый словарь. Им теперь судьба на несколько месяцев поселиться у его изголовья.
Ночью, как и следовало ожидать, его посетил домашний злой дух, принявший вид недуга, пунктуально сопровождавшего каждый его приезд домой, – сокрушительной боли в ушах, буквально в несколько минут низводившей его до собственной тени, скорчившейся, сжавши голову руками, в дальнем уголке кровати. Это была своего рода загадка, ибо ни один врач не смог до сих пор не то что излечить, но поставить хотя бы мало-мальски внятный диагноз касательно мучительных ночных приступов. Нигде, кроме как дома, он ничем подобным не страдал. Как обычно, мать услышала его стоны и поняла из прежнего опыта, что они означают, она материализовалась из темноты у постели страдальца и принесла с собой невыразимо сладостную негу забытых слов и ласк и свое обычное лекарство, помогавшее в подобных случаях безотказно. Оно теперь всегда стояло у нее под рукой, в буфете, рядом с кроватью. Салатное масло, нагретое в чайной ложечке на пламени свечи. Он почувствовал, как скользнула теплая капелька масла куда-то глубоко и набальзамировала мозг, а голос матери из темноты ласкал его и обещал покой. Понемногу тяжелые волны боли утихли, вымыв его, так сказать, на плоский берег сна – сна, пробираемого приятной легкой дрожью воспоминаний о детских болезнях: и эту ношу мать разделяла с ним – они даже и заболевали одновременно, словно из сочувствия друг к другу. Неужели и впрямь когда-то они могли лежать в соседних комнатах, переговариваться через открытую настежь дверь, читать друг другу, делить на двоих роскошь совместного выздоровления? Он уже и не помнил наверняка.
Он уснул. Прошла неделя, прежде чем он взялся за официальные бумаги и прочел письмо от Персуордена.
5
Мой дорогой Дэвид,
не сомневаюсь, что удивлю тебя посланием столь объемным. Но слухи о твоем назначении дошли до меня буквально только что, и именно в виде слухов; есть целый ряд вещей, касающихся здешних обстоятельств, о которых я хотел бы сообщить тебе, не прибегая к официальным каналам и канальям (хм!) и к обращениям типа «Господин назначенный в должность посла».
Уф! Что за скука! Ты же знаешь, как я люблю писать письма. И все-таки… Меня к моменту твоего прибытия почти наверняка здесь не будет, ибо я предпринял ряд шагов с целью смыться. После серии хорошо продуманных пакостей мне удалось наконецубедить беднягу Эррола в том, что я не вписываюсь в штат той миссии, которую имел честь украшать своей персоной на протяжении всех этих нескончаемых месяцев. Месяцев – что я говорю! Я прожил здесь полжизни! А Эррол – сам по себе – столь хорош, столь честен, столь незаменим; чудной такой козлообразный индивид: стоит поговорить с ним пять минут, и тебе уже не отделаться от впечатления, что и рожден он был из казенной части. С какой неохотой он очернил меня в своем отчете! Прошу тебя, ничего не предпринимай, чтоб воспрепятствовать моему переводу, каковой должен засим последовать,ибо это соответствует моим сугубо личным планам. Я умоляю Вас, сэр.
Решающим фактором стало то прискорбное обстоятельство, что в данный момент я в бегах, вот уже пять недель как; Эррол будет долго дуться на меня, но подобной соломины даже и такому верблюду не вынести. Я сейчас тебе все объясню. Помнишь ли ты, задаюсь я порой вопросом, одного французского дипломата, толстого такого юношу с рю де Бак? Мы как-то пили вместе – Нессим ставил? По фамилии Помбаль? Ну, так я сбежал с ним на пару – он здесь служит. И мы недурно коротаем время, chez lui. [27]27
У него (фр.).
[Закрыть] Лето кончилось, безголовое наше посольство вернулось на зиму, следом за Двором Его Величества, в Каир, однако же на сей раз без Твоего Покорного. Я ушел в подполье. Отныне мы встаем в одиннадцать, гоним девочек вон и, приняв горячую ванну, режемся до часу дня в триктрак; затем арак в кафе «Аль Актар», с Бальтазаром, с Амарилем (каковые шлют приветы) – и поздний ланч в Юнион-баре. Затем мы отправляемся порою к Клеа, чтоб полюбопытствовать, что она там пишет в данный момент, а не то идем в кино. Помбаль беспутствует вполне законно: он в местном отпуске. Я же en retraite. [28]28
В бегах (фр.).
[Закрыть] Время от времени сердитый Эррол звонит по междугороднему в тщетной попытке взять мой след, и я отвечаю ему голосом poule [29]29
Курочки, шлюшки (фр.).
[Закрыть] от Миди. Его это жутко смущает, ибо он догадывается, конечно, что говорю-то я, но вдруг это все же не я? (Коронный номер: если шеф твой кончил Винчестер-колледж – они никогда не рискнут обидеть кого бы то ни было.) Наши беседы по телефону – просто прелесть. Вчера я сообщил ему, что я, Персуорден, лежал на обследовании у профессора Помбаля, но теперь моя гормональная система уже вне опасности. Бедняга Эррол! Когда-нибудь я непременно извинюсь перед ним за все доставленные мною неприятности. Но не теперь. Не раньше чем получу перевод в Сиам или в Сантос.
С моей стороны это очень гадко, я знаю, но… Господи, какая скука в здешней миссии, они же все тут только что не писают в штанишки! Эрролы, он и она, британцы до отвращения. Они, к примеру, обаэкономисты. Ну почему оба-то,мучит меня вопрос. Один из них просто обязан чувствовать себя лишним, причем постоянно. Они и любовью занимаются с точностью до сотой доли, и не долее. И дети их несчастны, как простые дроби!
Ну и так далее. Единственная отрада – Дочкины; он умен, и не без искры Божьей, у нее в головке – ветер, ветер, и еще она злоупотребляет губной помадой. Но… что ей, бедняжке, остается еще, надо же нам как-то себя утешить, если наш крошка муж отрастил себе бороду и обратился в мусульманство! И вот она сидит на краешке его рабочего стола, покачивает ножкой и курит быстро-быстро. Рот слишком красный. Леди не вполне и оттого небезопасна. Муж ее отнюдь не дурак, но очень уж серьезен. Я не решаюсь даже и помыслить – а не потребует ли он со временем дополнительной выдачи законных жен, положенных ему по статусу?
Но позволь мне все же объяснить тебе, в моей тяжеловесной по обыкновению манере, что стоит за всем этим бредом. Меня, как ты знаешь, направили сюда по контракту, и первоначальную свою задачу я выполнил со всей присущей мне верностью долгу – в свидетели зову гигантскую кипу бумаги, озаглавленную «Инструментарий к Пакту о сотрудничестве в области культуры между правительством Его Британского Величества и т. д.».Инструменты, замечу, весьма тупые, ибо что может быть общего у христианской культуры с мусульманской или, скажем, с марксистской! Через наши исходные точки даже и прямой не провести. Ну да и Бог с ними! Мне велено было сделать то-то и то-то, и я сделал. Хотя, как бы ни любил я все здешнее и всех здешних, многих слов я просто не понимаю, если употреблять их применительно к системе образования, основанной на абаке, и к теологии, не доросшей еще до Августина и Аквината. Лично я считаю, что дело безнадежно, и у меня нет partipris [30]30
Предубеждения (фр.).
[Закрыть] по данному поводу. И т. д. Я просто-напросто не представляю, что Д.-Г. Лоренс имеет предложить паше, у коего семнадцать жен за стенкой, хотя, сдается мне, я догадываюсь, которая из них счастливей… Как бы то ни было, я это сделал, в смысле Пакт конечно.
А сделав это, я вдруг обнаружил себя вознесенным на самую верхушку здешней пирамиды, в должность первого политического, и получил возможность читать различные документы и оценить весь наш ближневосточный комплекс как связное целое, то есть как политическую авантюру. Честно говоря, после долгих и упорных штудий я не мог, как ни старался, не прийти к выводу: ни связностью, ни даже собственно политикой здесь и не пахнет – по крайней мере, политикой, способной противостоять тем отнюдь для нас не желательным процессам, которые здесь намечаются.
О прогнивших здешних режимах, безнадежно отсталых и насквозь продажных, надо бы очень здраво поразмыслить; мы не сумеем долго поддерживать их на плаву, делая ставку на самые слабые и коррумпированные институты, в чем, сдается мне, именно и состоит наша генеральная линия. Подобный подход предполагает еще как минимум пятьдесят лет мира и полное отсутствие радикальных симпатий у добрых наших островитян: при таких условиях статус-кво, возможно, и удастся сохранить. Но может ли Англия позволить себе быть столь близорукой, чтобы строить – в нынешней ситуации – здешнюю свою политику на подобных основаниях"? Кто знает? Я не знаю. Я не обязан знать такие вещи как художник;как политический секретарь я полон дурных предчувствий. Поощрять сторонников арабского единства, теряя в то же время возможность использовать старые добрые рычаги, вроде чаши с ядом, кажется мне, мягко говоря, недальновидным: это не политика, это паралик расслабленный. А встраивать арабское единство в и без того уже весьма неприятную систему здешних противоречий представляется мне глупостью просто очаровательной. Неужто нам до сих пор мешает видеть меланхолическая греза арабских ночей, взлелеянная тремя поколениями сексуально ущербных викторианцев, чье больное воображение с повизгиванием откликалось на самую мысль о принципиальной возможности более чем одной законной жены? Или бедуинствующий романтизм в духе Белл и Лоренса Аравийского"? Может, так оно и есть? Однако те викторианцы, что взлелеяли в нас эту грезу, были людьми, всегда готовыми дратьсяза золотое содержание национальной валюты; они прекрасно отдавали себе отчет в том, что мир политики – это джунгли. Теперь же Foreign Office, кажется, искренне убеждена, что лучший способ наладить отношения с джунглями – стать нудистом и покорить зверей и гадов одним лишь видом собственной наготы. Слышу, слышу, как ты вздыхаешь. «Почему бы Персуордену не выражаться точнее.Ах, эти вечные его boutades!» [31]31
Каламбуры (фр.).
[Закрыть]
Ладно, буду выражаться точнее. Я говорил о нежелательных процессах. Не поделить ли их для начала на внешние и внутренние, в духе Эррола? Взгляды мои могут тебе показаться ересью, но тем не менее вот они. Итак, во-первых, та пропасть, что разделяет здесь богатых и бедных, не хуже (не уже), чем в Индии. В Египте на сегодняшний день, к примеру, шесть процентов населения владеет тремя четвертями земли, все же прочие живут на доходы от дырок в сыре. Далее! Население удваивается в каждом втором поколении – или в третьем, что ли? Но цифры, я думаю, ты можешь найти в любом экономическом обзоре. Кроме того, постоянный рост образованного и уже готового за себя постоять среднего класса; дети лавочников получают теперь образование в Оксфорде, где их вскармливают сладеньким молочком либерализма, а когда они приезжают домой, престижные должности, соответствующие их уму и уровню образования, отнюдь их здесь не дожидаются. Babu [32]32
Чиновник-туземец (англо-инд.).
[Закрыть] растет понемногу и хочет власти, и та же скучная история неизбежно повторится здесь, как и повсюду. «Интеллектуальные кули всех стран, соединяйтесь!»
К внутренним этим проблемам вдобавок мы по доброте душевной, просто чтоб не показалось мало, еще и подкидываем пару динамитных шашек, открыто поддерживая национализм, да еще и основанный на религиозном фанатизме. Лично я мусульманством готов восхищаться бесконечно, однако вряд ли стоит забывать, что это воинствующая вера, построенная на голой этике, при полном отсутствии метафизики. Союз Арабских Государств и т. д. …Дружище, объясни хоть ты мне, к чему нам тратить мозги и средства, чтобы повесить себе еще и этот камень на шею, ко всем уже наличествующим там по списку, – в то самое время, когда, как я здесь понял, мы утратили главное: возможность действовать свободно и по своему усмотрению, только благодаря этому мы и обладали здесь правом первого голоса? Едва способные держаться на ногах, ориентированные на времена, когда Адам пахал, а Ева пряла, здешние феодальные режимы могут выстоять против разрушительных тенденций, каковые в наше время в порядке вещей не только здесь, но и повсюду, лишь опираясь на силу оружия; но для того чтоб пользоваться этой силой, чтоб «голосовать шпагой», говоря словами Лоренса Аравийского, нужно истово верить в собственную правоту, быть мистиком отчасти и фанатиком. А во что нынче верит Foreign Office? Теряюсь в догадках. В Египте, к примеру, помимо общего замирения, не делалось до сих пор почти ничего; Высокая Комиссия отдает Богу душу после долгих – с 1888? – лет жизни, не оставив после себя даже намека на служилое сословие, способное хоть как-то стабилизировать сию дрянью из дряни и ради дряни созданную оперетку, которую мы отныне принимаем, кажется, как суверенное государство. Сколь долго смогут искренние заверения и дружеские чувства перевешивать массовое народное недовольство? Королю, чья власть санкционирована одним лишь договором, можно доверять до тех пор, покуда он может доверять своему народу. Как далеко еще до точки возгорания? Я не знаю, и, если честно, мне плевать.Но вот что я знаю наверняка: любой непредвиденный толчок извне, война к примеру, сметет это пугало в один момент. Кстати, именно поэтому я и хотел бы убраться отсюда подобру-поздорову. Я считаю, что нам следует кардинально переориентировать нашу политику здесь и отдать – для начала – реальные рычаги евреям. И чем быстрей, тем лучше.
Теперь о частностях. Едва ли не в самом начале политической моей карьеры я наткнулся на сопротивление некоего отдела МО, специализирующегося на внешней разведке, во главе его стоит бригадный генерал, с порога отметающий всякий намек на то, что его конторе придется рано или поздно присягнуть на верность нам. Проблема субординации, финансирования и прочая чушь; Комиссия в свое время держала его на более чем длинном поводке. Между прочим, это обломок Арабского бюро, сидевший тут тихо, как жаба под камнем, аж с 1918 года! Ясное дело, при общей перестройке системы контора его (мне так казалось) должна быть интегрирована в иные структуры. Но в Египте до недавних пор существовало только консульство, и то в зачаточном состоянии. Поскольку ранее он работал на политический отдел Высокой Комиссии, я счел, что теперь он должен работать на меня, и после серии жестоких баталий если не сломал его, то по крайней мере согнул, зовут его Маскелин. Он настолько типичен, что вызывает к себе некоторый даже интерес, и я, в обычной моей манере, сделал с него массу набросков для книги. (Люди пишут, чтобы расплатиться за утраченную невинность!)
С тех пор как до военных дошло, что трусость возникает – не в последнюю очередь – благодаря богатству воображения, они принялись усердно воспитывать в Маскелине и в племени ему подобных отсутствие такового как главную доблести добились амнезии, по сути едва ли не турецкой. Презрение к смерти переродилось в презрение к жизни, и жизнь подобный человек согласен принимать исключительно на своих условиях. Благодаря промороженным насквозь мозгам он способен вести существование настолько рутинное, что всякий другой давно бы сдох с тоски. Он очень худой, очень высокий, и за годы службы в Индии солнце так его пропекло, что цветом кожи он похож на копченую кобру или на струп, намазанный йодом. Зубы превосходные и лежат на чубуке трубки легко, как перышко. Есть у него чудной такой жест – хотелось бы точно его передать, уж очень характерный, – перед тем как начать говорить, он медленно вынимает трубку изо рта, опускает на нее взгляд, глаза маленькие, черные, и произносит чуть ли не шепотом: «Правда? Вы действительно так считаете?» Гласные тянутся бесконечно долго, покуда не устанут и не умрут в тишине и тоске. Ему не дает покоя тот прискорбный факт, что его образование и воспитание превосходны, но лишь в определенных, строго ограниченных пределах, – оттого он неловко чувствует себя в гражданском платье и ходит повсюду в безупречно пошитом кавалерийском мундире, с видом «Noli me tangere». [33]33
Не тронь меня (лат.).
[Закрыть] (Стоит вывести особую породу – и тут же наткнешься на отклонения в поведении.) Обычно он берет с собой великолепного рыжего пойнтера по имени Нелл (в честь жены, что ли?), который спит у него в ногах, пока он читает свои досье, и у него в постели – по ночам. Живет он в отеле, и в номере у него ни единой личной вещи – ни книг, ни фотографий, ни бумаг. Только набор щеток для волос, с серебряными спинками, бутылка виски и газета. (Иногда я представляю себе, как он, оставшись один, пытается в тихом бешенстве снять с себя щетками скальп, дерет этак яростно свой черный, с отблеском волос от висков назад все быстрей и быстрей. Ага, вот так-то лучше – так-то лучше!)