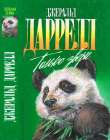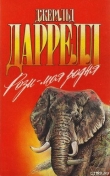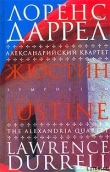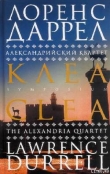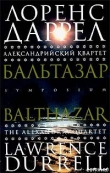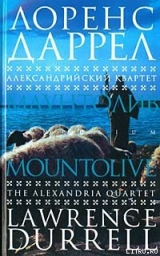
Текст книги "Маунтолив"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
«Ну, – сказал Маунтолив, означивая жестом коннотации костюма, – вот я и готов».
В черном лимузине с трепещущим флажком на капоте они бесшумно пронеслись сквозь Город к министерству, где ждал их застенчивый обезьяноподобный египтянин, полный каких-то своих забот и тревог. Парадный посольский мундир явно произвел на него неизгладимое впечатление, как и тот неоспоримый факт, что его почтили визитом два лучших арабиста британской миссии. Он сиял и раскланивался и автоматически с привычной ловкостью сделал первый шаг в обмене формальными знаками внимания. Он был печальный маленький человек с запонками из белой жести и спутанными курчавыми волосами. Его желание польстить, доставить гостям удовольствие, устроить их поудобнее было столь велико, что он моментально перешел на интонации совершенно дружеские, едва ли не слащаво-приторные. Традиционный кофе по-турецки и сласти он подал так, словно это было признание в любви. Он беспрестанно промокал лоб и все улыбался, улыбался, дружелюбный этакий австралопитек.
«Ах, господин посол, – сказал он сахарным совершенно голосом, когда от комплиментов настало время переходить к делу – Вы превосходно знаете нашу страну и наш язык. Мы верим вам». – Что в переводе означало: «Вы прекрасно знаете, что мы продажны и что поделать с этим ничего нельзя, это часть древней здешней культуры, а потому ваше присутствие нисколько нас не стеснит».
Затем, покуда Маунтолив читал свою составленную в довольно сильных выражениях ноту и возводил, говоря фигурально, памятник нерукотворный упорству Маскелина, Hyp сидел, сложив лапки на сером, изящного покроя жилете, мрачный, как зародыш в банке. Он слушал, недоверчиво качал время от времени головой, и его лицо все больше вытягивалось. Когда Маунтолив закончил, он вскочил и сказал порывисто:
«Конечно. Конечно же. Сразу». – И следом, словно вспомнив о чем-то, осторожно сел обратно в кресло и принялся теребить запонки.
Маунтолив вздохнул и тоже встал.
«Миссию мою приятной не назовешь, – сказал он, – однако же необходимость обязывает. Могу ли я заверить мое правительство в том, что подобного рода деятельность будет пресечена со всей подобающей спешностью?»
«Со всей подобающей спешностью. Со всей подобающей спешностью». – Маленький человечек в кресле кивнул дважды и облизнул сухие губы; складывалось такое впечатление, будто он не совсем понимает, о чем идет речь.
«Я сегодня же встречусь с Мемликом, – сказал он несколько тише. Изменился и тембр его голоса. Он кашлянул и съел цукат, отряхнув сахар с пальцев шелковым носовым платком. – Да-да». – Если в массивном документе, лежавшем перед ним на столе, что-то и вызвало его любопытство (по крайней мере, Маунтоливу так показалось), так это фотокопии. Такого он еще не видел. Они были частью тех неведомых миров науки и грез безумных, в которых жили люди Запада, – миров больших возможностей и колоссальной ответственности, откуда люди эти сходили иногда, одетые в роскошные мундиры, чтобы сделать жизнь простых египтян куда сложнее, чем она могла бы быть. – «Да. Да. Да», – снова сказал Hyp, словно пытаясь придать разговору должный вес и ритм и заверить визитера в своих наилучших намерениях.
Маунтоливу все это совсем не понравилось: сам тон переговоров был лишен какого-то стержня, целеполагания и сути. Нелепое радостное чувство снова плеснуло у него в груди, и, чтобы наказать себя за это (и в угоду чувству долга), он сделал шаг вперед и еще немного надавил на собеседника:
«Если вам так будет удобней, Hyp, и если вы дадите мне соответствующие полномочия, я готов лично изложить все эти факты и наши относительно них рекомендации Мемлик-паше. Скажите только слово». – Но здесь он задел нежную, едва успевшую зажить кожицу протокола и национальной гордости.
«Высокочтимый господин мой, – сказал Hyp с просительной улыбкой и жестом арабского нищего, донимающего богатого иностранца, – это было бы против правил. Ибо дело это является внутренним делом. Было бы неправильно с моей стороны, если бы я согласился».
И тут он, конечно же, прав, думал Маунтолив, пока они в неловком молчании ехали назад в посольство; мы больше не можем отдавать здесь приказы, как отдавала когда-то приказы Высокая Комиссия. Донкин с задумчивой и чуть насмешливой улыбкой внимательно изучал пальцы. На капоте весело плясал флажок, живо напоминавший Маунтоливу вымпел на тридцатифутовой Нессимовой яхте, которая режет наискосок воды гавани…
«Что вы обо всем этом думаете, Донкин?» – спросил он, положив руку на локоть сидящего рядом бородатого молодого человека.
«Если честно, сэр, я с самого начала сомневался».
«Да и я, знаете ли, тоже. – Тут его прорвало: – Но им придется действовать, никуда они не денутся; я этого так не оставлю». – (Он думал: «Лондон ведь житья не даст, пока я не смогу представить хоть какую-то видимость результата».) Ненависть к Нессиму, чьи черты каким-то непостижимым образом – как в фокусе с двойной экспозицией – наложились на мрачную физиономию Маскелина, вновь захлестнула его. На пути через холл он поймал свое отражение в длинном тамошнем зеркале и с удивлением заметил на лице обиженное, капризное выражение.
В тот же день он обнаружил, что сотрудники посольства и обслуживающий персонал раздражают его час от часу все больше. Они словно бы нарочно сговорились довести его до белого каления.
14
Ежели у Нессима и достало смелости посмеяться, получив наконец приглашение, ежели, прислонив напыщенный сей опус к чернильнице, чтоб насладиться им сполна, он и смог смеяться, тихо и немного нервически, в пустоту кабинета, то потому лишь, что думал он при этом так: «Сказав: „Человек сей беспринципен“, – имеешь тем самым в виду, что он унаследовал по праву рождения те или иные принципы, коими предпочел теперь пренебречь. Но возможно ли представить себе человека от рождения совершенно бессовестного? Человека, который от рождения не знал бы такого слова – душа ? (Мемлик)».
Н-да, легко представить человека безногого, безрукого, слепого, но вот странный некий дефект органов внутренней секреции, непоступление в организм флюида, именуемого душой, – не чудо ли, не повод ли для удивления, может быть, даже сострадания? (Мемлик.) Встречались люди, чьи чувства плыли водяною пылью, рассыпались, так сказать, на составляющие, на невидимые миру атомы; и те, кто заморозил собственные чувства насмерть, – «онемелые сердца»; были и такие, кто рожден без чувства ценностей, – моральные дальтоники. Подобных много среди власть имущих – они идут по жизни, как во сне, в облаке своих идей и действий, не имеющих внутреннего стержня и смысла. А Мемлик – из их числа? Этот человек вызывал у Нессима странное, почти восторженное любопытство – так энтомолог берет впервые в руки не описанный наукой вид жука.
Зажег сигарету. Встал, походил по комнате, останавливаясь у стола, чтоб прочитать еще раз приглашение и посмеяться – про себя. Облегчение – и любопытство с тревогой пополам; тревожащее любопытство – и облегчение снова. Он снял трубку и поговорил с Жюстин улыбчиво, тихо: «Гора сходила к Магомету». (Читай: Маунтолив и Hyp.) «Да, моя дорогая. Гораздо легче знать наверняка. Вся моя токсикология и пальба навскидку! Какая чушь, не правда ли? Я очень надеялся, что именно так все и кончится, но, конечно же, всегда лучше лишний раз подстраховаться. Ну что ж, на Магомета надавили, и он разродился маленьким таким мышонком в виде приглашения на Вирд». Вздернув скептически бровь, он послушал, как она смеется в трубку. «Прошу тебя, дорогая моя, найди там у нас Коран пороскошней и пришли ко мне в офис. В библиотеке были, кажется, два или три совсем древних, обложенных слоновой костью. Да, я заберу его с собой в Каир в среду. Нельзя же не подарить ему Коран, как же иначе». (Мемлик.) Пришло время шутить. Передышка будет недолгой, но, по крайней мере, можно пока перестать бояться яда или одинокой фигуры в аллее вечером, которая может оказаться… Нет. Ситуация по меньшей мере обещала теперь весьма необходимую отсрочку.
Сегодня, в шестидесятые годы, дом Мемлик-паши стал известен в отдаленнейших столицах мира благодаря в первую очередь ярко выраженному архитектурному облику банка, который носит имя своего основателя; странные особенности вкуса этого таинственного человека наложили отпечаток и на сами здания – все они построены по одному и тому же совершенно гротескному проекту, этакая травестия египетской гробницы, увиденной глазами ученика Ле Корбюзье! Где бы вам ни случилось встретить этот мрачный фасад, вы непременно остановитесь, чтобы подивиться капризам фантазии автора – в Риме ли, в Рио. Невысокие, но мощные колонны живо напомнят вам о мамонте, который приболел элефантиазисом, – пережиток или, может, возрождение макабрического древнего бреда – нечто вроде оттоманско-египетской готики? Возведите Юстон-стейшн в энную степень, и вот тогда… Но теперь власть этого человека ощутима далеко за пределами Египта, она просочилась в большой и широкий мир через вычурные дымоходы банков – эта власть расходилась волнами от маленького инкрустированного кофейного столика, на котором он писал (если он вообще когда-нибудь писал), от обшарпанного желтого дивана, на котором обычная здесь летаргия держала его день за днем, как якорь. (В особо торжественных случаях он надевал феску и желтые замшевые перчатки. В руке – обыкновенная, на рынке купленная мухобойка, которую его ювелир украсил изящным узором из мелкого жемчуга.) Он никогда не улыбался. Один греческий фотограф попросил его как-то сделать – во имя искусства – исключение из правила; беднягу тут же бесцеремоннейшим образом выволокли во двор, разложили на травке и влепили под шорох пальм дюжину горячих – за оскорбление чести и достоинства.
Может быть, причину следовало искать в странном смешении кровей в его жилах; отец был албанец, мать – нубийка. Жуткая эта смесь была взрывоопасна даже в разных телах – ураганные супружеские сцены частенько будили его в детстве по ночам. Он был единственным сыном. Оттого-то, быть может, и уживались в нем жестокость и полная – внешняя – апатия, тихий, на шепоте, почти по-женски порой высокий голос при полном отсутствии какой-либо жестикуляции. И внешний облик: длинные шелковистые, чуть вьющиеся волосы, нос и рот, резанные плоско по темному нубийскому песчанику и надетые, как барельеф, на совершенно круглый альпийской лепки череп – кошмар физиогномики. Если бы ему и впрямь взбрело в голову улыбнуться, на свет явилось бы негритянской белизны полукружие под растянувшимися плоско, как резиновые, ноздрями. Кожа вся в темных мушках и цвета, весьма любимого в Египте, – сигарный лист. Благодаря депиляторам вроде халавы его тело не знало волос – даже подмышки и руки. Но маленькие глазки, спрятанные в складках кожи, как два чесночных зубчика. Природное беспокойство они привычно топили в выражении неколебимо снулом: полное отсутствие смысла в подернутых бесцветным флером белках – как если бы душа, обитавшая в большом этом теле, находилась в постоянной отлучке по неведомым личным мотивам. Губы очень яркие, в особенности нижняя, и эта припухлость, насыщенность цветом предполагала – эпилепсию?
Как он поднялся так быстро на самый верх? Шаг за шагом, медлительной и трудной стезей клерка при Комиссии (которая научила его презирать своих тогдашних хозяев) и, наконец, с помощью старого доброго непотизма. Методы его были немногочисленны и вполне предсказуемы. Когда Египет стал самостоятельным государством, он удивил всех и вся, даже тех, кто составлял ему прежде протекцию, одним прыжком усевшись в кресло министра внутренних дел. И только тогда позволил себе снять обманчивую маску посредственности, которую усердно носил все эти годы. Он знал прекрасно, как создать вокруг своего имени необходимое эхо при помощи метких ударов бича, – ведь теперь-то бич был у него в руках. Робкая душа египтянина вечно жаждет кнута. «Покуда люди для тебя что мухи, нужды не будешь знать ни в чем». Так гласит поговорка. Прошло не больше года, а его имени уже боялись; ходили слухи, что даже и престарелый король старается не переходить ему открыто дорогу. Страна обрела свою свободу – и он обрел свою, по крайней мере во всем, что касалось египетских мусульман. За европейцами сохранилось, согласно договоренности, право решать свои юридические проблемы и отвечать по предъявленным обвинениям в les tribunaux mixtes [96]96
Смешанных судах (фр. ).
[Закрыть], европейских судах, где обвинители, присяжные и судьи были европейцы. Египетская же система правопорядка (если, шутки ради, так ее назвать), целиком и полностью подконтрольная людям Мемлика, вся была анахронизмом, пережитком времен феодальных: страшная в той же степени, в какой лишенная всякой логики и смысла. Эра хедивов словно бы и не уходила в прошлое, и Мемлик вел себя как человек с султанским фирманом, ярлыком, в руках. По правде говоря, не было в Египте человека, который мог бы всерьез ему противостоять. Он карал жестоко и часто, не задавая лишних вопросов и опираясь зачастую на одни только слухи, на самые смутные подозрения. Люди исчезали тихо, не оставляя следа, и никаких инстанций, способных дать ход апелляциям – если таковые вообще имели место быть, – просто не существовало. Иногда те, кто исчез, возвращались чуть позже к обычной жизни, со вкусом изувеченные или с аккуратно выколотыми глазами – и странным образом не расположенные прилюдно обсуждать свои несчастья. («Ну что, проверим, а вдруг он прекрасный певец», – говаривал, по слухам, Мемлик; имелась в виду операция по удалению канарейке глаз кусочком раскаленной проволоки – вполне обыденная операция, в результате которой птички пели куда веселей.)
Он был ленив и умен, а потому штат свой набрал по преимуществу из армян и греков. В министерстве, в своем роскошном кабинете, он появлялся крайне редко, доверяя ведение текущих дел нескольким избранным фаворитам; объяснением и одновременно поводом для жалоб служил переизбыток докучливых просителей, якобы не дававших ему там покоя. (Если честно, он просто боялся, что в один прекрасный день его там убьют, – место было небезопасное. Было проще простого подложить, скажем, бомбу в один из годами не открывавшихся шкафов, где среди желтеющих год от года папок резвились мыши. Идею эту исподволь внушил ему Хаким Эффенди, чтобы самому иметь в министерстве свободу рук. Мемлик прекрасно понял его игру, но не стал придавать этой скромной хитрости значения.)
Взамен он приспособил для аудиенций старый, беспорядочной постройки, дом на берегу Нила. Вокруг – целый парк: апельсиновые деревья, пальмы. Под самым окном священная река. Там всегда было на что взглянуть, за чем понаблюдать: скользят вверх и вниз по реке фелуки, выходят покататься на весельных лодках горожане, порой – одинокая моторка… А еще – дом был слишком далеко, чтобы просители могли осаждать его день и ночь с нелепыми мольбами за своих канувших, как в воду, близких. (Хаким в министерстве тоже должен был получать свою долю прибыли.) Здесь Мемлик принимал людей слишком значимых, чтобы отделаться от них так просто: с трудом приподнимался, садился на желтый диван и ставил ноги в роскошных, жемчугом шитых туфлях на дамаскиновую черную скамеечку, правая рука в нагрудном кармане, в левой – воплощением милосердия – любимая мухобойка. Особо приближенный штаб, внимавший его повседневным заботам, состоял из Кирилла, секретаря-армянина, и с кукольным личиком итальянца по имени Рафаэль, а по профессии – брадобрея и сводника; эти двое составляли ему компанию и скрашивали скуку официальных трудов и дней обещаниями удовольствий столь извращенных, что они были способны воспламенить воображение человека, в котором все желания, кроме жажды денег, давно уже умерли. Я сказал, что Мемлик никогда не улыбался, но порою, в добром расположении духа, он задумчиво гладил Рафаэля по курчавой головенке и подносил к губам пальцы, чтобы заглушить смех. В такие минуты, подумав немного, он снимал с допотопного телефона длинную, гусиной шеей гнутую трубку и с кем-нибудь говорил вполголоса, хотя бы просто с дежурным Центральной тюрьмы, ради невиннейшего удовольствия услышать, как проклюнется в голосе на том конце провода испуг, едва он назовет свое имя. Рафаэль рассыпался при этом синкопами коротеньких смешков, и смеялся, покуда слезы не начинали бежать у него по лицу, и заталкивал в рот платок. Но Мемлик не улыбался. Он едва заметно втягивал щеки и говорил: «Аллах! Ты смеешься». Однако случалось этакое весьма нечасто.
Был ли он и впрямь тем чудовищем, которое привыкли в нем видеть? Правды не узнает никто и никогда. Легенды словно сами собой плетутся вокруг подобных людей, потому как они и принадлежат-то скорее к миру легенд, нежели к реальной жизни. (Как-то раз случилось ему испугаться импотенции; он тут же отправился в тюрьму и приказал насмерть засечь у себя на глазах двух девушек, в то время как третьей вменили в обязанность – сколь причудливы фигуры речи языка Пророка – поднимать его упавший дух. Говорили, что он лично присутствует на каждой казни и что дрожит и непрерывно сплевывает. А после требует сифон содовой, чтобы унять жажду… Но кто и когда проверит все эти легенды на соответствие фактам?)
Он был суеверен до крайности и брал фантастические взятки – и благодаря взяточничеству составил себе состояние столь же фантастическое; но как нам совместить с этим его необычайную религиозность – фанатическое рвение прилежнейшего из правоверных, удивительное, впрочем, в каждом, если каждый сей не египтянин. Вот здесь-то и была причина ссоры с не менее благочестивым Нуром, ибо Мемлик установил у себя нечто вроде придворного ритуала по приему взяток. Всем было известно, как нужно дать Мемлику взятку и не показаться при том невеждой: приобрести особенный какой-нибудь экземпляр Священной Книги, переложить страницы банкнотами или иными денежными знаками и предложить ему – со всеми возможными реверансами – в подарок для пополнения библиотеки. Он книгу возьмет и скажет: он сходит, мол, сейчас наверх и глянет, нет ли у него точно такой же. Проситель понимал, что просьба его будет удовлетворена, если по возвращении Мемлик благодарил его еще раз и книги при нем не было; если же Мемлик говорил клиенту, что такая книга у него уже есть, и отдавал Коран обратно (хотя денежные знаки неизбежно оказывались изъяты), проситель знал уже наверно: ничего не выйдет. Эту маленькую церемонию Hyp и назвал как-то раз «практикой, позорящей Пророка», – чем и заслужил тихую ненависть Мемлика.
Просторная оранжерея, избранная им для заседаний своего приватного Дивана, тоже была сама по себе зрелищем. Веерообразные окна с цветным, дешевого витражного стекла узором мигом делали из каждого входящего клоуна, арлекина, разбрасывая по одеждам и лицам людей, пересекающих длинный зал, чтоб поприветствовать хозяина, зеленые, алые и голубые пятна. За мутными окнами бежала мутная, цвета какао вода, а на другом берегу, как раз напротив, стояло британское посольство, элегантный ухоженный парк, где гулял по вечерам, оставшись один, Маунтолив. Заднюю стену Мемликовых приемных покоев почти во всю длину занимали два огромных, нелепых викторианских полотна кисти некоего давно почившего в бозе гения; ни один мыслимый в природе крюк не вынес бы этих титанических творений, а потому они стояли на полу, издалека похожие на забранные в раму гобелены. Но каковы сюжеты! На одной преисполненные важности момента иудеи пересекали изящно расступившиеся пред ними воды Чермного моря, на другой косматый Моисей ударял кривым пастушьим посохом о бутафорскую скалу. Однако манерные сии парафразы библейских тем непостижимым образом составляли гармонию с прочей здешней обстановкой – огромные турецкие ковры, синим дамаскином обитые жесткие стулья с высокими неудобными спинками, невероятных размеров, кошмарною гидрой витая медная люстра, круг за кругом сиявшие днем и ночью мертвенно-неподвижные электрические лампы. По правую руку от желтого дивана стоял бюст Фуше в натуральную величину, поражая посетителей – с первого взгляда – очевидной неуместностью. Как-то раз один французский дипломат, так сказать, польстил Мемлику, промолвив: «Вас считают лучшим министром внутренних дел нового времени – и впрямь со времен Фуше вряд ли кто в состоянии с вами тягаться». Комплимент был не без шпильки, но воображение у Мемлика разыгралось, и он тут же выписал из Франции этот самый бюст. Помещенный в атмосферу безудержной восточной лести, Фуше глядел с укоризной, тем более что пыль с него не вытирали ни разу. Тот же самый дипломат охарактеризовал как-то Мемликовы приемные покои как помесь заброшенного естественнонаучного музея с уголком хрустального дворца – получилось резковато, но точно.
Вежливый Нессимов глаз не обошел деталей этих искрой скрытого веселья, покуда он стоял в дверях и ждал, когда глашатай выкликнет его имя. Будучи коптом, получить приглашение на Вирд, на вечер молитвы, к грозному Мемлик-паше – уже забавно и чревато грудой смыслов. В самом мероприятии, сколь бы странным оно ни казалось, не было ровным счетом ничего необычного. Мемлик частенько собирал у себя так называемые Ночи Господни, и религиозный пыл в таинственной этой фигуре вовсе не представлялся чем-то лишним; внимательно, ни мускулом не шевельнув, он слушал чтеца иногда до двух, до трех часов ночи, с видом впавшей в зимнюю спячку змеи, порой он даже присоединялся к общему выдоху «Аллах», которым собравшиеся встречали особо сильные места из Писания…
Легкой живой походкой Нессим пересек зал и сел пред Мемликовы очи, прикоснувшись предварительно, как полагается, к груди и к губам, чтоб выразить благодарность за приглашение, которое для него – такая честь. В тот вечер народу было немного, кроме него человек девять-десять, не больше, и он понял: Мемлик хочет к нему приглядеться и, если получится, переброситься наедине парой слов. Он принес с собой изысканный маленький Коран, завернутый в мягкую оберточную бумагу, предварительно проложив его страницы банковскими чеками, имевшими силу в Швейцарии.
«О паша, – сказал он тихо, – я столько слышал о легендарной вашей библиотеке; я прошу одной только милости – позвольте скромному книголюбу предложить вам скромный в нее же вклад». – Он положил подарок на маленький столик и принял тут же предложенные кофе и засахаренные фрукты.
Мемлик не ответил и не шевельнулся на своем диване, дав ему время пригубить кофе, а потом сказал небрежно:
«Хозяину – большая честь: это всё мои друзья. – В порядке совершенно случайном он представил нескольких из своих гостей; компания, надо сказать, подобралась довольно странная – для Ночи Господней: никого хоть сколь-нибудь заметного в Каире Нессим не увидел. Если честно, всех этих людей он видел впервые в жизни, но с каждым был внимательнейшим образом вежлив. Затем он позволил себе два-три общих замечания относительно изысканности, а также удивительно удачного выбора приемных покоев и еще… о высокой пробе живописи. Мемлик не остался равнодушен и ответствовал лениво: – Это разом и кабинет мой, и приемная. Я здесь живу».
«Мне часто рассказывали об этом доме, – сказал Нессим с куртуазнейшей из мин, – те избранники судьбы, которым посчастливилось бывать здесь по делу ли, удовольствия ли ради».
«Я работаю, – сверкнул глазом Мемлик, – исключительно по вторникам. В прочие же дни недели здесь собираются мои друзья».
Нессим не остался глух к недоброму намеку: вторник для мусульманина самый неблагоприятный день, ибо во вторник Бог создал все, что ни на есть на земле дурного. В этот день казнят преступников; никто не осмелится жениться во вторник, ибо есть на то поговорка: «Во вторник женился, во вторник и вздернули его». Говоря словами Пророка: «Во вторник создал Господь тьму кромешную».
«К счастью, – ответил с улыбкой Нессим, – сегодня понедельник, день, когда созданы были деревья». – И изящно перевел разговор на великолепные пальмы, кивавшие лохмато за окном: этот поворот сломал лед и заслужил восхищение публики.
Ветер переменился, и после получаса несвязной общей беседы разошлись раздвижные панели в дальнем конце залы: собравшихся пригласили к ужину, накрытому на двух больших столах. Комната была убрана великолепными цветами. Здесь, за дорогими деликатесами Мемликовой вечерней трапезы, огонек дружелюбного оживления стал чуть более внятен. Один-два человека сказали тосты, Мемлик же, хоть ничего и не ел, ходил не торопясь от места к месту, тихо проговаривая сдобренные едва заметными смыслами любезности. Нессим сидел в углу, Мемлик подошел к нему и сказал без затей и весьма дружелюбно:
«Я, собственно, хотел увидеться именно с вами, Хознани».
«Большая честь для меня, Мемлик-паша».
«Я видел вас на приемах, но у нас нет общих друзей, которые могли бы нас представить. Очень жаль».
«Очень жаль».
Мемлик вздохнул и обмахнулся мухобойкой, сославшись мимоходом на душную ночь. Потом сказал тоном человека, ведущего с собой какой-то тайный спор, тоном почти неуверенным:
«Господин мой, Пророк сказал, что великая власть влечет за собою великих же врагов. Я знаю, вы человек весьма влиятельный».
«Власть моя ничтожна, но врагов у меня хватает».
«Очень жаль».
«И в самом деле».
Мемлик перекинул вес на левую ногу и ковырнул задумчиво в зубах, затем продолжил:
«Я думаю, мы очень скоро придем к взаимопониманию».
Нессим отвесил вежливый поклон и молчал, покуда хозяин дома глядел на него, весь раздумье, и дышал ровно и тихо ртом. Мемлик сказал:
«Когда им приходит охота кляузничать, они являются ко мне, и головы у них как фонтаны, где кляузы вместо воды. Это меня утомляет, но порой выходит так, что мне приходится защищать интересы кляузников. Вы успеваете за моей мыслью?»
«Вполне».
«Бывают минуты, когда я не связан и могу не совершать определенных действий. Но бывают и другие, когда я эти действия совершить обязан. В подобных случаях, Нессим Хознани, мудрый человек уничтожил бы повод для кляуз».
Нессим грациозно склонился и снова смолчал. Развивать диалектику раскладов и сил не имело смысла до тех пор, пока предложенный им ранее подарок не будет принят. Мемлик это, очевидно, почувствовал и, вздохнув, направился к соседней группе гостей; ужин вскоре закончился, все вернулись в приемную. Здесь Нессимов пульс забился быстрее, ибо Мемлик взял со столика со вкусом упакованную книгу и извинился перед гостями, сказав:
«Я должен сравнить ее с теми, что у меня наверху. Шейх – он сегодня из Имбаби – скоро будет. Садитесь, располагайтесь поудобней. Я скоро присоединюсь к вам».
Он вышел. Потекла ленивая беседа, в которой Нессим участвовал по мере сил, чувствуя, что сердце у него бьется в совершенно ином, и неудобном, ритме; когда он поднес к губам сигарету, пальцы дрожали. Чуть погодя двери открылись опять, впустив в комнату старого слепого шейха, духовного наставника на сегодняшнюю Ночь Господню. Собравшиеся окружили его – рукопожатия, комплименты. А следом вошел и Мемлик, и Нессим увидел, что руки у него пусты: он еле слышно прошелестел благодарственную молитву и вытер лоб.
Собраться снова – привычно и быстро. Он стоял чуть в стороне, кучка одетых в темное джентльменов теснилась вокруг слепого старого проповедника, чье безучастное, лишенное всякого выражения лицо поворачивалось от голоса к голосу, словно прибор, построенный нарочно, чтобы улавливать любой звук; надмирная отстраненность абсолютной веры, тем более самодостаточной и цельной, что ее предмет неподотчетен разуму. Руки шейх соединил на груди; скромный, как спартанский мальчик, полный кинетической красоты человек с душой, принесенной по обету Богу.
Вошедший за шейхом следом паша двинулся опять в Нессимов угол, но так медленно, такими кругами, что Нессиму показалось – он не дойдет никогда. Он останавливался, он говорил комплименты, он старательно не глядел в нужную сторону. Наконец он оказался рядом, буквально бок о бок, поглаживая умными тонкими пальцами украшенную жемчугом рукоять мухобойки.
«Ваш подарок великолепен. – Голос тихий, с едва уловимой, где-то очень глубоко, струйкой меда. – Я не могу отказаться от удовольствия принять его. Впрочем, господин мой, ваши эрудиция и вкус известны всем. Выкажи я удивление, я бы выставил себя невеждой».
Формула, обычно употребляемая Мемликом, была столь гладко и столь искусно переведена на арабский, что Нессима это не могло не удивить – и польстило тоже. Подобные обороты речи могли быть свойственны только людям действительно весьма культурным. Он не знал, что память у Мемлика была – на зависть и что к подобного рода встречам он всегда готовился заранее. Он еще раз склонил голову, как будто принимая акколаду, и смолчал. Мемлик немного поиграл мухобойкой, потом добавил, уже другим тоном:
«Есть, конечно же, одно обстоятельство. Я говорил вам о кляузах, которые поступают ко мне, эфенди мой. В подобных случаях рано или поздно мне приходится начинать расследование. Очень жаль».
Нессим поднял на египтянина живые свои черные глаза и, не убирая улыбки, сказал:
«Господин мой, к европейскому Рождеству – дело нескольких месяцев – не будет больше повода для кляуз».
Пауза.
«Значит, время имеет смысл», – сказал задумчиво Мемлик.
«Время – тот воздух, которым мы дышим, как гласит поговорка».
Паша сделал полуоборот и, обращаясь словно бы и не к одному уже Нессиму, добавил:
«Такой человек, как вы, тонкий, знающий, – просто находка для моей коллекции. Надеюсь, вы откроете для меня многие сокровища Слова Божьего».
И снова Нессим поклонился:
«Ровно столько, сколько будет вам угодно, паша».
«Жаль, что мы не встретились раньше, очень жаль».
«Очень жаль».
Мемлик снова стал хозяином дома и повернулся к гостям. Широкий круг неудобных стульев с жесткими спинками был уже почти весь занят. Мемлик дошел до дивана и медленно на него взобрался, с видом пловца, вдруг обнаружившего посреди океана плот; Нессим же выбрал стул подальше. Мемлик хлопнул в ладоши, и слуги тотчас убрали кофейные чашечки и блюдца с засахаренными фруктами; потом внесли для проповедника большое, с высокой спинкой элегантное кресло – резные подлокотники, зеленая обивка – и поставили его чуть в сторону от всех прочих. Один из гостей встал и, почтительно бормоча, провел слепого к креслу. Слуги отступили в полном боевом порядке к двери, закрыли и заперли ее. Вирд готов был начаться. Мемлик открыл, так сказать, заседание цитатой из Газали, теолога, – опять же к немалому удивлению Нессима.
«Единственный способ, – сказал Мемлик, – соединиться с Богом – обращаться к Нему непрерывно». – Сказав это, он откинулся на спинку дивана и закрыл глаза, словно бы утомленный усилием. Но фраза воспринята была как сигнал: слепой шейх поднял голову на морщинистой шее, глубоко вздохнул, собираясь начать, и все, кто был в зале, среагировали как один человек, как одно тело. Сигареты были затушены, ноги, закинутые одна за другую, стали ровно, расстегнутые пуговицы нашли свои петли, всякая небрежность поз и жестов исчезла в один момент.