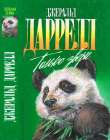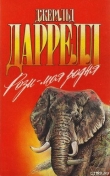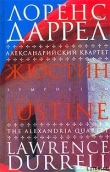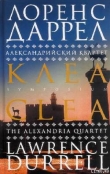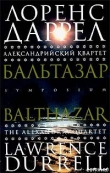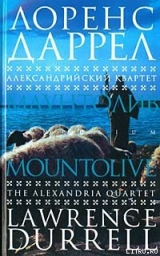
Текст книги "Маунтолив"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
9
Маунтолив был в отъезде, в официальном турне по хлопкоочистительным фабрикам Дельты, когда ему сообщили эту новость, – позвонил Телфорд. Поначалу он просто не поверил своим ушам. Тон у Телфорда был фатоватый, впрочем, телефон плюс плохо подогнанные мосты, да и сама по себе смерть в рутинной работе Телфорда была событием не слишком частым. К тому же смерть врага! Он с явным трудом удерживал голос на мрачной, скорбной, сочувственной ноте, и некий призвук ликования мешал. Говорил он как участковый коронер.
«Я подумал, вам бы следовало знать, сэр, и взял на себя смелость оторвать вас от дел. Нимрод-паша позвонил мне среди ночи, и я сам туда съездил. Прокуратура все уже опечатала, доктор Бальтазар тоже там был. Я поогляделся там немного, покуда он выписывал свидетельство о смерти. Мне разрешили взять личные записи, принадлежавшие… покойному. Ничего особо интересного. Рукопись романа. Все произошло совершенно внезапно. Он очень много пил накануне – боюсь, что и не только накануне. Н-да».
«Но… – среагировал наконец Маунтолив еле слышно, недоверие и ярость перемешались в нем, как вода и масло. – Какого черта… – В коленях у него родилась вдруг страшная слабость. Он придвинул стул, сел и раздраженно выкрикнул в трубку: – Да, да, Телфорд, продолжайте. Все, что вы знаете».
Телфорд прочистил горло, уверившись, что его новость действительно вызывает интерес, и попытался выстроить из привычного хаоса некий порядок.
«Значит, так, сэр. Мы проследили весь его вчерашний день. Он явился сюда очень небритый и весь какой-то – Эррол говорит – изможденный; спросил вас. Но вы как раз только что уехали. Секретарша ваша говорит, он сел за ваш стол и что-то написал – довольно долго сидел – и велел передать вам в собственные руки. Он настоял, чтобы она поставила на письме гриф „Секретно“ и запечатала конверт воском. Он сейчас у вас в сейфе. Затем он ушел и отправился… ну, скажем, выпить. Провел весь день в таверне на берегу моря, неподалеку от Монтасы, он часто там бывал. Обыкновенная лачуга у самой кромки прилива – полдюжины бревен и крыша из пальмовых листьев, хозяин – грек. Сидел там целый день, писал и пил. Если верить владельцу, пил он зибиб, и довольно много. Он попросил, чтобы стол ему поставили прямо у воды, на песке. Было ветрено, и хозяин предложил ему перебраться внутрь, там уютнее. Но нет же. Он так и остался сидеть у моря. Ближе к вечеру он съел сэндвич и вернулся на трамвае в Город. Зашел ко мне.
«Так. Что дальше?»
Телфорд поколебался, глотнул воздуха.
«Он зашел в контору. Должен вам сказать, хоть он и был небрит, но настроение у него было очень хорошее. Шутил. А потом попросил у меня таблетку цианида – вы знаете, какого рода. Я не хотел бы объяснять подробней. Эта линия не слишком-то надежна. Вы меня понимаете, сэр».
«Да, да, конечно, – крикнул в трубку Маунтолив. – Ну же, дальше».
Телфорд, все еще заикаясь и мямля, продолжил:
«Он сказал, ему нужно отравить больного пса. Звучало весьма убедительно, я и дал одну. Ею-то он, скорее всего, и воспользовался, согласно заключению доктора Бальтазара. Я надеюсь, вы не думаете, сэр, что я каким-то образом…» Маунтолив ничего не думал, его переполняло возмущение, что сотрудник миссии позволил себе скомпрометировать его поступком столь вопиющим! Стоп, чушь какая. «Не будь дураком», – прошептал он сам себе. Но чувство, будто Персуорден виноват перед ним, не ушло. Черт, как-то все непоследовательно, и вообще порядочные люди так не поступают, – и странно к тому же. На какую-то долю секунды он увидел перед собой лицо Кенилворта. Он встряхнул трубку – слышимость была ни к черту – и заорал:
«Но что, в конце концов, все это значит?»
«Не знаю, – беспомощно отозвался Телфорд. – Непонятно все как-то».
Бледный, Маунтолив обернулся и пробормотал что-то скомканное, извиняясь перед маленькой группой пашей, стоявших рядом с телефоном в мрачноватой заводской пристройке. Немедленно – и самоуничижительно – плеснули руки, как стая взлетающих голубей. Никаких неудобств, никаких претензий. Господин посол занят всегда, и его проблемы не нашего ума дело. Мы можем и подождать.
«Телфорд», – сказал Маунтолив отрывисто и зло.
«Да, сэр».
«Расскажите мне все. Все, что вам известно».
Телфорд прокашлялся и замямлил опять:
«Ну, в общем, на мой взгляд, ничего особенно важного. Последним его видел в живых этот тип, Дарли, он школьный учитель. Вы, наверно, и не знаете его, сэр. Короче говоря, он встретил его по пути назад, в гостиницу. Он пригласил Дарли выпить к себе, и они довольно долго сидели там, разговаривали и пили джин. Покойный не сказал ничего представляющего для нас хоть какой-то интерес и определенно ничего, что могло бы навести на мысль о его дальнейших суицидальных планах. Наоборот, он даже сказал, что собирается уехать с ночным поездом в Газу отдохнуть. Он показывал Дарли гранки своего последнего романа, они, кстати, были упакованы, и адрес надписан, и еще макинтош, набитый всем, что может ему пригодиться в дороге, – пижама там, зубная паста. Почему он передумал? Я не знаю, сэр, но ответ может быть у вас в сейфе. Я потому вам и позвонил».
«Понятно», – сказал Маунтолив.
Странностей не убавилось, но он уже начал каким-то образом привыкать к мысли о том, что Персуорден сошел со сцены. Шок понемногу проходил, рассасывался – оставалась только тайна. Телфорд все лепетал в телефон что-то невнятное.
«Да, – сказал Маунтолив; к нему вернулось самообладание. – Да».
Ему потребовалось буквально несколько секунд, чтобы надеть привычную дипломатическую маску и проникнуться неподдельным интересом к хлопкоочистительной фабрике и к ее гулко ухающей машинерии. Он очень старался не показаться ушедшим чересчур в свои проблемы и выказать, напротив, подобающую заинтересованность в предмете экскурсии. Попутно он пытался разобраться в причинах своей нелепой вспышки гнева на Персуордена, совершившего акт, по природе своей… крайне эгоистический. Тьфу ты, черт! И все же сам акт был типичен, поскольку неосмотрителен совершенно: может, имело смысл заранее ожидать чего-то подобного? Теперь его гнев уравновесился глубокой депрессией.
Он прикатил на машине обратно, вне себя от нетерпения, и по дороге буквально места себе не находил. Было такое ощущение, что вот сейчас он вызовет Персуордена к себе, потребует объяснений, устроит ему разнос и назначит суровую, но вполне заслуженную епитимью. Приехал он ближе к вечеру, консульство закрывалось, но работяга Эррол еще корпел над какими-то архиважными отчетами. У всех, вплоть до шифровальщиц, вид был унылый донельзя – на людей, живущих на чужбине, смерть соотечественника редко действует иначе. Он заставил себя идти не торопясь, говорить не торопясь, не суетиться. Спешка, как и откровенные проявления чувств, достойна сожаления, ибо выдает власть импульса, эмоций там, где править должен один только здравый смысл. Его секретарша уже ушла, но он взял ключ от личного сейфа в архиве и спокойно взошел по ступенькам – два коротких пролета – к себе в кабинет. Ритм сердца, к счастью, никому, кроме него самого, слышен не был.
«Пожитки» покойного (трудно было бы сыскать слово более подходящее, дабы означить поэтическую волю случая) лежали у него на столе и выглядели все вместе нелепо до удивления. Кипа исписанной бумаги, адресованная издателю бандероль, макинтош и всяческая распоследняя дребедень, переписанная дотошным Телфордом в интересах истины (Маунтолив, впрочем, подобной поэзии был чужд совершенно). Он вздрогнул, увидев среди прочего бескровное лицо самого Персуордена – посмертная маска из парижского гипса с приложенной запиской от Бальтазара: «Я взял на себя смелость сделать с лица слепок. Думаю, пригодится». Лицо Персуордена! Под определенным углом зрения смерть может выглядеть как приступ дурного расположения духа. Маунтолив дотронулся до слепка не без некого суеверного внутреннего сопротивления, подвигал пальцами туда-сюда. По телу у него пробежали мурашки, его передернуло; он вдруг понял, что боится смерти.
Далее – к сейфу, за письмом, печати он сломал прямо пальцами – пальцы дрожали – и сел к столу. Уж здесь-то должна содержаться некая рациональная экзегеза этого чудовищного преступления против хорошего тона! Он резко втянул в себя воздух.
Мой дорогой Дэвид,
я порвал уже с полдюжины листов – все пытался объяснить тебе что-то. Каждый раз оказывалось, что я пишу литературу. Которой и без того уже до черта. Мое же решение напрямую связано с жизнью. Парадокс! Прости, старина, ради Бога. Совершенно случайно, со стороны нежданной, до меня дошли сведения о том, что Маскелиновы теории относительно Нессима были верны, мои же ошибочны. Я не стану раскрывать тебе своих источников ни сейчас, ни позже. Но я теперь знаю наверное, что Нессим поставляет контрабандой в Палестину оружие, и не первый день. Он, скорее всего, и есть тот самый неизвестный поставщик, через которого регулярно идут особо крупные партии, – см. Док. № 7 (Секретный фонд. Мандат. Папка 341. Разведка), – ну, да ты помнишь.
Я, однако, столкнулся с элементарной проблемой морального характера, вытекающей из вышеизложенного откровения, каковую решить мне не под силу. Я знаю, что следует в данном случае делать. Но так уж получилось, что этот человек – мой друг. Следовательно… quietus. [77]77
Молчание (лат.).
[Закрыть] (Таким образом, разрешаются, кстати, и некоторые другие проблемы, куда более глубокие.) Увы и ах! Что за скучный мир мы создали, чтобы жить в нем. Кишение заговоров и контрзаговоров. До меня – буквально на днях – дошло, что это не мой мир. (Слышу, слышу, как ты ругаешься сквозь зубы.)Я даже чувствую себя некоторым образом скотиной, сваливая на тебя так вот просто всю ответственность за происходящее, но знаешь, по правде говоря, в глубине души я отдаю себе отчет в том, что и ответственность-то на самом деле не моя и никогда моею не была. Она твоя! И я весьма тебе по этому поводу сочувствую. Но… ведь ты же кадровый… и должен действовать там, где я прошу меня уволить!
Я знаю: с точки зрения долга креста на мне нет; но я все же дал Нессиму знать, что игру его мы раскусили и что информация прошла. Конечно, тебя, как и его кстати, конфиденциальная информация ни к чему не обязывает, ты ведь можешь вполне не пустить ее дальше и вообще обо всем забыть. Грядущие твои искушения зависти во мне не вызывают. О моих же поспорить, сам понимаешь, уже не получится. Я устал, дружище; устал до смерти, как принято говорить у живых.
Так что…
Будь ласков, передай моей сестре, что я ее люблю и что я думал о ней постоянно, передашь'? Спасибо.
Преданный тебе Л. П.
Маунтолив был просто ошарашен. Читая, он чувствовал, как бледнеет. Потом долго сидел, изучая выражение лица на посмертной маске, – весьма характерная, нахальная до крайности мина, которая свойственна была спящему Персуордену; и в то же время отчаянно боролся с приступом ярости, зарницами полыхавшим по всем четырем сторонам внутреннего небосклона.
– Но это же глупость, – выкрикнул он наконец и ударил ладонью о стол. – Совершеннейшая глупость. Никто не кончает с собой по официальным мотивам! – Собственные слова – он еще не успел произнести их – ему тоже не показались интеллектуальным изыском, и он выругался. И вот тут-то впервые он потерялся совершенно.
Чтобы хоть как-то успокоиться, он заставил себя прочитать отпечатанный на машинке доклад Телфорда, медленно и очень внимательно, произнося вполшепота каждое слово, шевеля губами так, словно выполняя упражнение по языку. Это был отчет обо всех перемещениях Персуордена за двадцать четыре часа до смерти с показаниями самых разных людей, видевших его. Некоторые из показаний были довольно-таки любопытны: к примеру, Бальтазар видел его утром в кафе «Аль Актар», Персуорден пил арак и ел croissant. Он, очевидно, получил тем же утром письмо от сестры и читал его с видом сосредоточенным и мрачным. Когда вошел Бальтазар, он тут же сунул письмо в карман. Был он очень небрит и помят. В последовавшем разговоре ничего (за исключением одной ремарки) интересного не было. Фраза эта Бальтазару почему-то запомнилась. Персуорден прошедшим вечером танцевал с Мелиссой и сказал что-то вроде, мол, вот бы на ком жениться. («Это, скорее всего, была шутка», – пояснил Бальтазар.) Еще он говорил, что начал новую книгу, «всё про Любовь». Маунтолив, карабкаясь от строчки к строчке по странице вниз, вздохнул. Любовь! Потом начались странности. Персуорден купил бланк завещания и заполнил его, сделав своим литературным душеприказчиком сестру и отказав пятьсот фунтов школьному учителю Дарли и его любовнице. Датировал он сей документ почему-то задним числом, с разницею в несколько месяцев, – может быть, просто забыл дату? Потом попросил двух шифровальщиц заверить завещание.
Письмо от сестры прилагалось также, однако Телфорд тактично поместил его в отдельный конверт и запечатал. Маунтолив прочел его, озадаченно качая головой, а затем, залившись краской, сунул в карман. Он облизнул сухие губы и нахмурился, глядючи в стену. Лайза!
В дверях застенчиво возник Эррол и удивлен был до крайности, застав на щеке у шефа слезу. Он тут же тактично нырнул за дверь и поспешнейшим образом ретировался в собственный кабинет, мучимый чувством дипломатической неуместности, отчасти схожим с тем, что испытывал Маунтолив, когда ему позвонил Телфорд. В кабинете Эррол сел за стол и принялся с нервической сосредоточенностью думать: «Хороший дипломат никогда не выкажет своих чувств». Затем осторожно и хмуро закурил. Ему впервые показалось, что ноги-то у господина посла глиняные. Это каким-то непостижимым образом повысило его собственную самооценку, Маунтолив, в конце концов, всего лишь человек… Тем не менее открытие это почему-то сбивало с толку.
Этажом выше Маунтолив тоже прикурил сигарету, чтобы успокоить нервы. Тональность восприятия всей этой чудовищной ситуации постепенно менялась: чистый акт Персуордена (необъяснимый прыжок в анонимность, головою вниз) понемногу уступал место смыслу акта – тем следствиям, которые он влек за собой. Нессим! Тут он почувствовал, как его собственная душа съежилась и сжалась, и более глубокий, невыразимый по сути своей приступ ярости овладел им. Нессим! («Ну почему? – сказал его внутренний голос – Не было же ровным счетом никакой необходимости…») И вот дурацким этим сальто-мортале Персуорден переложил фактически всю тяжесть морального выбора на его, Маунтолива, собственные плечи. Он разворошил осиное гнездо: старый как мир конфликт между долгом, разумом и личной привязанностью, тяжкий крест любого политика, вечная и единственная – будем надеяться – болевая точка господина посла! Но какова свинья, подумал он (едва ли не с восхищением), с какой легкостью он перекинул ношу – просто до гениальности: уйти, и дело с концом! И добавил печально: «А Нессиму я доверял из-за Лейлы». Неприятность за неприятностью. Он курил и глядел на маску, прозревая сквозь мертвенную белизну гипса (сработано любящими пальцами Клеа с грубого Бальтазарова негатива) теплые, живые черты сына Лейлы: смуглая кожа, отстраненность в выражении лица – равеннская фреска! А затем он подумал, и даже подумал-то шепотом: «А может, и впрямь, в конце-то концов, за всем этим стоит Лейла?»
(«У дипломатов не может быть друзей, – сказала как-то Гришкина едко, стараясь его задеть, спровоцировать. – Они людей – используют». Она имела в виду, что он якобы использовал ее тело, ее красоту; теперь же, когда она забеременела…)
Он выдохнул медленно, мощно; груженый никотином кислород дал время нервам прийти в себя, повыгнал из головы дурь. Туман рассеялся, и он увидел пускай не очень ясные пока, но очертания нового ландшафта; ибо случилось нечто, повлекшее за собой неизбежные изменения в диспозициях дел и радостей, изменения в каждой значимой дате календаря, выстроенного им на ближайшее время: теннис, и пикники, и поездки верхом. Даже у простейших этих форм контакта с обыденным внешним миром, позволявших развеять taedium vitae [78]78
Скуку жизни (лат. ).
[Закрыть] одиночества, появился отныне словно бы некий привкус и мешал. Далее: следовало решить, что же делать с той информацией, которую столь бесцеремонно сбросил ему Персуорден. Конечно, необходимо передать ее по инстанции. Но вот здесь-то он мог и погодить. Так ли уж необходимо передавать ее по инстанции? Данные, изложенные в письме, лишены были даже намека на малейшие основания – за исключением разве что ошеломляющей непреложности самого факта смерти, которая… Он снова закурил и проговорил шепотом: «В помраченном состоянии рассудка». Тут уж, по крайней мере, позволительна была мрачная усмешка! В конце концов, самоубийство в дипломатии не такой уж и редкий случай: был же этот парнишка Гривз, влюбившийся сдуру в девочку из кордебалета, в России…
И тем не менее он чувствовал себя весьма угнетенным столь злонамеренным предательством со стороны друга, и близкого, заметьте, друга.
Так, ладно. Предположим, он просто-напросто сожжет письмо, взяв на себя весь прилагающийся груз моральной ответственности. Проще некуда: каминная решетка в двух шагах, поднести только спичку. Он мог бы в дальнейшем вести себя так, словно и не подозревал никогда ничего подобного, – да, если опустить тот факт, что Нессим-то знает, что он знает. Нет, он в ловушке.
И тут его чувство долга, как туфли, которые жмут, стало давать о себе знать при каждом шаге. Он представил себе Жюстин и Нессима, как они танцуют вдвоем молча, слепо, полузакрыв глаза, отвернув друг от друга чуть в сторону смуглые лица. Он видел их уже иначе, как будто в ином измерении, – лишенные плоти и чувств силуэты на примитивной фреске. Кто знает, им, может, тоже пришлось бороться с чувством долга, с чувством ответственности – перед кем? «Перед самими собой хотя бы», – печально прошептал он и покачал головой. Он никогда уже не сможет взглянуть Нессиму в глаза.
Его вдруг осенило. До сей поры их отношения с Нессимом были свободны от всяческих предосудительных сюжетов благодаря Нессимову такту – и существованию Персуордена. Господин литератор, представляя собой, так сказать, официальное звено, давал им свободу быть просто людьми. Им даже и близко не приходилось касаться материй деловых и политических. Отныне счастливая эта возможность была утрачена навсегда. И в этом смысле Персуорден тоже посягнул на его свободу. Что же до Лейлы, не здесь ли ключ к ее загадочному молчанию, к нежеланию, да нет, к невозможности увидеться с ним лицом к лицу?
Он вздохнул и позвонил Эрролу.
«Взгляните-ка вот на это», – сказал он. Глава его канцелярии с готовностью сел и принялся читать письмо. Время от времени он кивал очень медленно. Маунтолив прокашлялся.
«Весьма сумбурно, не так ли?» – сказал, презирая себя за то, что пытается поставить под сомнение слова и смыслы куда как ясные, пытается подтолкнуть Эррола, ибо сам-то он решение давно уже принял.
Эррол перечел письмо дважды внимательнейшим образом и отдал его Маунтоливу через стол.
«Н-да, выглядит весьма необычно, – осторожно сказал он, прощупывая по обыкновению почву. Не его ума дело давать подобным документам оценки. Оценки должны исходить от непосредственного начальства. – Выглядит несколько, э-э, несоразмерно ситуации, я бы сказал», – нашел он наконец удобную формулировку, нащупал, так сказать, ногой опору. Маунтолив сказал, нахмурясь: «Боюсь, от Персуордена следовало ожидать чего-то подобного. Очень жаль, что я не прислушался в свое время к вашим относительно него оценкам. Вы были правы, этот человек сидел не на своем месте – а я был не прав».
Глаз Эррола блеснул – гордость скромного трудяги. Однако же он смолчал, глядя на Маунтолива.
«Вы знаете, конечно, – сказал сей последний, – что Хознани уже некоторое время находился под подозрением».
«Да, конечно».
«Здесь, однако, отсутствуют доказательства того, о чем он говорит». – Он раздраженно постучал по письму пальцем дважды. Эррол откинулся на спинку стула и втянул ноздрями воздух.
«Ну, не знаю, – сказал он, все так же пробуя лед, – звучит, на мой взгляд, весьма убедительно».
«Не думаю, – возразил Маунтолив, – чтобы это могло служить веским основанием для официального доклада. Конечно, мы доложим в Лондон во всех подробностях. Но я решил ничего не сообщать в прокуратуру, обойдутся. Что вы скажете?»
Эррол сложил на коленях руки. На губах у него проявилась – медленно – лукавая улыбка.
«А может, передать материалы египтянам, – мягко предложил он, – и пусть решают сами. Это избавило бы нас от необходимости оказывать дипломатическое давление в том случае, если… если впоследствии все это дело примет более конкретные очертания. Хознани, он ведь был вашим другом, сэр?»
Маунтолив почувствовал, что кожа у него на скулах порозовела.
«В том, что касается дела, у дипломата нет друзей, – сказал он холодно и услышал в голосе своем интонации другого дипломата, по имени Понтий Пилат».
«Так точно, сэр». – Эррол глядел на него с восхищением.
«Как только вина Хознани будет доказана, мы будем вынуждены действовать. Но за отсутствием веских улик мы находимся пока в положении довольно шатком. С Мемлик-пашой – вы же знаете, он не слишком-то пробритански настроен… Я все думаю…»
«Да, сэр?»
Маунтолив подождал, словно бы принюхиваясь, и почувствовал, что Эррол начинает понемногу поддаваться. Несколько времени они сидели в потемках, думали. Затем по-театральному эффектно господин посол включил настольную лампу и сказал тоном решительным и твердым:
«Если вы не против, мы не пустим сюда египтян до тех пор, пока у нас, по крайней мере, не появится более конкретная информация. Лондон мы, конечно же, проинформируем. И естественно, с нашими оценками. Но никаких частных лиц, даже родственников. Да, кстати, вы не могли бы взять на себя переписку с родственниками? Придумайте что-нибудь такое…» – Бледное лицо Лайзы Персуорден встало перед ним, и его словно током ударило.
«Да, конечно. Я захватил с собой его личное дело. Кроме жены есть, кажется, одна только сестра, в Имперском институте слепых». – Эррол деловито зашелестел страницами, но Маунтолив сказал:
«Да-да. Я с ней знаком».
Эррол поднялся.
Маунтолив добавил еще:
«Я думаю, было бы справедливо отправить копию еще и Маскелину в Иерусалим, как вы считаете?»
«Определенно, сэр».
«А в прочем все останется между нами?»
«Так точно, сэр».
«Большое вам спасибо, – сказал Маунтолив с теплотой необычайной. Он вдруг почувствовал себя очень старым и слабым. Настолько слабым, что даже засомневался, а донесут ли его ноги вниз по лестнице до резиденции».
«Пока все».
Эррол вышел, прикрыв за собою дверь, с лицом сосредоточенным, как у глухонемого.
Маунтолив позвонил в буфет и попросил принести стакан бульона и бисквиты. Ел и пил он почему-то очень жадно и глядел притом не отрываясь на белую маску и на рукопись романа. Чувств было два – глубокой пакостности на душе и большой, невосполнимой утраты, и он не знал, которому из них отдать предпочтение. Потом он подумал, что Персуорден, помимо прочего, и сам того не желая, навсегда разлучил его с Лейлой. Да, и это тоже. Может быть, и вправду навсегда.
В тот же вечер, однако, он произнес весьма дельную речь (писал ее Эррол) в Александрийской Торговой палате, восхитив собравшихся банкиров беглым французским. Аплодисменты рокотали, распухая под потолок в величественной банкетной зале «Мохаммед Али клуба». Нессим, сидевший за противоположным концом длинного стола, сказал ответное слово – спокойно, деловито, бесстрастно. Раз или два во время обеда Маунтолив почувствовал на себе его темный, внимательный взгляд, он явно искал его глаз, пытался выведать что-то. Маунтолив, однако, глазами с ним встречаться не стал. Между ними отныне разверзлись пропасти, и ни один не знал, как перекинуть мост. После обеда он наткнулся на Нессима в холле, тот надевал пальто. У него возникло почти непреодолимое желание поговорить о смерти Персуордена. Предмет беседы возник между ними почти физически, навязчивым нелепым призраком покачиваясь в сумеречном воздухе. Маунтолив вдруг почувствовал стыд, как будто из-за какого-то физического дефекта, – как если бы его великолепную улыбку изуродовал вдруг выбитый или выпавший внезапно передний зуб. Он не сказал ни слова, Нессим тоже. В привычной, уверенной и мягкой манере двух высоких мужчин, куривших у парадного в ожидании автомобилей, невозможно было отследить ни малейшего намека на то, что творилось у них внутри. Однако же новая манера видеть уже возникла между ними, зоркая, трезвая и очень жесткая. Как странно: несколько слов, нацарапанных на клочке бумаги, сумели сделать их – врагами!
Потом, откинувшись на мягкой коже в украшенном флажками лимузине, затягиваясь неторопливо роскошной сигарой, Маунтолив почувствовал, как его душа, самая глубокая и нежная ее часть, становится сухой и пыльной, как египетский надгробный камень. Странно – но все ж таки бок о бок с этими глубинными переживаниями сосуществовали иные, бренные, пустые: он был в восторге от того, какой имел успех, как очаровал банкиров. Он, несомненно, был великолепен. Журналисты, в качестве величайшего одолжения, получили копии его сегодняшней речи заранее, и назавтра она будет слово в слово напечатана в утренних выпусках и должным образом проиллюстрирована свежими фото. Дипкорпус, как всегда, будет кусать локти от зависти. Почему никто, кроме него, не догадался сделать заявление о золотом стандарте: с одной стороны, вполне публичное, с другой же – завуалированное так изящно? Он попытался закрепить течение мысли на шипучей этой точке, бросить якорь в тихой бухте заслуженного самовосхищения, но тщетно. Он так и не увидел Лейлу. И увидит ли теперь?
Где-то там, внутри, упала некая преграда, открылась в дамбе течь. Он ввязался в новый, незнакомый внутренний конфликт, черты его лица сделались строже, изменился, стал целеустремленнее и строже ритм походки.
В ту же ночь на него обрушился мучительный приступ боли в ушах, такой же, каким он обычно отмечал каждое возвращение домой. Впервые в жизни болезнь эта приключилась с ним вне стен и палисадов материнской заботы, и он встревожился всерьез. Он попытался, и весьма неуклюже, заняться самолечением, изгнать, так сказать, беса проверенным домашним средством, однако по неопытности перекалил салатное масло и, влив его себе в ухо, заработал в придачу весьма неприятный ожог. В результате данного инцидента он провел в постели три бесконечных муторных дня, читая детективы и глядя во время долгих пауз в белую стену. По крайней мере, это извинило его отсутствие на церемонии кремации Персуордена – он бы наверняка встретил там Нессима. Среди многочисленных посланий и подарков, хлынувших в резиденцию, стоило лишь вести о его недуге просочиться в Город, был великолепный букет цветов от Нессима и Жюстин с пожеланиями скорейшего выздоровления. Будучи александрийцами и друзьями, иначе они поступить не могли.
Он много думал о них в те долгие бессонные ночи и впервые, в свете нового видения ситуации, узрел в них загадку, нет, две загадки. Даже и личные их отношения, моральная, так сказать, их основа, стали казаться ему чем-то странным, чего он никогда раньше правильно не понимал, не оценивал ясно. Неким странным образом дружба мешала ему увидеть в них людей, которые, подобно ему самому, были способны жить на нескольких уровнях сразу. Конспираторы, любовники – где же ключ к сей загадке? Тут он совершенно потерялся.
Но, может быть, искать ключи стоило бы чуть дальше, в прошлом, дальше, чем в состоянии были заглянуть с точки зрения дня сегодняшнего – он ли сам, Персуорден ли.
Он многого не знал о Жюстин и Нессиме – а знал бы, глядишь, и разобрался бы сам. Эти факты совершенно необходимы для нашей истории, однако, чтобы включить их должным образом в ткань повествования, нам придется пройти по собственным же следам вспять, ко времени, которое непосредственно предшествовало заключению этого странного брака.