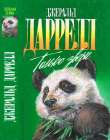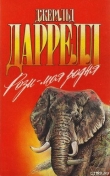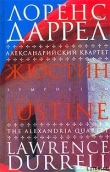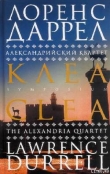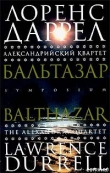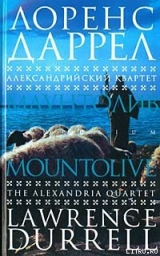
Текст книги "Маунтолив"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Все ждали – и с чувством – голоса надтреснутого, старческого, мелодичного, первых строф Священного Писания, и во внимании этом и вере, озарившей тесный круг отмеченных пороком и корыстью лиц, не было ни игры, ни позы. Кто-то подался вперед, облизнув губы, словно губами ожидая принять облатку Божьего слова; иные наклонили головы и закрыли глаза, готовясь – к новой музыке? Старый шейх сел, опустил на колени восковые руки и прочел первую суру, полную медвяным теплым светом знакомых смыслов, голос его поначалу слегка подрагивал, но постепенно набрал уверенность и силу, отталкиваясь от внимательной тишины зала. Глаза его были теперь широко открыты, матовые, как у мертвого зайца. Слушатели следовали за ходом текста, ловя с восторгом и вниманием каждое сказанное слово, и искали общий путь в мощном потоке поэтической речи, как рыбья стайка, ведомая в открытом море безошибочным инстинктом вожака. Нессим расслабился, напряжение ушло, дав место ощущению тепла где-то в области сердца; он любил суры, и голос у проповедника был хорош, хотя мелодия только намечалась пока где-то на периферии, спорадически, тускло. Но то был «голос глубин души» – подобно артерии, направленному току крови, его духовная сила пронзала плоть стихов, наполняя их новыми смыслами, разнообразием тонов и ароматов, и люди слушались его и отвечали дрожью почти физической, как напрягаются паруса под налетевшим шквалом. «Аллах!» – выдыхали они, встречая каждый новый знакомый перл Писания, и этот тихий шепот добавлял уверенности голосу в его сладком, нежном регистре. «Голос с музыкою слаще благодати» – есть такая поговорка. Род декламации был драматический, с широким диапазоном стилей, проповедник приводил голос в соответствие с сутью текста – то гремел, то молил, то проклинал, то советовал. Ничего удивительного, таким он быть и должен, в Египте слепые сказители способны с голоса запоминать огромные отрезки текста, а Коран по объему равен примерно двум третям Нового Завета. Нессим слушал его с восхищением и нежностью, глядя вниз, на цветистый ковер, полузавороженный отливами, приливами и зыбкой рябью голоса, отвлекшего внимание от беспроволочных линий «за» и «против», от бесконечного внутреннего торга – как именно сочтет необходимым Мемлик ответить на давление, которое будет вынужден оказать на него Маунтолив.
Между сурами – несколько секунд молчания, никто не шевелился, не издавал ни звука, в созерцании сказанного прежде. Проповедник опускал подбородок на грудь, словно собираясь с силами, и тихо сплетал пальцы. Затем он снова поднимал глаза к невидимому свету, и магический пульс текста завораживал аудиторию. Коран был прочитан весь уже после полуночи, старик перешел к историям и притчам, и слушатели немного расслабились; то была уже не музыка, здесь был нужен ум, и быстрота реакции, и юмор: своего рода диалектика Откровения – этика и руководство по эксплуатации. Изменился голос, изменились люди, на лицах проступили снова привычная хитрость и хватка тружеников мира сего – банкиров, студентов, деловых людей.
Еще два часа, и вечер кончился. Мемлик проводил гостей туда, где их ждали автомобили с белыми капельками росы на колесах и хромированных плоскостях. Нессиму он сказал тихим небрежным голосом – голосом, который сразу вывел на самую суть дальнейших взаимоотношений, как свинцовый тяжкий водовод:
«Я приглашу вас снова, господин мой, на подольше. И подумайте».
Пальцем он осторожно прижал пуговицу Нессимова пальто, словно желая сказанное подчеркнуть.
Нессим поблагодарил его и пошел по подъездной дорожке между пальмами туда, где оставил свой лимузин; явное облегчение, не без явной же примеси сомнений. Во всяком случае, думалось ему, он выиграл передышку, которая, правда, никак не отменяет тех сил, что против него ополчились. Но даже и за передышку нужно быть благодарным – однако надолго ли? Гадать покуда смысла нет.
Жюстин еще не ложилась. Она сидела в холле «Шефердс-отеля», под часами, за нетронутой чашкой кофе по-турецки. С обычной своей приветливой улыбкой он шагнул сквозь стеклянную дверь, и она тут же встала; с места она не двинулась, только глядела на него напряженно, взволнованно, словно пытаясь угадать его чувства по тому, что он нес в руках. И расслабилась вдруг, улыбнулась облегченно:
«Фу ты! Как гора с плеч! Слава Богу! Ты только вошел, и я все поняла по твоему лицу».
Они обнялись не спеша и нежно, и он опустился в кресло с ней рядом:
«Бог ты мой, я думал, это никогда не кончится. Мне тоже пришлось поволноваться. Ты ужинала одна?»
«Да. И видела Дэвида».
«Маунтолива?»
«Он был здесь на каком-то званом обеде. Он поклонился мне, этак холодно, но даже не остановился.
Впрочем, с ним были люди, банкиры или что-то вроде того».
Нессим заказал кофе и, прихлебывая понемногу, дал ей отчет о проведенном у Мемлика вечере.
«Теперь ясно, – сказал он задумчиво, – британцы пустили в ход те папки с корреспонденцией, которые им удалось перехватить в Палестине. Наше отделение в Хайфе докладывало об этом Каподистриа. Логичнее всего было передать их Нуру и заставить его… предпринять определенные шаги. – На оборотной стороне конверта он нарисовал карандашом маленькую виселицу с висящей на ниточке крохотной, похожей на муху фигуркой. – Мемлик дал мне понять, что он сможет потянуть некоторое время, но давление на него оказывают настолько серьезное, что бесконечно тянуть он не сможет; ему придется рано или поздно пойти Нуру навстречу. Я, в сущности, сказал ему, что к Рождеству я смогу… я буду вне опасной зоны. Тогда его расследование ни к чему не приведет».
«Если все будет идти по плану».
«Все будет идти по плану».
«И что тогда?»
«И что тогда! – Нессим вытянул над головой свои длинные руки, зевнул и кивнул в ее сторону. – Займем новую диспозицию. Да Капо исчезнет, ты уедешь, Лейла съездит в Кению отдохнуть, на подольше, вместе с Нарузом. Вот что тогда».
«А ты?»
«Я останусь еще на некоторое время, прослежу, чтобы все шло как надо. Я нужен в первую голову здесь, нужен общине. Есть еще несколько неотложных политических вопросов. А потом – к тебе, и уедем куда-нибудь надолго, в Европу или еще… куда ты хочешь».
Она глядела на него без улыбки.
«Что-то мне не по себе, – сказала она наконец, погасив невольную дрожь. – Нессим, давай съездим к Нилу на часок, успокоимся, а потом уже – спать».
Он был рад побаловать ее, и целый час машина мягко шуршала по величественным, обсаженным жакарандами нильским набережным, урчал чуть слышно мотор, они переговаривались вполголоса.
«Вот что меня беспокоит, – сказала она, – Мемлик ведь теперь с тебя не слезет. Удастся тебе руку-то с плеча стряхнуть? Если он найдет на тебя надежный компромат, он хватки не ослабит, пока не выжмет из тебя все до капли».
«Как бы то ни было, – тихо ответил Нессим, – нам выбирать не приходится. Потому как начни он только процесс, и, ты сама прекрасно знаешь, правительство не упустит случая конфисковать нашу собственность. Уж лучше я стану удовлетворять его личные аппетиты, пока достанет средств. Потом посмотрим. Главное – собрать все силы перед решающей… схваткой».
Они как раз ехали мимо освещенных ярко садов британского посольства. Жюстин встрепенулась и дернула его за рукав, она углядела знакомую худощавую фигуру в пижаме, отрешенно вышагивающую по зеленой лужайке.
«Маунтолив», – сказала она.
Нессим печально глянул в сторону сада, и вдруг его охватило искушение остановить машину, забраться в сад и устроить старому другу сюрприз. Вещь вполне обыкновенная для них – три месяца тому назад. Куда все это подевалось?
«Он простудится, – сказала Жюстин, – босиком-то. У него телеграмма».
Нессим прибавил скорость, и машина свернула на шоссе.
«Скорей всего, – сказал он, – у него бессонница, вышел побродить босиком по травке, ноги охладить, чтобы лучше спалось. Ты и сама так часто делала раньше. Помнишь?»
«А телеграмма?»
В телеграмме, с которой бессонный посол бродил по своим ночным владениям, заглядывая в нее время от времени, покуривая сигару, никакой особенной тайны не было. Раз в неделю они играли с Бальтазаром по телеграфу партию в шахматы – это событие каждый раз утешало его в горестях и доставляло ту тихую, безмятежную радость, которую занятые по горло люди находят в отгадывании кроссвордов. Он и внимания не обратил на лимузин, проехавший мимо сада и покативший себе в сторону Города.
15
Так они и жили, не первый месяц, актеры: словно бы пойманные раз и навсегда в гротескных позах, имевших иллюстрировать собой непредсказуемость путей Господних. Маунтолив, сильнее прочих одержимый чувством профессионального несоответствия, ощущал себя не человеком уже, но инструментом, без собственной воли и цели, во власти мощных гравитационных полей большой политики. Настроения, порывы, личные пристрастия отныне лишены были, так сказать, доли в наследстве и существовали сами по себе, на пайке более чем голодном. А Нессим, интересно, он тоже чувствовал, как воцаряется повсюду гнилостный запах стагнации? Маунтолив часто с горечью возвращался мыслью вспять, к случайной фразе сэра Луиса, дравшего щетками перед зеркалом скальп: «Иллюзия, что ты волен действовать!» Время от времени на него накатывали теперь мучительные приступы головной боли, с зубами тоже начались нелады. Он почему-то решил, что это все оттого, что он слишком много курит, попытался бросить, но безуспешно. Борьба с табаком горести его только лишь усугубила.
Но если даже у него отныне были связаны руки, что же говорить о разных прочих? Подобиями бесплотных созданий больного воображения виделись они, лишенные смысла, пустые, как костюмы без тел; расставленные по местам, в строгом согласии со сценарием бесцветной драмы противоборствующих воль. Нессим, Жюстин, Лейла – лишены отныне плоти, словно персонажи из снов, живущие в тусклом мире, чьи обитатели из воска и без лиц. Трудно было себя заставить даже просто помнить о долге любви к ним. И молчание Лейлы прежде прочего указывало на явственный грех соучастия.
Осень подошла к концу, а Нур никак не мог представить доказательств активных действий египетской стороны. Пуповина, коей миссия Маунтолива была связана с Лондоном, засорялась все более – сперва длинными, а потом и очень длинными телеграммами: речитативы упреков и нотаций и рекомендаций по скорейшему осуществлению действий, которые Маунтолив научился воспринимать уже не как результат случайного стечения обстоятельств, но как необходимость. Интересен был, неким парадоксальным образом, и первый большой урок, преподнесенный ему его же собственной профессией; ибо вне пределов жестко очерченного круга личных колебаний и страхов он следил за развитием ситуации пристально, с чувством восхищения и ужаса пополам. К Нуру он ездил теперь капризной этакой мумией, едва ли не стесняясь своего роскошного, хоть и купленного с рук мундира, долженствующего противную сторону пугать и понукать. Старенький министр лихорадочно пытался каждый раз его утешить: с энтузиазмом обезьяны, скачущей на конце длинной цепи. Но что он мог изменить? Он старательно делал хорошую мину, но игра все не шла. Предпринятое Мемликом расследование пока что далеко от завершения. Жуть как важно выяснить правду до самой последней инстанции. Есть еще нераспутанные нити. И так далее.
Маунтолив делал то, чего никогда прежде ему делать не доводилось. Он багровел и стучал не зло, но вполне убедительно по пыльному столу между ними. Он становился мрачнее тучи и предсказывал разрыв дипломатических отношений. Он даже представил Нура к награде… поняв, что это последний доступный ему аргумент. И все зря.
Мемлик, отрешенный, ленивый и толстый, уселся рядом раскорякой и застил свет: все обещал и ничего не делал. Каждый норовил теперь нажать на смежную инстанцию и согласно протоколу, и помимо всех протоколов: Маскелин и палестинская Высокая Комиссия давили на Лондон, требуя решительных действий; Лондон, в дымке величественных назиданий, давил на Маунтолива; Маунтолив давил на Нура, расстраивая старика до слез, наглядно доказывая ему его полное бессилие, ибо с Мемликом без явной поддержки короля он сладить не мог, а король был болен, и болен опасно. В самой нижней точке этой перевернутой пирамиды сидела крохотная фигурка министра внутренних дел, с его бесценной, запертой в скрипучих шкафах коллекцией Коранов.
Вынужденный и далее оказывать дипломатическое давление, Маунтолив по-прежнему сиял в приемной Нура светом пугающим и совершенно тщетным, как стареющий jeune premier [97]97
Герой-любовник (фр. ).
[Закрыть], выслушивал обстоятельный Нуров поток извинений, выпивал положенную чашку кофе и тоскливо глядел в умоляющие, древние, как Нил, глаза напротив.
«Но какие вам еще нужны доказательства, паша, помимо тех бумаг, что я вам уже передал? – Ладошки министра широко разошлись, разгладив полоску воздуха так, словно он пытался втереть в нее кольдкрем; он каждой порой источал приязнь, примирительность и просьбу простить – как пот. – Он вникает в самую суть проблемы, – беспомощно проскрипел Hyp. – Начнем с того, что в Египте не один Хознани, – и вовсе с отчаянием в глазах. Взад-вперед качалась черепашья голова на морщинистой шее, ровно, как маятник».
Маунтолив выругался про себя, представив себе длинные телеграммы из Лондона, одну за другой, бесконечные, как ленточный червь. Нессим с завидной ловкостью укрылся, так сказать, в мертвой зоне между своих многочисленных противников, и никто из них не мог его достать – пока. Нашла-таки коса на камень.
Один только Донкин забавлялся от души, наблюдая все эти па – столь для Египта типичные. Собственная любовь к мусульманам научила его видеть их мотивы на три фута вглубь, отслеживать игру их совершенно детских страстей, вроде жадности к примеру, за лживыми обещаниями, за театральным министерским молчанием. Маунтолив перед лицом этих испытаний становился медленно, но верно истеричен, и это Донкина забавляло тоже. Шеф час от часу превращался, под давлением превосходящих сил, в обычного сановника, обидчивого, надутого, сентиментального. Кто бы мог поверить в такие перемены всего лишь пару месяцев назад?
Замечание о том, что в Египте не один Хознани, Нуру не принадлежало и было плодом цепкой мысли предусмотрительного Рафаэля – он высказал эту мысль как-то утром, брея по обыкновению хозяина; Мемлик к мнениям цирюльника прислушивался, и весьма, – разве тот не европеец? За утренним бритьем обычно обсуждались события дня грядущего. Рафаэль всегда был полон идей и мнений, но подавал он их путями окольными и облекал пусть и в упрощенную, но зато легкодоступную форму. Он знал, что Мемлик обеспокоен настойчивостью Нура, хотя и не выкажет этого ни за что на свете, и знал еще: Мемлик станет действовать в том только случае, если король поправится настолько, что будет в состоянии дать Нуру аудиенцию. Дело времени и случая; а пока – почему бы не засунуть дело Хознани куда подальше? Едва ли не дюжина подобных дел уже лежала под сукном, собирая пыль (или, может быть, деньги), ибо король был болен.
В один прекрасный день Его Величество, благодаря уходу своих новых немецких докторов, почувствует себя много лучше и аудиенцию даст. Он пошлет за Нуром. Тут-то все и кончится. Что будет дальше: старенький телефон с гнутой трубкой на столике возле желтого дивана негромко задребезжит, и старческий голос на том конце провода (тщательно скрывая ликующие ноты) скажет: «Это Hyp, я говорю из самого Дивана самого короля, я получил аудиенцию. То дело, о котором мы говорили, касательно британского правительства. Оно должно теперь сдвинуться с места, и довести его нужно до конца. Будь славен Господь наш!»
«Будь славен Господь наш!» – И с этого момента руки у Мемлика будут связаны. Но покуда он был еще агент свободной воли и волен был выказывать презрение к старшему – по возрасту – министру, игнорируя его запросы.
«Есть на свете два брата, экселенц, – сказал Рафаэль совершенно сказительским тоном, и на его маленьком кукольном лице явилось выражение туманное и разом жесткое. – Два брата Хознани, а не один, экселенц. – Он вздохнул, а ловкие пальцы его продолжали цеплять щепотки темной Мемликовой кожи и выбривать их начисто. Он не спешил, ибо зарегистрировать идею в голове у мусульманина – все равно что выкрасить стену: нужно дождаться, когда первый слой подсохнет, прежде чем накладывать второй. – Из двух этих братьев один богат землей, а у другого много денег – я о том, который подарил Коран. Зачем экселенцу земля? Но тот, чей кошелек бездонен…» – В голосе – вся сила презрения человека без корней к земле, сколь угодно хорошей.
«Так, так, но ведь…» – сказал Мемлик с неторопливым, вялым нетерпением, но губами не двинул под хрусткими поцелуями бритвы. Он зацепился за тему и ждал продолжения.
Рафаэль улыбнулся и помедлил минуту.
«И в самом деле, – сказал он раздумчиво, – бумаги, полученные вами от Его Превосходительства, были подписаны Хознани – фамилией были подписаны. Кто же может с уверенностью сказать, который из братьев их подписал, который виновен, а который – нет? И если вдуматься по-настоящему, стоит ли приносить в жертву человека с деньгами ради человека с землей? Я бы не стал, экселенц, я бы не стал так делать».
«А что бы сделал ты, мой Рафаэль?»
«Для таких людей, как британцы, можно сделать вид, что виноват был бедный брат, а не богатый.
Я только лишь думаю вслух, экселенц, маленький человек среди больших и важных дел».
Мемлик тихо дышал, не открывая рта, прикрыв и глаза тоже. Никогда не выказывать удивления – уж этому-то он научился. Однако же мысль, зависшая праздно в голове, была сама по себе удивительна. За последний месяц его библиотека пополнилась тремя очень ценными экземплярами, не оставившими никакого сомнения в том, что его клиент, старший Хознани, человек достаточно богатый. Он думал, как кули ворочал. Удовлетворить и британцев, и собственные аппетиты… Не глупо, совсем не глупо!
Не далее чем в восьмистах ярдах от кресла, в котором раскинулся Мемлик, по другую сторону мутных нильских вод сидел над бумагами Маунтолив. Перед ним на полированном столе тускло отблескивала большая, пышно изукрашенная пригласительная карточка, предлагавшая ему почтить своим присутствием одно из величайших светских событий года – Нессимову утиную охоту на озере Мареотис. Он прислонил ее к чернильнице, чтобы прочитать еще раз, и по лицу его пробежало странное выражение – упрека?
С той же почтой пришел еще один пакет, и даже более важный: Лейла молчала куда как долго, но и теперь он сразу углядел ее нервический почерк на тщательно разлинованном, шипром пахнущем конверте. Внутри, однако, он нашел вырванный из ученической тетрадки листок, исписанный словами и фразами, разбросанными абы как, словно бы в невероятной спешке:
Дэвид, я уезжаю за границу, может, надолго, а может, и нет, пока не знаю; против воли. Нессим велел. Но я должна увидеть тебя до отъезда. Наберусь смелости и встречусь с тобой в последний вечер, не подведи меня. У меня есть о чем спросить тебя и есть что сказать. Это «дело»! Клянусь тебе, я ничего о нем не знала до самого карнавала; теперь только ты, только ты в состоянии спасти…
И далее не разбери-поймешь; Маунтолив был обуреваем странной мешаниной чувств – невесть откуда взявшееся облегчение трепетно мерцало чуть не на грани злости: «Да что ты говоришь?» Как будто вчера расстались, столько времени прошло, и вот она будет ждать его как ни в чем не бывало, чуть стемнеет, возле «Auberge Bleue», в старом конном закрытом экипаже, не прямо на дороге, а чуть в стороне, в пальмах! По крайней мере, план сей был отмечен отблеском прежнего полета фантазии. По каким-то неведомым причинам Нессим не должен был знать об этой их встрече – а ему-то что за дело? Но известие о том, что она не имела отношения к конспиративной деятельности сына, преисполнило его беспримесным уже облегчением и нежностью. А он-то все это время видел в Лейле враждебную, злую, тайную ипостась Нессима и учился ее ненавидеть! «Моя бедная Лейла», – промолвил он вслух, поднеся конверт к носу, чтобы вдохнуть аромат chypre. [98]98
Французский одеколон «Шипр».
[Закрыть] Он снял трубку и поговорил вполголоса с Эрролом:
– Насколько я понимаю, Хознани пригласил на охоту весь наш штат? Да? Да уж, в крепости нервов ему не откажешь, в такое-то время… Я-то, конечно, не поеду, но я бы хотел, чтобы вы, ребята, поехали все, заодно и за меня извинитесь. Для поддержания, так сказать, хотя бы внешних приличий. Поедете? Вот и славно, благодарю вас. Да, и еще. Вечером перед охотой я исчезну по личному делу и появлюсь только на следующий день – может быть, даже встретимся на шоссе в пустыне. Да нет, я в самом деле рад за вас. Никаких проблем, и – ни пуха!
Последующие десять дней прошли как в угаре, размеченные лишь перемежающейся лихорадкой будничных хлопот, уже и не наркотика вовсе, позволяющего заткнуть бредням пасть, но пытки – унылой и постной. Глядя утром в зеркало над раковиной в ванной на собственное лицо, подставляя его с чувством нервического чуть не омерзения под лезвие бритвы, он уже чувствовал себя невероятно уставшим, выжатым до капли. Виски у него поседели – теперь уже вполне заметно. Откуда-то из помещений для прислуги назойливо и нудно подвывало радио, словно застряв на весь Божий день на последнем местном шлягере, который все лето преследовал его в Александрии: «Jamais de la vie». Мелодию эту он ненавидел лютой ненавистью. Странное время – серый лимб, наполненный мелким крошевом привычек, обстоятельств и обязанностей, – его раздражало буквально все; но в глубине души он знал, что просто перестраивает силы, собирает полки и дивизии перед решающей встречей – с Лейлой. Каким-то непостижимым образом она, эта встреча, должна была определить даже не столько физически значимый смысл его возвращения в Египет, сколько его психический смысл, в соотнесенности с внутренним способом бытия. Господи! Как неуклюже, как банально выстроилась фраза – но как иначе выговаривать такие вещи? Нужно было взять внутри себя некое ощутимое смутно препятствие, пережить, как ломку голоса, неудобный момент – не воспитания, но созревания чувств.
На лимузине с посольскими флажками он мчал по хрусткой пустыне, радуясь тихому посвисту овеваемого зимним ветром мотора и почти что конскому ржанию пустынных мелких бесов, запутавшихся скопом в ветровом стекле. Давно уже не выезжал он вот так, один, в пустыню – приятное воспоминание о путешествиях иных, счастливых дней. Рассекая надвое податливую стену тихого белого воздуха, со стрелкой спидометра за цифрой шестьдесят, он напевал себе под нос – надо же, какая гадость – мотивчик припева:
Jamais de la vie,
Jamais dans la nuit,
Quand ton cœur se deeemange de chagrin. [99]99
Никогда в жизни,
Никогда этой ночью,
Когда сердце дрожит от тоски (фр.).
[Закрыть]
Он словно поймал себя за руку и удивился – сколько, интересно, времени он так ехал и пел? Целую вечность. Не то чтобы счастье, но и впрямь ощущение горы, упавшей с плеч: затекшая душа еще зудела, но – Господи! – какое облегчение. Даже и дурацкая эта песенка оказалась в помощь, часть утраченного образа Александрии, которую он находил когда-то очаровательной и которая теперь понемногу возвращалась. Удастся ли вернуть ее? Возможно ли ее вернуть?
Ближе к вечеру он добрался до места, где край пустыни постепенно перетекал в хаос пригородных трущоб, и плавной центростремительной дугой поехал не торопясь объездной дорогой к центру. Небо все было в тучах. Над Александрией гремела гроза. К востоку, над льдисто-зеленой глыбой озера, бушевал ливень – блесткие длинные иглы дырявили шкуру воды, и даже сквозь ненавязчивое бормотание мотора был ощутимо слышен отдаленный шорох дождя. Он окинул взглядом жемчужно-белый Город под черным ватным одеялом, по стеблям минаретов мазнули темно-алым косые полосы заката: как белье макнули в кровь. Секли, ерошили морскую гладь короткие шквалы. А выше кочевали мощные стада сизо-черных, подбитых кровью туч, отбрасывая странный отсвет на улицы и площади белого Града. Дождь был в Александрии редкий и недолгий зимний гость. Чуть погодя, очень скоро, подкрадется сторонкою ровный ветер с моря и в несколько минут расчистит небо, скатает кучевые облака, как ковер. Стеклистый холодок зимнего здешнего неба вернет себе свои права и свет свой и вычистит, отполирует Город заново до кварцевого блеска, как редкий какой-нибудь, на фоне пустыни, артефакт. Нетерпение ушло. Закат понемногу затягивался сумеречной дымкой. Он ехал мимо внешней гавани, бесконечная лента уродливых лачуг, пакгаузы, колеса жирно чавкали о нагретый днем гудрон, чуть сбрызнутый недолгим дождичком. Надо бы убавить газу…
Он медленно въехал в полумрак грозы, дивясь на цветовую гамму света и на горизонт, натянутый как лук. Закат пригоршнями рассыпал рубины по мачтам и рубкам боевых кораблей на рейде (которые скорчились и выставили орудийные дула, будто рогатые жабы). Город снова стал древним; сквозь шорох дождя – по дороге к летней резиденции он попал под дождь – он явственно ощутил его эллинистическую меланхолию, странный, нездешний отсвет молний воссоздал его, раскрасил, как картинку в книжке, – станиоль растрескавшихся тротуаров, улиточьи домики, тертый рог, слюда; лачуги из самана, крашенные в цвет бычьей крови; бродят любовники по площади Мохаммеда Али, заблудившись в дожде с непривычки, несвязно, как ненастроенные инструменты; перестук фиолетовых трамваев у моря, вдоль кружевного плетения пальмовых рощ. Запущенный Город, древний как мир, чьи улицы сцементированы пылью, принесенной ветром из пустыни, сбрызнутой влагой дождя. Он все это чувствовал заново, дав Городу волю развернуться, лечь в его душе огромной морской звездой – стон лайнера, уходящего по кромке заката в море, или поезд, текущий в глубь материка жидкой россыпью алмазов, бормочут неразборчиво колеса в каменистых гулких балках; припорошенные пылью храмы, давно забытые, наполовину занесенные песком…
Маунтолив теперь все видел через призму странной, несвойственной ему ранее усталости быть, в которой узнал наконец знак отличия, вроде нашивки за выслугу лет; жизнь награждает ею человека зрелого вполне – стигматы жизненного опыта, морщины возраста. В гавань плеснуло ветром. Шеренги мокрого такелажа рванулись куда-то, не сходя с привычных мест, забились дрожью, как листва огромного неведомого древа. Слезы побежали вниз по лобовому стеклу, бесшумно и неутомимо заходили дворники… Короткая пробежка в странной, напряженно сжатой тьме, с театральной подсветкой молний, и затем – снова ветер, как положено, с севера, который взбил, взмесил на море обычные белые плюмажи гребней, а после стал ломиться в гигантские ворота облачных замков до тех пор, пока на лица мужчин и женщин не лег отблеск бездонного зимнего неба. Времени оставалось до черта.
Он доехал до летней резиденции, чтобы лично убедиться в том, что персонал о его прибытии извещен; он намеревался остаться здесь на ночь, а с утра отправиться обратно. Он открыл парадное своим ключом, нажав одновременно кнопку звонка, и постоял немного, слушая, как торопливо шаркает по коридорам Али. Когда стариковский зыбкий шаг был совсем уже близко, налетел с ревом северный ветер, задрожали в оконных рамах стекла, и дождь вдруг сразу перестал, как выключили его.
До рандеву оставался час или около того: приятный промежуток времени, в самый раз принять ванну и переодеться. К собственному своему удивлению, он чувствовал себя абсолютно спокойным – ни тебе терзаний, ни сомнений, ни прежней взвинченности с чувством облегчения пополам. Он безоглядно отдался на волю случая.
Он съел сэндвич и выпил две стопки неразбавленного виски, прежде чем выйти и дать лимузину волю скатиться не спеша по Гранд Корниш к «Auberge Bleue», ближе к окраине Города, где уже проглядывали сквозь редкие стволы пальм заблудившиеся белые дюны. Небо расчистилось, белые барашки волн бежали по морю к суше и с грохотом разбивались о металлические пирсы Чэтби, оседая мелкой пылью. У самой грани горизонта тускло проблескивали одинокие молнии – как артиллерийская дуэль двух крейсеров, подумалось ему.
Он съехал осторожно с шоссе на совершенно пустую парковку «Auberge», выключив на ходу подфарники. Посидел с минуту, привыкая к синей полумгле. В «Auberge» было пусто – рановато еще, те, кто намеревается нынче ужинать и танцевать здесь, только еще собираются. А потом он увидел. Прямо у дороги, по другую сторону парка, белая полоска песка и несколько гнутых пальм. Там и стояла гхарри. Горели старомодные фонарики, перемигиваясь, как светлячки, под легким бризом с моря. На козлах дремала темная фигура в феске.
Он пошел по усыпанной гравием площадке легким, радостным шагом, слушая, как скрипят под ногами камушки, и, подойдя к гхарри, негромко позвал:
«Лейла!»
Темный силуэт на козлах на фоне мерцающего смутно неба обернулся, а изнутри, из экипажа, он услышал голос – голос Лейлы, – и фраза была что-то вроде:
«Бог мой! Дэвид, ну вот мы и встретились. Я специально приехала сюда, чтобы сказать тебе…»
Он удивленно подался вперед и напряг, как мог, глаза, но разглядел лишь смутный силуэт в дальнем углу, не больше.
«Забирайся, – сказала она, словно подтолкнув его в спину. – Забирайся, поговорим, ну, давай».
И вот здесь-то чувство ирреальности происходящего настигло наконец Маунтолива – Бог знает почему. Но ощущение было как во сне, когда идешь, не касаясь земли ногами, или взлетишь вдруг и поднимаешься сквозь воздух, как пробка сквозь толщу воды. Все его пять, или сколько их там, чувств потянулись вперед, как антенны, к темной фигуре в углу, пытаясь собрать воедино, как-то уразуметь смысл запинающихся этих фраз: что-то было не так, какой-то был в словах ее странный привкус и мешал – как иностранный акцент в знакомых голосах; весь его аппарат восприятия словно бы накренился, хлебнул воды – ощущение не из приятных.
Между тем все обстояло проще некуда: он не вполне узнал ее голос. Или, если иначе, Лейлу он, пожалуй, узнать бы смог, но вот ушам своим поверил не слишком. Он слышал голос, но не тот хрустально чистый тон, что остался жить в его воображении и населял, как бриллиант парчовую шкатулку, памятное – сквозь дымку – тело Лейлы. Что-то едва ли не вульгарное угадывалось сквозь сбивчивые, зыбкие фразы, и, как будто щербинка на крае бокала, эта чужая нотка попадалась на ощупь – назойливо и неотвязно. Он сделал скидку на возбуждение и Бог знает еще на какие чувства. Но… фразы начинались и гасли, чтобы снова звучать с середины, фразы натыкались одна на другую и мешкали, пытаясь неловко соединить две мысли внахлест. Он нахмурился в темноте, пытаясь понять – откуда взялась эта странная путаница? Голос не был голосом Лейлы – или все-таки?.. Из темноты пришла ладонь и легла ему на руку, и он с готовностью воспользовался шансом разглядеть ее так и эдак в желтоватой мелкой лужице света от масляной лампы в медном держателе на боковине кеба. Неухоженная пухлая ладошка, ногти – ни маникюра, ни лака.