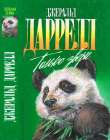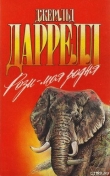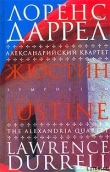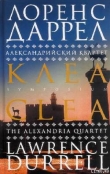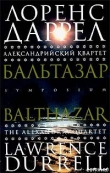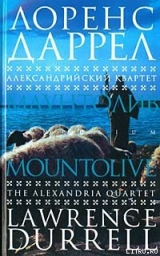
Текст книги "Маунтолив"
Автор книги: Лоренс Даррелл
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
«Что же до коммунизма, он также безнадежен; стоит только начать препарировать человека с точки зрения экономического бихевиоризма, и жизнь становится безвкусной; а лишать его права на вечную душу, пусть маленькую, но свою, и вовсе безумие». И так далее. Он ездил в Россию, пробыл там месяц в составе культурной миссии, и тамошний воздух пришелся ему не по вкусу; помню, был целый фейерверк boutades [14]14
Шутка, изящная и остроумная (фр.).
[Закрыть], вроде: «Унылые евреи, и на лицах – вся меланхолия оккультной арифметики; я спросил одного старика в Киеве, в счастливой ли стране он обитает. Он вздохнул этак резко и, оглядевшись украдкой по сторонам, сказал: „У нас так говорят: однажды, мол, у Люцифера было хорошее настроение, ну, стих на него такой нашел. И захотелось ему для разнообразия сделать доброе дело одно, не больше, ведь ему таки не положено. Вот так и появился ад земной, и назвали его Советской Россией“».
Сестра его в разговоре участия не принимала, все молчала, пробегала иногда пальцами по столу, пальцы гибкие, как усики винограда, но реагировала очень живо, улыбалась его афоризмам так, словно это были, понятные только им двоим злые шутки. Один только раз, когда он отлучился ненадолго, она повернулась ко мне и сказала: «Ему не следовало бы забивать себе голову всей этой чушью. Его единственное дело – приучить себя к отчаянию». Оракул сей, с такой естественностью слетевший с ее уст, поставил меня в тупик, я просто не нашелся, что ему возразить. Он вернулся и снова занял свое место и за столом, и в разговоре, словно, пока ходил, только и обдумывал следующую свою фразу. Он сказал: «Нет, все-таки они биологическая необходимость я о монархии, о королях. Кто знает, может, в них отражена структура человеческой души? Мы нашли неплохой компромисс, выдумав догмат о божественной природе королевской власти, и так все это ловко вышло, что мне бы очень не понравилось, приди вдруг королю на смену диктатор или совет рабочих депутатов: взвод – на изготовку – целься – пли!». Нелепица явная, и я просто обязан был возразить, однако тут мне показалось, что говорит он вполне серьезно. «Я уверяю вас, левые ничем иным не могут кончить; их истинная цель – гражданская война, пусть они еще и сами того не понимают: приглядитесь повнимательней к полудохлым нашим пуританам вроде Шоу и компании, их даже и разоблачать не нужно, они сами разденутся. Марксизм придумали ирландцы и евреи, когда созрели до идеи взять реванш!» Тут я уже не мог не рассмеяться, рассмеялся – надо отдать ему должное – и он. «По крайней мере, это объяснит вам, почему я mal vu, – сказал он, – и почему всегда рад уехать из Англии в любую другую страну, где я могу свалить с себя груз моральной ответственности и желания теоретизировать и далее в том же невеселом духе. В конце концов, какого черта! Я писатель!»
За разговором он успел пропустить еще пару порций, от прежней скованности не осталось и следа. «Прочь, прочь от бесплодных сих земель! Ах, я хочу жить в городах, построенных для женщин; Париж ли, Рим – всё изоморфы женской страсти. Стоит мне только увидеть, в саже с ног до головы, фигурку Нельсона на Трафальгарской площади, и я не могу отделаться от мысли: бедняжке Эмме пришлось трястись аж до Неаполя, чтоб получить право быть ветреной, хорошенькой и d'une splendeur [15]15
Великолепной (фр.).
[Закрыть] в постели. Что я, Персуорден, делаю среди всех этих людей, помешанных на благопристойности? Я поэт, я укутан плащом-невидимкой, и мне давно пора туда, где люди не стесняются людской своей природы, весьма далекой от всяческих приличий. Я хочу научиться неуважению ко всему на свете, ничего притом не презирая, – извилиста дорога посвященного!»
«Дорогой мой, ты пьян!» – радостно констатировала Лайза.
«Пьян и печален. Печален и пьян. Но счастлив, счастлив!»
Должен сказать тебе, эта новая и неожиданная грань его характера сделала его как-то понятней и ближе для меня. «К чему все эти стилизованные чувства? К чему трепетанья и страхи? Сей бесконечный сумрачный сортир, где стоят по стенам полисвумены в макинтошах и бдят, прямо ты льешь или нет? Подумать только, с каким самозабвеньем расправляют складочки в Британском королевстве; и не ходят по газонам: неудивительно, что каждый раз по возвращении ноги сами несут меня к турникету с надписью: „Только для иностранцев!“».
«Ты пьян», – снова повторила Лайза.
«Нет. Мне просто хорошо». Вполне серьезно: «А счастлив просто так не будешь. Счастье нужно ждать в засаде, как перепелку или как девчонку с усталыми крыльями. Между искусством и умением лежит залив, широкий и глубокий!»
И далее по той же сумасшедшей траектории; и, каюсь, я был захвачен этой вольной игрою ума, забывшегося напрочь. Конечно, то и дело я спотыкался о фразы резкие, чтобы не сказать излишне грубые, и невольно сверялся с реакцией Лайзы, она, однако, была снисходительна и все улыбалась слепой своей улыбкой.
Вышли мы поздно и двинулись в сторону Трафальгарской площади, снег сыпал вовсю. Людей на улицах почти уже не было, и снег заметал за нами следы. На площади поэт твой остановился и воззвал к Нельсону Столпнику так, словно случайно встретил блудного сына. Я уже не помню точно, что он там говорил, но было очень смешно, и я хохотал во все горло. Потом настроение у него вдруг переменилось, он обернулся к сестре и сказал: «Знаешь, Лайза, что весь день сегодня не давало мне покоя? Нынче Блейков день рождения. Подумай только, день рождения чудика Блейка. Я весь день изучал национальное выражение лица, все искал каких-то знаков. И, знаешь, ничего. Лайза, хорошая моя, давай мы отметим день рождения старого хрена, а? Ты, я и Дэвид Маунтолив, прямо здесь и сейчас, – притворимся, что мы французы или итальянцы, притворимся, что все это имеет хоть какой-то смысл». Снегу становилось все больше, прели в кучах последние клеклые листья, ворковали гортанно, створоженно голуби. «Давай, Лайза?» На щеках его выступили яркие розовые пятна. Рот полуоткрыт. Снежинки у нее в волосах как тающие бриллианты. «А как? – спросила она. – Скажи как?»
«Мы для Блейка спляшем», – сказал Персуорден с великолепной серьезной миной на лице, шагнул вперед и вдруг закружил ее в вальсе, напевая негромко мотив «Голубого Дуная». Через плечо сквозь падающий снег он провозгласил: «В честь Вилли и Кейт Блейк». Не знаю, что со мной случилось, но я был просто поражен и растроган – невероятно. Они скользили через площадь под взглядами бронзовых львов, постепенно набирая скорость, ни разу не сбившись с такта, и постепенно стали невесомы, как водяная пыль фонтанов. Как голыши, секущие наискось гладкую поверхность озера, – касание, еще касание; или как камешки через заледенелый пруд… Странное было зрелище. Я глядел на них и совершенно забыл о замерзших своих пальцах, о снеге, набившемся за воротник. Они описали широкий правильный эллипс в пустом заснеженном пространстве, разметая на ходу голубей и листья, выдыхая пар в морозный воздух. И медленно, плавно замкнулась дуга, возвратив их ко мне туда, где я стоял бок о бок с весьма озадаченным полисменом. Сцена была та еще. «Эт'что тут за такое?» – спросил бобби, взирая на них с восторгом изумленья. Они вальсировали столь совершенно, что даже и его, должно быть, проняло. Они всё кружились и кружились, одно великолепное целое, темные волосы Лайзы невесомо парили за ее спиной, ее незрячее лицо было поднято вверх, туда, где пригорюнился на своем покрытом копотью насесте старый адмирал. «Они отмечают день рождения Блейка», – сказал я и почувствовал себя полным идиотом, но полисмен, все так же восхищенно следивший за ними, сразу как-то вдруг подобрел. Он кашлянул и сказал мне: «Н-да, он ведь не смог бы так отплясывать, будь он пьян, правильно? Чего только народ не вытворяет на свой день рождения!»
Вернулись они не скоро, веселые, запыхавшиеся, целуясь то и дело на ходу. К Персуордену окончательно вернулось доброе расположение духа; чуть погодя он сердечнейшим образом пожелал мне доброй ночи, я посадил их в такси, и они уехали. Вот и все! Дорогая моя Лейла, я не знаю, много ли я помог тебе. Я ровным счетом ничего не узнал о частной его жизни, о его происхождении, но у меня еще будет возможность навести справки; а ты сможешь встретиться с ним, когда он приедет в Египет. Он дал мне оттиск небольшой подборки своих последних стихов, посылаю ее тебе. Они еще нигде не были напечатаны.
В согретой жаром парового отопления клубной спальне он перелистывал страницы маленькой книжки больше из чувства долга, нежели для удовольствия. Не только современная поэзия утомляла его, но и поэзия вообще. Он никак не мог настроиться на нужную длину волны, так сказать, сколько ни старался. Ему приходилось раз за разом сводить про себя слова к парафразе, и они увядали прямо на глазах, останавливалась музыка, танцоры опускались наземь. Собственная несостоятельность (Лейла научила его именно так воспринимать эту свою особенность) его раздражала. Но, отщелкивая страницу за страницей, он вдруг зацепился взглядом за стихотворение, посягнувшее, так ему показалось, на права его памяти, и внезапный сквознячок дурных предчувствий пробежал по задворкам его души. Стихотворение было посвящено сестре поэта, недвусмысленное любовное послание к «слепой темноволосой девушке». Спокойное лицо Лайзы Персуорден тут же встало перед ним, заслонив собою текст.
У статуй пулевые дыры глаз,
Сослепу Эрот на этот раз
Обманом неподвижных масок спас
Тихую тайну…
Была в этих строках некая диковатая, нарочитая нескладность; но, родись сейчас новый Катулл, он, должно быть, писал бы так же. Маунтолив задумался. Сглотнув слюну, он перечел стихотворение еще раз. Простая красота бесстыдства. Он долго и мрачно глядел в стену перед собой, потом уронил книжку в конверт и надписал на нем адрес Лейлы.
В тот месяц им так и не удалось больше встретиться, хотя Маунтолив пробовал дозвониться до Персуордена по рабочему телефону. Но каждый раз тот оказывался либо в отгуле, либо в некой таинственной командировке на севере Англии. Тем не менее ему удалось отыскать его сестру, и пару раз они поужинали вместе; он обнаружил в ней очаровательную спутницу, она как-то странно его волновала.
Своим чередом пришел ответ от Лейлы, она благодарила его за информацию, в конце письма была весьма для нее характерная приписка:
Стихи изумительные. Хотя я, конечно же, не хотела бы встречи с художником, которым восхищаюсь. Сдается мне, личность и творчество – вещи куда как далекие друг от друга. Но я рада, что он едет в Египет. Возможно, Нессим сможет помочь ему – или он Нессиму. Поживем – увидим.
Предпоследней фразы Маунтолив не понял.
На следующее лето отпуск его совпал с приездом Нессима в Париж, они встретились, чтобы побродить вдвоем по художественным галереям и договориться о выезде на этюды в Бретань. Они оба лишь недавно стали пробовать себя в живописи и были полны любительского пыла. Там, в Париже, они и столкнулись нос к носу с Персуорденом. То была чистой воды случайность, и Маунтолив с готовностью использовал счастливый шанс помочь ему войти в египетский свет. Сам Персуорден преобразился совершенно и пребывал в счастливейшем из настроений; Нессиму он, кажется, понравился сразу, и весьма. Когда им пришло время уезжать из Парижа, Маунтолив был совершенно искренне убежден в том, что дружба, накрепко сцементированная роскошными обедами и жизнью на широкую ногу, состоялась. Он проводил их поезд и в тот же самый вечер поспешил настрочить доклад Лейле на почтовой бумаге излюбленного своего кафе.
Как грустно было стоять с ними на вокзале и думать: а я, не пройдет и недели, отправлюсь обратно в Россию!
На душе, стоит только вспомнить, становится скверно. Но, знаешь, Персуорден нравится мне раз от разу все больше, и я стал лучше понимать его. Я уже склонен объяснять его грубовато-бранчливую манеру, матерщину, труднопереносимую иногда, вовсе не природной неотесанностью, как прежде, но застенчивостью, спрятанной куда как глубоко, едва ли не чувством вины. И говорил он просто превосходно. Спроси Нессима, он тебе расскажет. Кажется, Персуорден понравился ему даже больше, чем мне. Ну и… что же дальше? Пустые пространства, путь долгий и хладный. Ах, дорогая моя Лейла, как мне тебя не хватает – и всего, что с тобою связано. Увидимся ли мы еще? Если удастся отложить достаточную сумму денег к следующему отпуску, я мог бы прилететь в Египет навестить тебя…
Он и представить себе не мог, что скоро, очень скоро дорога назад, в Египет, сама найдет его – назад, в любимую страну, которой расстояния и долгая разлука сообщили призрачную прелесть гобелена. Ничего нет богаче памяти, может ли память стать обманкой? Этого вопроса он себе не задал ни разу.
3
От батарей парового отопления в бальной зале посольства шло густое тепло, тяжеловесное, как меховая полость, и оттого казалось, что воздухом здешним дышали уже не раз; но тепло было в радость, ибо там, за высокими окнами, расстилались морозные, искрящиеся инеем пейзажи и падал бесконечный снег, – казалось, не только над Россией, но и повсюду в мире уже не первую неделю падал снег. Они застыли, заснули в ледяном оцепенении русской зимы. Словно за стенами, их окружавшими, почти что не осталось места ни движению, ни звуку. Привычный дробот солдатских башмаков у обветшалых будок за железными воротами стих, растворился в зимнем безмолвии. В парках ветви деревьев гнулись все круче и круче под тихо набухающим белым бременем, пока не распрямлялись наконец одна за другой, сбрасывая долой тяжелые снежные шапки, – беззвучный взрыв, оседает плавно облако сверкающих кристаллов снега; и снова все сначала, снова, будто пружины, подаются они под мертвенно-холодным снежным грузом, пока давление не станет невыносимым.
На сегодняшней службе был черед Маунтолива читать отрывок из Писания. Бросая изредка взгляд с аналоя в сумеречную полутьму бальной залы, он видел смутно белеющие лица персонала и коллег-секретарей; бледные, тусклые, – он вдруг представил себе этих людей плавающими кверху брюхом в застывшем озере, как распластанные трупики вмерзших в лед лягушек, белесые силуэты сквозь припорошенное снегом зеркало. Он осторожно кашлянул в кулак, и по залу рябью пробежал мгновенный отклик, повальная эпидемия кашля, но через минуту вновь воцарилась нарушаемая лишь смутным шелестом воды в нагретых батареях мертвенная тишина. Сегодня все как сговорились: мешки под глазами, настроение – хуже некуда. Шестеро караульных, бывшие морпехи, в парадных костюмах, с зализанными височками, в абсурднейшем порыве благочестия. Свет веры на запойных лицах. Маунтолив вздохнул еле слышно, дав голосу волю проинтонировать, крупицу за крупицей, богатства – для прочих незримые – найденного под закладкой отрывка из Евангелия от Иоанна. От аналоя пахло камфарой – Бог знает почему. Посол, как всегда, был еще в постели; последнее время он явно тяготился своими обязанностями и с радостью передоверял их Маунтоливу, который, к счастью, всегда был готов исполнить их с должным изяществом и прилежанием. Сэр Луис давно уже не пытался создать хотя бы видимость заботы о благополучии, телесном и духовном, вверенной ему маленькой паствы. Зачем? Через три месяца ему так или иначе уходить в отставку.
Представительствовать вместо него на разного рода официальных мероприятиях было довольно-таки утомительно, но и не без пользы, думал Маунтолив. Не худшее опытное поле для развития собственных административных дарований. Фактически посольством сейчас управлял он сам, своими руками. И все-таки…
Он заметил, что Коуделл, начальник канцелярии, пытается перехватить его взгляд. Решительно добарабанив отрывок, он рассовал закладки по страницам и медленно пошел к себе на место. Капеллан насморочным голосом изрек краткую сентенцию, пошелестев страницами одиннадцатого издания мидовской Псалтыри, все уткнулись глазами в банальный донельзя текст: «Христовы воины, вперед». В углу с присвистом запыхтела фисгармония, как бегущий за автобусом астматик; затем, обретя вдруг голос, исполнила гнусаво-тягучую вариацию на тему первых двух строк; в глубокой зимней тишине звучала она не приятней бормашины. Маунтолив усилием воли подавил желание передернуться в ожидании обычной заключительной доминанты – рыданий почти человеческих. Неровным, нестройным хором подняли они голоса, чтоб засвидетельствовать… что? Маунтолив вздохнул. Они были маленькой христианской общиной в земле чужой и враждебной, в стране, которая стала огромным концентрационным лагерем только оттого, что разучилась по-человечески здраво мыслить. Коуделл подтолкнул его локтем под локоть, и Маунтолив ответил тем же, выражая готовность к восприятию любой неотложной информации, не обязательно на темы сугубо религиозные. Глава канцелярии запел:
Кому-то нынче повезло,
Идут, как будто в бой (фортиссимо, с воодушевлением),
Пришла шифровка, «молния»,
Ведет их за собой (фортиссимо, с воодушевлением).
Маунтолив поморщился. Обычно по воскресеньям работы было немного, но дежурная шифровальщица оставалась на посту. Почему они, как обычно, не позвонили в резиденцию и не пригласили его просто-напросто к телефону? Может, что-то связанное с новыми увольнениями? Он грустно начал следующий стих:
Никто мне раньше не сказал,
Откуда я мог знать?
Кто дежурный шифровальщик?
Коуделл затряс головой и насупил брови, выводя финал: «Она все еще та-а-ам».
Бравурный проигрыш дал им всем возможность перевести дыхание. Воспользовавшись передышкой, Коуделл сипло прошептал:
«Нет, это „молния“, персоналка. Просто не успели еще разобрать весь текст».
Маунтолив был весь – недоумение, но они оба мигом изгнали малейшие следы эмоций с поверхностей лиц и душ и пропели остаток гимна. Когда все опустились на колени, на неудобные пыльные подушечки, и спрятали в ладонях лица, Коуделл продолжил, не отрывая пальцев от лица:
«Вам дали кавалера и миссию. Позвольте мне первым поздравить вас и все такое».
«Господи Иисусе! – произнес сдавленным шепотом Маунтолив, адресуясь скорее к себе самому, нежели к Создателю. И добавил: – Благодарю вас».
Вдруг у него ослабели колени. Он уже забыл, когда в последний раз ему приходилось с таким трудом сохранять хотя бы внешнюю невозмутимость. Но ведь он еще так молод, разве нет? Капеллан, похожий сейчас почему-то на рыбу-меч, нес несусветную чушь и раздражал Маунтолива сильней, чем обычно. Он стиснул зубы. Где-то в темном уголке души его же собственный голос вполне отчетливо и с каждым разом все более удивленно повторял: «Уехать из России!» Сердце скакало у него в груди.
Наконец служба закончилась, и они потянулись медленно и скорбно из бальной залы по полированным паркетам резиденции, покашливая и перешептываясь. Ему удалось идти в общем темпе, хотя внутри все прыгало и пело. Зайдя в канцелярию, он медленно притворил за собой тяжелую дверь, почувствовав на ходу, как всасывается в клапан дверной обивки медленная струйка воздуха, резко выдохнул и в буквальном смысле слова пролетел три лестничных пролета вниз, туда, где турникетом обозначен был вход в архив. Дежурный клерк поил чаем пару окоченевших тяжелообутых курьеров, сбивавших снег перчатками друг у друга с пальто. По всему полу были разбросаны холщовые сумки в ожидании диппочты и печатей. Сопровождаемый хриплыми: «Доброе утро, сэр», – он промчался к двери в шифровальню, нетерпеливо постучал и подождал, покуда мисс Стил соизволит впустить его. На ее лице играла мрачная улыбка.
«Знаю я, зачем вы пришли, – сказала она. – Там, во входящих, – копия для канцелярии. В вашу почту я тоже положила и еще дала копию секретарю ЕП». [16]16
ЕП (HE – His Excellency (англ. )) – Его Превосходительство.
[Закрыть]
И она, белесая, снова уткнулась в свои шифры. Он отыскал в проволочной корзинке полоску тонкой розовой бумаги с аккуратно перепечатанным текстом шифровки, сел на стул и дважды медленно перечитал ее. Закурил. Мисс Стил подняла голову.
«Можно вас поздравить, сэр?»
«Благодарю вас», – рассеянно отозвался Маунтолив. Он задумчиво поднес ладони к электрообогревателю, чтобы согреть пальцы. Он понемногу начинал ощущать себя совершенно иным человеком. Чувство было незнакомым и пьянящим.
Чуть погодя раздумчиво, неторопливо он поднялся к себе в кабинет, все еще с головой ушедший в новую свою и сладостную грезу. Шторы были раздвинуты, значит, секретарша уже здесь; пару минут он провел у окна, глядя, как вышагивают туда-сюда по утоптанному снегу за обледенелой решеткой центральных ворот часовые. Покуда он стоял так, прозревая сквозь заснеженный пейзаж очертания иного мира, вошла секретарша. Лицо ее буквально лучилось счастьем.
«Ну, наконец-то», – сказала она.
Маунтолив, помедлив, улыбнулся в ответ.
«Да. Вот только не станет ли ЕП ставить мне палки в колеса?»
«Нет конечно, – сказала она с чувством. – С чего бы».
Маунтолив уселся – не в последний ли раз? – за свой рабочий стол и потер подбородок.
«Ему ведь тоже уезжать, месяца через три или около того», – сказала девушка. Она смотрела на него удивленно, едва ли не осуждающе, ибо никак не могла отследить хотя бы отблеск радости – как у атлета, взявшего первый приз, – на его спокойном, как всегда, лице. Даже успех – и какой успех! – не мог оставить трещины на тщательно отполированной сей поверхности.
«Ну, – сказал он медленно, ибо не успел еще прийти в себя, удивленный и растерянный, ошарашенный роскошной негой незаслуженной удачи. – Поживем – увидим».
Им овладела вдруг еще одна столь же новая и ничуть не менее головокружительная мысль. Он смотрел в пустое небо за окном, широко раскрыв глаза. Неужели он и впрямь наконец-то будет волен действовать ? Он столько времени на практике постигал великую науку уходить на задний план, стушевываться, отказываться, так сказать, от себя – неужели всему этому придет-таки конец? Мысль была жутковатой, пугала немного, но и возбуждала – очень. Он вдруг поверил в то, что его истинное «я» сможет теперь найти подходящее поле для самовыражения, сможет поверить теорию практикой; и, все еще во власти увлекательнейших грез, он встал и сказал секретарше:
«Как бы то ни было, я должен спросить благословения у ЕП, прежде чем дать ответ. Он сегодня вряд ли объявится на капитанском мостике, так что положите пока все это под сукно. Подождем до завтра».
Она помешкала немного, разочарованная, у его стола, затем собрала входящие и достала ключ от его личного сейфа.
«Хорошо», – сказала она.
«Спешить некуда», – сказал Маунтолив. Он чувствовал себя так, точно вот-вот родится заново; перед ним лежала важная, настоящая жизнь.
«Не думаю, чтобы моя экзекватура меня уже дожидалась. Ну и так далее».
Но душа его мчалась уже по обходной дорожке, приговаривая на бегу: «Летом все посольство, в полном составе, перебирается на летние квартиры в Александрию. Если бы я смог приурочить приезд…»
Затем, бок о бок с чувством опьянения, прихлынул вдруг знакомый приступ скупости. Маунтолив, как и большинство людей, лишенных роскоши дарить кого-либо своей привязанностью, имел наклонность к вящей бережливости в делах финансовых. Как ни смешно, он ощутил внезапный почти испуг – при мысли о дорогостоящем парадном мундире, обязательном в новом его статусе. Только лишь на той неделе пришел свежий каталог от Скиннерса; в разделе, посвященном Foreign Office, цены выросли невероятно.
Он встал и направился в соседний кабинет, чтобы повидаться с личным секретарем посла. В пепельнице, близ пары звонков, тлела сигарета. На звонках значилось соответственно Его Пр. и Ее Пр. Рядом, на верхнем листке блокнота, секретарь своим округлым женственным почерком вывел: «До одиннадцати не будить». Относилось это явно к Его Пр. Что же до Ее Пр. , то, выдержав в Москве первые шесть месяцев, она поспешила вернуться к прелестям Ниццы и предпочитала с тех пор дожидаться мужниной отставки там. Сигарету Маунтолив затушил.
Обращаться к шефу до полудня смысла не было: российские утра одной только будничной непреложностью своего наступления повергали его в состояние полной апатии, брюзгливой и безысходной, до абсолютной порой глухоты к чему бы то ни было; а поскольку на дальнейшую судьбу Маунтолива он с сегодняшнего дня оказать хоть сколь-нибудь определенного влияния, честно говоря, был уже не способен, он, чего доброго, мог разобидеться на секретариат министерства за то, что они не снеслись с ним заблаговременно, как принято, и не согласовали новое назначение – а выслушивать его претензии пришлось бы Маунтоливу. Ну да и Бог с ним. Он вернулся в уже пустой свой кабинет и уткнулся в свежий «Тайме», дожидаясь с плохо скрытым нетерпением, когда же часы в канцелярии пробьют, прокашлявшись с хрипом и присвистом, полдень. Затем он встал, спустился вниз и, пройдя еще раз через обитые войлоком двери, заскользил стремительно, с едва заметной хромотой, меж мягкими архипелагами нейтрального цвета ковров по полированным паркетам резиденции. Пахло запустением и мастикой, в портьерах – застоявшийся табачный дух. И неизменный калейдоскоп снежинок в каждом окне.
Мерритт, камердинер, кряжистый человек с бледным лицом и мрачной миной церковного старосты, благоприобретенной за долгие годы работы в резиденции, как раз собирался идти наверх; на подносе у него покоились шейкер, полный мартини, и одиноко поблескивающий стакан. Как только Маунтолив поравнялся с ним, он остановился и сказал сипло:
«Только что поднялся, одевается, у него сегодня обед в Кремле, сэр».
Маунтолив кивнул, обошел его и понесся вверх по лестнице, перешагивая через ступеньку. Мерритт вернулся к буфету и поставил на поднос еще один стакан.
Сэр Луис одевался и невесело насвистывал, глядя на свое отражение в большом – в рост человека – зеркале.
«А, это ты, мой мальчик, – сказал он отсутствующим тоном, заметив Маунтолива. – Я еще только одеваюсь Знаю, знаю уже. Черный день для меня. Мне позвонили из канцелярии в одиннадцать. Значит, ты таки своего добился. Поздравляю».
Маунтолив с явным облегчением присел на краешек кровати – новость была воспринята благожелательно. Продолжая мучиться с галстуком и крахмальным воротничком, шеф сказал:
«Сдается мне, что ты бы с радостью прямо сейчас и уехал, а? Жалко, нам тебя будет недоставать».
«Так было бы удобней», – чуть помолчав, признался Маунтолив.
«Жаль. А я надеялся, что ты меня проводишь. Но, как бы то ни было, – свободной рукой он сделал преувеличенно изысканный жест, – ты своего добился. Поменял кортик на шпагу, апофеоз окончательный и безоговорочный».
Он застегнул на ощупь запонки и раздумчиво добавил:
«Конечно, ты мог бы и задержаться ненадолго, ведь нужно время, чтобы получить agreeement. [17]17
Агреман – официальное согласие иностранной державы принять данное лицо в качестве посла или дипломатического представителя (фр. ).
[Закрыть] А потом поедешь себе во Дворец целовать ручки и все такое. А?»
«Мне будет чем заняться перед отъездом», – сказал Маунтолив, позволив себе едва заметную нотку твердости при общей неуверенности тона.
Сэр Луис удалился в ванную и принялся чистить под краном щеткой свою вставную челюсть.
«А как насчет очередного наградного списка? – прокричал он в маленькое зеркальце над раковиной. – Ты его дождешься?»
«Да, наверное».
Вошел Мерритт с подносом, и посол крикнул:
«Поставь там где-нибудь. Стакана – два?»
«Да, сэр».
Как только Мерритт притворил за собой дверь, Маунтолив поднялся и стал разливать по стаканам коктейль. Сэр Луис в ванной ворчливо беседовал с собственным отражением в зеркале:
«Да, посольству это выйдет боком. Кстати, Дэвид, могу поспорить, что первая твоя реакция на сию сногсшибательную новость была: вот теперь я волен действовать, а?»
Он хохотнул, как закудахтал, и вернулся к туалетному столику в очень даже сносном расположении духа.
Маунтолив поднял голову, так и не долив себе полпорции мартини, встревоженный столь необычайным для сэра Луиса приступом прозорливости.
«Бог мой, откуда вы знаете?» – спросил он, нахмурившись.
Сэр Луис издал еще один самодовольный клохчущий смешок.
«Всем нам так кажется. Поначалу. Последний, так сказать, мираж. И ты не исключение, мой мальчик, придется и тебе через это пройти. Момент весьма деликатный. Чуть перегнешь палку, самую малость, и трудно будет остановиться – ты уже слишком высокого мнения о собственной интуиции, о собственных талантах – вот тебе и грех прямой против Духа Святаго».
«И в чем же сей грех состоит?»
«В дипломатии есть такой искус – строить политику, опираясь на меньшинство. Слабость всеобщая. Вот смотри, сколько раз мы пытались поставить на здешних правых. Ну и что? Одни неприятности. Меньшинство не стоит и выеденного яйца, если оно не готово драться. В этом все дело!»
Он принял румяной старческой ладошкой свой мартини, с удовлетворением отметив факт запотевания стакана. Они подняли стаканы и обменялись искренними, теплыми улыбками. За последние два года они и в самом деле стали старыми друзьями.
«Мне будет тебя не хватать. Но, в конце концов, через три месяца я и сам уеду из этой… этой страны».
Последние слова он произнес прямо-таки с жаром.
«Придет конец всей этой чуши насчет взвешенности. Пусть восточники подыщут на свой вкус пару-тройку непредвзятых выпускников Лондонского экономического – вот тогда и станут получать такие отчеты, какие им нравятся».
Foreign Office особо отметила недавно, что официальным сообщениям посольства недостает взвешенности. Сэра Луиса это привело в ярость, и он вспыхивал теперь при самом даже беглом воспоминании о столь неуважительном жесте в его сторону. Поставив на столик пустой стакан, он продолжил, обращаясь к собственному отражению в зеркале:
«Взвешенность, видите ли! Если им взбредет на ум отправить посольство в Полинезию, с них станется требовать, чтоб сообщения оттуда начинались чем-нибудь вроде (в голосе у него прорезались – на время цитаты – нотки жалостные и раболепные): „Несмотря на то что сведения об употреблении местным населением в пищу себе подобных в общем подтвердились, уровень расхода прочих пищевых продуктов на душу населения остается достаточно высоким“».
Он вдруг резко оборвал сам себя и, сев, чтобы зашнуровать туфли, сказал:
«Господи, Дэвид, мальчик мой, с кем же, черт побери, я смогу здесь поговорить по-человечески, когда ты уедешь? А? Ты будешь вышагивать там в дурацком парадном мундире, с пером скопы на темечке, похожий на тропическую птицу в брачном оперении, а я – я все так же буду бегать рысью в Кремль и обратно, чтобы лицезреть скучных тамошних скотов».
Коктейль был достаточно крепким. Они оба перевели дыхание, потом Маунтолив сказал:
«И еще, я хотел прицениться к вашему старому мундиру, если, конечно, для вас подобное предложение не оскорбительно».
«Мундир? – переспросил сэр Луис – Как-то я даже об этом не подумал».
«Новый стоил бы сейчас уйму денег».
«Я знаю. Цены опять подскочили. Но мой-то, чтобы привести в надлежащий вид, посылать придется не к портному, а к таксидермисту. И знаешь, у них всегда проблемы с воротничком. Трет. Дурацкие эти галуны. И еще там на аксельбанте шнур расплелся, один или два. Слава Богу, что здесь не монархия, – единственное утешение. Они тут ходят в таких лапсердаках, что… Ну, в общем, я не знаю».