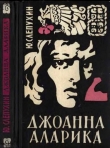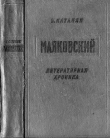Текст книги "Литературная Газета 6333 ( № 29 2011)"
Автор книги: Литературка Литературная Газета
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
Сумрачное величество
Литература
Сумрачное величество
ВПЕРВЫЕ В «ЛГ»
Вячеслав ТЮРИН

Родился в 1967 году в Якутии. Живёт в Лесогорске Иркутской области. Лауреат «Илья-премии»-2002.
***
Дождь увлажняет жухлую траву,
и цвет лица становится
землистым,
как небо в ноябре, когда во рву
сгнил листопад,
ветрами перелистан;
и, словно штукатурка с потолка,
снег сыплется
на головы сограждан,
текущих по бульвару как река,
мелея с каждым днём
и с часом каждым.
1.
К людям выйти –
что душу вынуть.
И затеплится разговор.
Можно книгу меж книг задвинуть,
можно слово сказать в упор.
2.
Одиночество так устроено,
что, выдерживая твой взгляд, –
как вино – говорит порой оно
то, о чём свысока молчат.
Эхо комнатного гекзаметра,
роковая пора баллад,
осыпающихся, но замертво
продолжающих хит-парад
изначального летования,
листопадного волшебства,
суеверного ликования,
когда траурная листва
зацветает огнём язычества;
когда хочется лишь успеть
это сумрачное величество
на родном языке воспеть.
***
Легко сказать: родился там-то,
работал кем-то на кого-то.
Давно я не писал диктанта.
Да и кому служить охота
сосудом для чернил, быть вещью.
Хотя бы на листе бумаги.
Терять осанку человечью.
Как будто думать о ГУЛАГе
промозглой осенью в Вермонте.
Легко сказать: окончил школу,
стал одеваться от Ле Монти,
бить кулаком по дыроколу,
смотреть на женщин обалдело
до той поры, пока одна из
них на тебя не поглядела
и кончился психоанализ.
***
Мы жизнь откладываем на потом
и существуем,
а та врывается в наш дом
морозным жгучим поцелуем.
Мы жизни говорим «пока,
до скорой встречи».
На нас наваливается тоска,
чужие речи
и междометья, брошенные вслед
почти вслепую.
От жизни получаем мы в ответ
шальную пулю.
И начинаем приходить в себя,
рождаться свыше,
о днях, бездумно канувших, скорбя
в алтарной нише.
НАЧАЛО
В начале, в юношестве дней
изображенье было проще.
(Со стороны оно видней.)
Я вряд ли вглядывался в рощи.
Скорее – в лица. Да и то,
чтобы переспросить о чём-то.
Блестели спицы шапито,
где заводилою – девчонка.
Давили в школе потолки,
крошился мел в руках отличниц
и требовали дневники
у тех, кто на уроке дичь нёс.
Директор, ежели порой
надоедал ему наш клирос,
наведывался, дабы строй
учащихся перед ним вырос.
Адресом был СССР.
Я жил там, не подозревая,
что времени присущ размер,
пока меня судьбы кривая
не завела прямо в тетрадь,
открытую за чашкой чая,
дабы я знал, как вещи звать,
хитёр по части невзначая.
А между тем устала твердь
и было сказано немало
теми людьми, которых смерть
ещё при жизни понимала.
Стояли тесно, вполшага
все вместе на широкой льдине,
друг дружку взяв за обшлага,
но треснуло посередине.
Залихорадило страну,
перевернулись идеалы.
Ходили голыми по дну,
закутывались в одеяло,
на стогнах шли против рожна,
цену свободе назначали.
Тогда расторглась тишина,
такая трудная вначале.
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ВЕТКА
На пустынном вокзале художницы карандаш
изображает транзитного пассажира.
Беглый набросок выглядит, как пейзаж
осени. Ветви нищенствуют. И сыро
в воздухе. Проступает одна черта
за другою, как иероглифы листопада.
Гибнет улыбка в хищном разрезе рта.
Спят улитки в глазах усталого психопата,
размышляющего, как отличить искусство от ремесла.
Дескать, действуя по заказу, ваша кисть остаётся мёртвой.
А та, ничтоже сумняшеся, на ватман перенесла
дремлющего пассажира. Совесть – вот контролёр твой.
Отрывая взгляд от окна, вижу полупроводника –
полупризрака в износившейся кацавейке.
Спрашивает билет. Надрывает. И снова тоска.
Стоит уйти покурить, как заняты все скамейки.
В общем вагоне дорога делится пополам.
Исповедьми богата Восточно-Сибирская ветка.
Но радио начинает транслировать тарарам,
и подпевает ему вполголоса малолетка.
Скоро все будем там, где выспимся, как сурки.
Что же нас гонит из дому? Внутренняя поломка?
Все мы паломники в мире, написанном от руки
тобою, прости, художница-незнакомка.
Статья опубликована :
№31 (6333) (2011-08-03) 11
/publication/216/
[Закрыть]
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 4,0 Проголосовало: 3 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Места слагаемых
Библиосфера
Места слагаемых
Продолжаем обсуждение произведений, вошедших в шорт-лист «Большой книги»
Ксения АНОСОВА
Алексей Слаповский. Большая книга перемен . – М.: АСТ, 2011. – 640 с. – 5000 экз.
Глухоманная Санта-Барбара

Жизнь в провинциальном городе Сарынске по своему социальному устройству напоминает трёхпалубный корабль: «Нижняя заплёванная и грязная палуба маргиналов, асоциальных элементов, бездельников, людей пассивных, бедных. Верхняя – с бассейнами, дорогими ресторанами и номерами-люкс – власть, политики, богачи-бизнесмены, но в плюс к ним и крупные учёные, деятели искусства. Элита. А между ними – вторая, средняя палуба, в которой довольно вольготно обитает средний класс». Пассажиры разных палуб старательно изолированы друг от друга, и всё же столкновения между ними неизбежны.
Так, однажды журналист-краевед местной газеты Илья Немчинов получает необычный заказ – написать книгу о влиятельном в округе политике и бизнесмене Павле Костякове. Роскошное иллюстрированное издание, восхваляющее деятельность успешного предпринимателя, его семью и окружение, – именно такой подарок к дню рождения Павла задумывают его младшие братья – родной, Максим, и двоюродный, Пётр (оба опять-таки не последние люди в Сарынске). Немчинов соглашается, несмотря на то что уверен: братья Костяковы – мошенники, воры, а то и убийцы, готовые пойти на всё ради денег и власти.

Одновременно с этим развивается история молодой девушки Даши, в которую, как в Елену Прекрасную, влюбляются все, кто только на неё посмотрит: школьные друзья Немчинова (Валера Сторожев и Коля Иванчук), один из которых (Иванчук) оказывается её отчимом (то есть наоборот – отчим по ходу действия оказывается влюблённым в свою падчерицу); юный фотограф Вова; уже упомянутый выше бизнесмен Павел Костяков и даже сын бизнесмена – драматург Егор. Все перечисленные герои помимо общей любви к Даше связаны между собой и другими сюжетными линиями и знакомы – в крайнем случае через одно рукопожатие.
Такая подчас угловатая мозаика из десятков, а то и сотен мелких фрагментов (скрупулёзные биографии даже незначительных персонажей, переходящие из уст в уста городские слухи, легенды, истории, рассказанные кем-то в прошлом, бытовые зарисовки), с трудом прилегающих друг другу и постоянно норовящих где-то облупиться, выцвести, иссохнуть, а то и вовсе обвалиться. То ли вся эта мешанина – одна из многочисленных аллегорий провинциального города, – мол, развернуться негде, все друг друга знают; то ли композиционная особенность, изначально задуманная писателем; то ли издержки чересчур активной его работы на отечественном телевидении (для тех, кто не знает: Слаповский – автор сценариев таких нашумевших телевизионных сериалов, как «Остановка по требованию» и «Участок»).
Сам же прозаик-сценарист в одном из своих интервью, описывая идею и героев «Большой книги перемен», выражается предельно конкретно: «Наверное, главное – любовь. Девушка полюбила богатого разбойника. Такое бывает. Он очень успешный человек с сомнительным прошлым. Прошлое раскапывает один из персонажей… То есть отчасти получается такое расследование. Хотя не менее важно, что книга о трёх товарищах. И о трёх братьях…»
Бытовая драма имперских масштабов
Сюжет романа заключён в непроницаемо жёсткие скобки его места действия. Город Сарынск – географически размытая, но тем не менее почти опознанная читателями (не то Саратов, не то Саранск) провинция, безликая в своей обыденности и в то же время легко узнаваемая, вобравшая в себя расхожие стереотипы и столь любимые нашими прозаиками «характерные черты». Такой своего рода индустриальный город N, на площадях и в переулках которого звенит отголосками эхо современной России.
И звон этот, надо признаться, довольно навязчив.
Собственно, обобщение – именно тот приём, что делает прозу Слаповского такой увесистой, значимой и одновременно такой художественно неприглядной. Осознанно расширяя границы литературного замысла, экспериментируя с масштабами смыслов и образов (то в одном персонаже – характер целого поколения, то в диалогах о судьбе родины – лишь авторская позиция), Слаповский, видимо, забывает о том, что фабула всё-таки «не резиновая» и что, громоздя её и дальше подобным образом, рискуешь в качестве ответа на вопрос: «Так о чём же книга?» – услышать недоумённое молчание.
Принцип «обобщённости» как способ особого выражения авторской мысли у Слаповского в «Большой книге перемен» преобладает буквально во всём. Потому и выходит, что персонажи все сплошь одинаковые, словно спички в коробке, события предсказуемы, а мысль вроде бы и есть, и вертится на языке, но так и забывается, не вспомнившись. Всё где-то рядом, вокруг да около, при том что автор не ставит себе цели запутать читателя, не подменяет реальные значения символами («говорящие» фамилии не в счёт), по большей части не усложняет текст, а изъясняется прямо и открыто, как и подобает народному писателю (о том, насколько Слаповский – народный, речь пойдёт ниже). Герои и события романа «склеиваются» между собой и получают оценку всегда лишь по критериям того дуалистичного, чёрно-белого мира, в котором существуют по воле автора. Братья Костяковы явно нечисты на руку, но умны и рассудительны, не лишены человеческих качеств; Даша – естественна, благородна, но на самом деле эгоистична, мелочна и фальшива, хотя в первую очередь обманывает саму себя; Немчинов в кульминационной сцене хочет восстановить справедливость, но в итоге сам становится виновником нелепого убийства; Шура стреляет в Немчинова, а попадает в Дашу. Кто виноват? Непонятно, да и в контексте не так уж важно. Таким образом выстраивается внутренний мир романа. «У каждого своя правда» – осознание героями этой нетривиальной истины и есть, пожалуй, главная перемена в меню «Большой книги перемен».
Народная мыльная опера
Что касается «народности»… Я считаю, что народность – это прежде всего для народа и только во вторую очередь – о народе. Жаль только, что современный русский народ так слабо нуждается в высокой литературе. В этом отношении Слаповский – безусловно народный писатель. Он не только реалистично описывает проблемы сложившегося общества, его «палубного» устроения, его природной, исторически укоренившейся неоднородности, контрастности, его сложного и противоречивого характера, но и блестяще умудряется воссоздать на бумаге ту форму повествования, которая бы больше всего этот народ заинтересовала, – форму захватывающей мыльной оперы, телевизионного сериала. Художественность здесь отступает под наплывом многочисленных перипетий, неоправданных сюжетных коллизий и словесно безликих образов, которые создавались с расчётом на последующую визуализацию. Так масскультура неотступно и целенаправленно подминает под себя отечественную прозу.
В «Большой книге перемен» Слаповский развивает сразу и подчас параллельно целый ряд вопросов, большинство из которых остаются риторическими и абстрактными. Цель заключается не в поиске окончательного ответа, не в конкретном решении той или иной задачи, а в самой вопросительной интонации, в силе и броскости авторского жеста. Подчас в науке тот, кто выдвинул гипотезу, становится более известным, чем тот, кто её развил и доказал. Так же в последнее время получается и в литературе: чем ярче демонстрирует автор степень своей «наболевшести», чем больше вопросов задаёт, тем лучше принимает его литобщественность. И пусть его возгласы истеричны, вопросы безответны, а желание расставить точки над «i» не всегда вызывает доверие, зато престижная премия практически обеспечена. И хитроумное название к тому располагает.
Статья опубликована :
№31 (6333) (2011-08-03) 11
/publication/216/
[Закрыть]
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 0,0 Проголосовало: 0 чел. 12345
![]()
Комментарии:
Исповедь неприсоединения
Библиосфера
Исповедь неприсоединения
ОБЪЕКТИВ

Сергей Есин. Дневник ректора 2004 . – М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2011. – 560 с. – 1000 экз.
Сергей Есин. Дневник 2009 . – М.: Издательство Литературного института им. А.М. Горького, 2011. – 624 с. – 1000 экз.
Искусство рождается там, где начинают бить часы. То есть где начат отсчёт и введено ограничение по времени. Поставлен предел, за который хочется вырваться.
В случае Есина эти часы министерски хриплые, напольные, в коробе красного дерева, с матово отсвечивающим маятником и римско-циферным циферблатом. Почему, например, не собранный в Китае электронный будильник? Исключительно из-за ритма.

Русская проза почти всегда трёхсложна, когда смысловой разлив её максимален, и двусложна, когда сжимается для обрамления абзаца или периода. Если этот закон нарушается, стереотип национального восприятия сбивается, появляется «переводной эффект». Русские писатели или пишут свою прозу как стихи, или «ищут жанры», то есть занимаются всякой дребеденью. Есин знает, чем и как утолять русское ухо.
Наугад:
Вчера на дачу, где в теплице
без воды
Томятся (и) пропадают
помидоры,
Попасть не удалось –
была защита
(дипломов. – С.А.).
Простим поэту вольный стих – первая ямбическая строка шестистопна, вторые отчётливо пятистопны. Передать трагический выбор удаётся с лёту, тем более что за скупым, «фактическим» слогом нет-нет да проступит ухмылка противопоставления и (!) уравнивания по смыслу огородничества и преподавательства. Побеждает синтез – высокая ирония и над первым, и над вторым.
Дальше:
Сегодня в институте
презентация
Большого альманаха
«Дважды два».
Игровое начало цитаты отъявленно превалирует над прочими. Так мог бы говорить цирковой шпрехшталмейстер, лично открывающий действо: Есин примеривается к ролям. Инстинкт актёрства? Никак нет. Предельного соучастия, претендующего на философию, основанную на едином базовом принципе: все – это он, а он – это все.
Сегодня русская литература так плоха, что нет ничего легче, чем вылавливать в ней ещё живое. Оно просвечивает сквозь корку глянцевитых «премиальных поделок»: лучшее в русской литературе сегодня покрыто холодным потом пустоты, разверзшейся под ногами нации метафизической пропасти. Сегодня в лучшее каждый день бьют разряды личных и общественных драм. Первые традиционно молчаливы и, когда выдают себя за вторые, в координатах информационного века с его растлением пересекающимися смыслами, неизбежно теряют достоинство. Золото испытания, выпавшего лично одному тебе, не может содержать ни грана презентационной примеси: в горе человек неизбежно одинок. Друзья чувствуют это и перестают звонить. Мудрым окажется тот, кто не сочтёт обрыв связей обычным предательством. Это не предательство, а нежелание заражаться бациллами горя, попытка наивно эгоистической духовной гигиены (вдруг минует?), становящаяся невольно лучшим проверочным искусом для оставленного наедине с собой: если выживет в мёртвой тишине, будет жить долго.
Главный подвиг дневников – сохранение способности говорить, темпа жизни и повествования, реакций на происходящее, могучее отодвигание от себя старости, энтропии.
Я думал, что после смерти В.С., жены и друга, которая маячила перед Есиным давным-давно, он не устоит, сдастся. Я не то чтобы ждал этого! Хотел, разумеется, обратного, но вероятность такого исхода была не исключена. Думалось: неужели один из самых сильных согнётся, превратится в призрак самого себя?
Десять лет назад в одном из интервью Есин говорил, что, если диализ, спасающий В.С., станет для него непосильно дорогим, он купит пистолет и застрелится. Шуткой это не звучало ни теперь, ни тогда.
Ничего этого не случилось: крепкий, крестьянской закваски интеллигент выжил и остался в здравом уме и ещё более обострённой долгом перед В.С. памяти. Есть в этом что-то сологубовское, привкус первого приподнявшегося над «социальной средой» и победившего страшной ценой – одиночества.
От таких, битых и наживо скрученных судьбой в комки чувств и мыслей, редко услышишь жалобу. Это ведь именно русская равнина поразительно чутка к ним в одном сокровенном смысле – норовит пнуть побольнее, ницшеански толкнуть падающего. Оттого особым искусством среди русских людей стало прибеднение – жалоба на судьбу с оттенком гордости за то, как жёстко и неправедно она с ними обошлась.
Есин и прибедняется художественно. Чувствуя себя и на отшибе, и в центре событий, он воссоздаёт мир внешний и внутренний, причудливо противопоставляя и уравнивая их, словно готовя из них щедрую окрошку. Как настоящий (завидую!) русский, он любит накормить до отвала, по-демьяновски. И кормит досыта – борщами из светских раутов, салом дачной, институтской и заграничной туристской печали. Но и здесь – учит отделять одно от другого, «смешивать, но не взбалтывать», не превращая в балаган ни свою судьбу, ни, что ещё важнее, веру в неё.
Вера – это у Есина основное. Не говорю «надежда», потому что звучит явно слабее.
Подлинный баланс (художественность) наступает тогда, когда обращённость к себе приравнивается обращённости к миру от имени одного из россиян – в данном случае далеко не последнего, где «не последнего» – точка самоидентификации русского писателя. «Не последнего» означает «имеющего право слушать, видеть и подмечать». В пределе – учить.
Одна из важнейших учительских функций дневников – фильтрация информационного потока, в котором годами способна безнаказанно для себя купаться лишь психически устойчивая натура с классической закваской. Косвенно школа фиксации важного и отбрасывания ненужного преподаёт метод художественности как нанесения на страницу текста: размер события в строках и измеряемой в тех же единицах рефлексии по его поводу. В век модернизма мозаичность неизбежна, но лишь упорная и тренированная воля может заставить служить себе весь ад информационного дня.
Давнишний читатель дневников может убедиться, что метод постоянно совершенствуется: обработка избранных мест год от года становится всё более филигранной. События поляризованы: одному событию Есин кидает с поклоном подаяние в виде штриха или намёка, другое развёртывает до страниц и целых глав, заставляя вглядеться – а всё ли здесь «так»? Конечно, нет. Финальное «ура» с точкой вместо восклицательного знака на конце чаще всего обозначает мучительный, разрывающий лёгкие и понятно к кому обращённый крик: «Да пропадите вы все пропадом, ворьё!»
Есинские дневники демонстрируют и корневую противительную разницу с жанром мемуаров, который есть не что иное, как подкрашенное выгодными для мемуариста красками прошлое. А дневниковство есть соглядатайство за собой в «режиме реального времени», где скорость изложения даже не намекает на последующее редактирование. Оттого, думается, в тексте оставлены опечатки, технические пометы, до которых якобы не дошли руки, но выделенные жирным шрифтом. Но не настолько же мы наивны, чтобы понять – никакие это не технические пометы, а знаки конца периода.
«Сюда большую цитату» толкуется однозначно: не нужна сюда большая цитата, я уже всё сказал.
Есин не может не знать, что Михалков играл у Хуциева не в «Заставе Ильича», а в «Я шагаю по Москве». Однако, прельщённый лимоновским методом припоминания из «У нас была великая эпоха», путает следы, перепроверяя на всякий случай память читателя. Вот зуд преподавательский, неистощимый на выдумки! Зла не хватает.
Из-за того, что дневники злят неточностями, они точны в главном: интегральной мере сегодняшнего бытия, взятого с пылу с жару.
Сегодня в оболганной и изолгавшейся России правды нет нигде. Правдой, исчислил Есин, волей-неволей будут выглядеть неотредактированные дневники. Сегодня, понял он, в подённой исповеди человек предстанет куда значительнее, чем в своих даже самых отчаянных художественных фантазиях. Если искусство стало ложью по лекалу, формульной канвой, по которой вышивать скучно, нужно освободиться от искусства, улететь в сумрачный рассвет, где тебя не поймают и не обвинят ни в чём придуманном, – вот побег.
Отсюда берёт начало самоопределение для стиля дневников – полифония («…Речь скорее должна идти о полифонии…»). Обилие зеркал, в которых Есин старается отразиться хотя бы на бегу, в суете, делают его несомненной фигурой века.
Рассматривая стиль дневников, легко обнаруживаешь в зачинах новелл классицистическое единство места и действия. Так упорядочивается хаос. Так упорядочивал хаос века Просвещения с его мутагенным христианством сам классицизм. Классицистическая добросовестность и сегодня успокаивает, настраивает на нормальный ход жизни, а не выворачивает умственные суставы и сочленения. Терапия? Несомненно, сначала авторская, позже – индуктивно – читательская.
По сути, дневники ректора (2004) и заведующего кафедрой творчества (2009) пользуют не так уже много сегментов данной реальности. Домашние хлопоты, дача и Литинститут – хозяйство. Театр, зарубежные впечатления, окрестности информационного поля – политика, экономика, культура – общественная и представительская деятельность разом. Встречи с людьми и писательство – папка «личное».
Сферы эти пересекаются мало. И потому в постоянном тасовании их душа расслабляется, сочувствуя бешеной смене родов деятельности, питаясь соками свежих впечатлений и невольно приободряясь, влачится вслед за вездесущим героем, идентифицируясь с ним как со спортивным рекордсменом: возьмёт или не возьмёт вес, выбежит ли из десяти секунд?
Возьмёт и выбежит, поскольку это дневники победителя, дневники состоявшейся, как любят у нас говаривать и к месту, и не к месту, жизни.
Она состоялась в том, что ни к «красным», ни к «белым» по-настоящему и русский, и советский, и постсоветский интеллигент не примыкает. Это и есть заповедь: не присоединись, борись за правду свою один, так, чтобы один Господь знал, чего тебе это стоит. И не наращивай в себе, ради Господа, рабства чиновничьего и холопского – его на Руси достаточно и без тебя.
Есин пытается пройти сквозь валтасарово пиршество, не обременяя душу святыми обетами: бессмысленно клясться в том, что изначально не в твоей воле.
В нашей же воле – прочесть дневники с благодарностью уже за то, что ни от кого другого, кроме Есина, мы таких дневников не получим.
Сергей АРУТЮНОВ
Статья опубликована :
№31 (6333) (2011-08-03) 11
/publication/216/
[Закрыть]
Прокомментировать>>>
![]()
Общая оценка: Оценить: 2,0 Проголосовало: 1 чел. 12345
![]()
Комментарии: