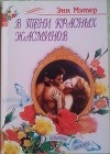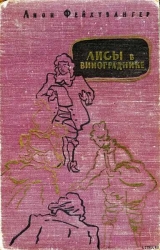
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 57 страниц)
«Я не могу принять от вас обратно придворных должностей, сир, – писал он, – ибо в настоящее время из-за причиненной мне несправедливости я вычеркнут из списка ваших подданных. Если справедливость не восторжествует, сир, я останусь вне закона. Честь моя поругана, общественное положение подорвано, и покуда не рассеются тучи, которые бросают на меня позорную тень в глазах нации, Европы и Америки, до тех пор не будет восстановлен и мой кредит и, следовательно, пострадает не только мое личное состояние, но и состояние пятидесяти моих друзей, связанных со мной деловыми отношениями».
– Ах, какой шедевр вы снова создали, – воскликнул восхищенный Гюден. – С этим письмом, исполненным мольбы и достоинства, может сравниться во всей литературе лишь та последняя песнь «Илиады», в которой старый Приам умоляет Ахилла отдать ему оскверненный труп его сына Гектора.
Трезвый Мегрон был тоже доволен.
– Полагаю, – констатировал он, – что король вынужден будет сдаться, а мосье Неккер раскошелиться.
Способ, к которому прибег Карон, чтобы дать почувствовать Луи, как несправедливо с ним поступили, обидел и возмутил короля. Он посоветовался с Морепа и Верженом. Министры единодушно решили, что следует дать удовлетворение способному и чрезвычайно осведомленному мосье де Бомарше. С ним действительно обошлись несколько грубовато. Луи проговорил с мрачным видом:
– Боюсь, что вы правы, месье, – и пообещал все уладить на следующий день.
Узнав, какой поток милостей король соизволил излить на узника из Сен-Лазар, министры изумились.
И снова господа Гюден и Мегрон были уполномочены сообщить Пьеру решение христианнейшего короля.
– «Sursum corda. – Обратите сердца свои к небу», – так начал Гюден и стал перечислять благодеяния его величества: – Король дарует вам из личных средств в знак своего расположения годовую пенсию в тысячу двести ливров. Король приказал цензуре не препятствовать более опубликованию комедии «Женитьба Фигаро».
Тут Мегрон, в ярости на философа, который так долго задерживается на мелочах, прервал Гюдена:
– Король изъявил готовность признать наши притязания на возмещение убытков в сумме двух миллионов ста пятидесяти тысяч ливров.
Пьер сидел разинув рот.
– Что вы сказали? – спросил он. – Вы не оговорились? Вы сказали – миллион сто пятьдесят тысяч?
– Нет, – ответил Мегрон, – я сказал – два миллиона сто пятьдесят тысяч. Мосье Неккер очень разозлится, – прибавил он деловито. – Король явно спятил.
Дезире решила превратить освобождение Пьера из тюрьмы в большое всенародное зрелище. Тысячи людей стояли перед тюрьмой Сен-Лазар, и полиция не решалась вмешиваться.
Ворота распахнулись, и в сопровождении Гюдена и Мегрона, минуя отдавшего честь мосье Лепина, Пьер вышел на свободу. Он стоял грязный, бородатый и щурился на солнце, а толпа безмолвствовала. Его окружала огромная невидимая свита: Фигаро и Альмавива, Розина и Керубино и бесчисленные матросы, которые вели корабли с оружием в Америку. С полминуты царила тишина. И вдруг толпа разразилась неистовым ревом, бросилась к Пьеру, понесла его к карете, проводила до самого дома.
Карета остановилась перед оградой парка на улице Сент-Антуан. Кое-кто собрался было отворить решетчатые ворота. Но Пьер вышел из кареты. Он хотел сам, собственными ногами вступить на свою землю, войти в свой сад. Он стоял у ворот, но не позволил их отпереть. Он стоял и разглядывал королевскую печать и печать мосье Брюнеле, подвешенные к решетке. Потом направился к дому, мимо храма Вольтера, мимо «Гладиатора». Ноги у него подкашивались, он шел, опираясь на Мегрона и Гюдена.
Из дома выскочила, смеясь, крича и причитая, Жюли и бросилась ему на шею. А в дверях стояла Тереза. Пьер смотрел на нее, она смотрела на Пьера. Они медленно направились навстречу друг другу, и Пьер пожалел, что не захотел привести себя в порядок и сбрить щетину. Тереза молчала, молчал и он, но они знали друг друга насквозь, они знали, что он смешон и великолепен. Они обнялись, почти стыдливо, но не потому, что их видели окружающие, они были преисполнены огромной любви друг к другу.
Тут бросилась к ним собака Каприс; она лаяла, скулила, кидалась на Пьера. Она лизала его и чуть не сбила с ног. Рыдания подступили к горлу Пьера, он еле сдержался, чтобы не заплакать.
Пьер лежал в ванне. Эмиль нерешительно спросил, можно ли сбрить ему бороду. «Нет», – бросил сердито Пьер. Потом все сели к столу, он ел с большим аппетитом, но почти не разговаривал. Прибыло много визитеров, он никого не принял. Он заявил, что чувствует себя еще покрытым грязью и позором и не хочет, чтобы его видел кто-либо, кроме его близких.
На другой день он сел и написал предисловие к изданию «Фигаро». Порой он поднимал голову, вставал, ходил взад и вперед. В зеркале отражалась рыжеватая борода – свидетельство его позора, и он садился и продолжал писать с удвоенным пылом.
В этом предисловии он гордо поставил себя в один ряд с Мольером и Расином и обосновал свое право выводить на сцене негодяев, мошенников и аристократов. Неужели только оттого, что лев свиреп, волк прожорлив и ненасытен, а лиса хитра и лукава, басня теряет свою назидательность? Разве его вина, что большие господа таковы, какие они есть? Разве он сотворил их такими? Разве не поступил он мягко и снисходительно, не наделив своего графа никакими иными недостатками, кроме излишней галантности? Разве не в этом недостатке, охотно и даже чувствуя себя польщенными, сознаются французские аристократы?
«Я люблю графа Альмавиву, потому что люблю моего умного, ловкого Фигаро. И чем более блестящей будет особа графа, чем внушительней его власть, тем славней победа Фигаро и его природного ума. Тема моя – тема многих басен о животных: победоносная борьба хитрости и ума против грубой силы. Я пишу, – заканчивал этот бородатый человек, внешность которого еще носила следы тяжелого пребывания в тюрьме, – я пишу эти страницы не для моих теперешних читателей. Но через восемьдесят лет будущие писатели сравнят свою судьбу с нашей, и из моего труда потомки узрят, как много стоило усилий развлечь их предков».
Ему стало легче, когда он излил свое сердце, но он продолжал сердиться.
Потом прибыли деньги в возмещение его убытков. Они поступали золотом и в векселях, они хлынули таким потоком, какого он никогда еще не видел: два миллиона сто пятьдесят тысяч ливров. И Пьер уже был не в силах носить маску мученика. Зеркало, в котором прежде отражались тысячи физиономий Пьера – Пьера легкомысленного, Пьера комедианта, Пьера восторженного, Пьера творящего, Пьера отчаявшегося и гневного, – увидело теперь Пьера дурака. Да, веселье, охватившее Пьера, когда его глубочайшее несчастье обернулось для него величайшим счастьем, было, пожалуй, еще больше, чем его торжество. Словно по мановению волшебной палочки, этот трагически униженный человек превратился снова в шута, каким он родился, в шута, которому суждено было вновь и вновь бесконечными проделками побеждать сатану и смерть. Бородатый, стареющий Пьер плясал вокруг стола, на котором лежала груда денег, высовывал язык и кричал своему двойнику в зеркале: «Эх, черт побери, вот и я!»
Он побрился и пригласил родных и друзей на праздничный ужин. Пришли все – сестра Тонтон и ее муж, советник юстиции, престарелый герцог Ришелье и принц Нассауский. А Дезире привела своего доктора Лассона, который был горд тем, что ему разрешили прийти, и оскорблен тем, что он вынужден был прийти, а богатый стол был уставлен самыми изысканными яствами, и горели сотни свечей, и все пили, ели и веселились; Пьер находил для каждого сердечное, доброе и острое слово, и никогда еще сотрапезники не видели его таким веселым, как в этот вечер.
На другой день Мегрон хотел оплатить мосье Брюнеле долг по его закладной. Но Пьер воспротивился этому, он пожелал все сделать сам. С векселем на имя мосье Брюнеле в кармане Пьер отправился в Этьоль. Шарло не принял его. Тогда Пьер вручил вексель в уплату закладной секретарю мосье Ленормана и сказал:
– Будьте так любезны, передайте это вашему господину. Я буду знать, что деньги попали по назначению. А вот тут еще тысяча ливров за обеды, которыми меня потчевал мосье Ленорман, плюс чаевые.
4. Ca Ira!
Большой американский фрегат «Альянс», подняв паруса, быстро шел по волнам. Рыжий, тощий и длинноносый молодой человек стоял на борту. Было прохладно, молодой человек недавно перенес тяжелую болезнь и жестокие испытания судьбы. Но теперь он едет домой, уже видна его родина. Не отрываясь, смотрел он на медленно подымавшуюся зубчатую скалу, за которой открывалась брестская гавань. Вот перед ним форты.
Переезд был очень нелегким. Уже в самом начале, в Бостоне, встретилось много затруднений; стоило огромных усилий найти матросов. Молодой человек, – его звали Жозеф-Поль-Жильбер маркиз де Лафайет, – решил набрать судовую команду из бывших заключенных и дезертиров английской армии. Когда они отплыли, разразилась страшная буря, нависла черная, бесконечная ночь. Они решили, что все погибло, и маркиз, еще слабый после только что перенесенной болезни, проклинал судьбу, которая бросила его из прекрасного пышного дворца Ноайль в Париже в это бурное, разгневанное море и предназначила на корм рыбам. Наконец, в последнюю неделю плавания, сам того не подозревая, он чуть было не погиб в результате заговора негодяев, из которых состояла большая часть судовой команды. Пытаясь переманить корабли мятежников в Англию, английское правительство обещало все суда, которые ему приведут взбунтовавшиеся матросы, сделать собственностью команды. Матросы на «Альянсе» полагали, что если они доставят знаменитого Лафайета, они, разумеется, будут желанными гостями в любой английской гавани, и уже выработали план, как обезоружить офицеров. В последнюю минуту счастливый случай и решительность спасли Лафайета и корабль. Теперь перед ним Франция, а бунтовщики, закованные, лежат в трюме.
Молодой маркиз глядел на все приближавшийся берег Франции и думал о том, как его там встретят. Положение его было не совсем ясным. Вопреки приказу короля, маркиз покинул свой пост во французской армии и свою страну и стал «дезертиром». Но в то же время политика, которую он осуществлял, когда дезертировал, стала официальной политикой его страны. Франция объявила войну Англии, и он возвращался домой, прославив себя подвигами, которые совершил в этой войне.
Корабль вошел в гавань, раздался залп крепостных орудий. Это был салют полосатому звездному флагу, тому флагу, который при их отъезде никто не смел поднять. Молодой маркиз вспомнил, как некогда он тайком отплыл из испанской гавани на своем корабле, приобретенном на деньги мосье Бомарше, а вот теперь он возвращается, приветствуемый орудиями французского короля, и сердце его радостно забилось.
Он поспешил в Париж, на улицу Сент-Оноре, в Отель-Ноайль. Дрожа от счастья, обняла его жена, девятнадцатилетняя Адриенна. Пришел военный министр, старый Сегюр, подставил ему сухую щеку для поцелуя, ласково похлопал по плечу и объявил о наказании. Наказание было очень мягким: неделя домашнего ареста во дворце Ноайль.
Из своего заключения маркиз написал смиренное письмо королю. «Я отнюдь не дерзаю, – писал он, – оправдывать свое неповиновение, в коем я глубоко раскаиваюсь. Однако самое существо моего проступка дает мне право надеяться, что мне будет дана возможность его исправить. Быть может, милость вашего величества дарует мне счастье искупить вину мою тем, что я буду служить вашему величеству везде и всюду, где только ваше величество соизволит мне приказать».
На следующий день маркиз был вызван в Версаль, чтобы выслушать внушение короля. Луи принял его в библиотеке. Толстый молодой монарх, щурясь, рассматривал своего худого молодого офицера и неуклюже сказал:
– Собственно говоря, вам не следовало этого делать, мосье.
И после того как Лафайет какое-то время с виноватым видом глядел себе под ноги, Луи с живостью обратился к нему:
– А теперь, дорогой маркиз, объясните мне наконец, где, собственно, находится эта Саратога, которой нет ни на одной карте?
И оба пустились в оживленный разговор на географические темы.
После того как предмет разговора был исчерпан, Лафайет сказал:
– Имею честь передать вашему величеству письмо от Конгресса Соединенных Штатов.
Луи взял письмо и прочел. Оно начиналось так: «Нашему великому, верному и дорогому союзнику и другу, Людовику Шестнадцатому, королю Франции и Наварры», – и дальше шло восхваление благородного юноши, подателя сего письма, который проявил себя мудрым в совете, смелым на поле брани, стойким в тяготах войны. И члены Конгресса еще два раза говорили о себе как о «добрых друзьях и союзниках короля» и заканчивали свое послание словами: «Мы молим господа бога, чтобы он сохранил ваше величество под своим святым покровом».
У Луи был испорчен день. Эти лавочники, мужики, провинциальные адвокаты называли его, христианнейшего короля, «своим дорогим другом». Они благосклонно препоручали ему французского офицера из самой родовитой дворянской семьи. Это было как раз то, чего он больше всего боялся: начало переворота, подрыв самих основ установленного правопорядка.
– Я вижу, господин маркиз, – проговорил он сухо, – вы завоевали любовь этих… – он подыскивал слова, – …этих граждан. Разумеется, я был совершенно уверен, что французский офицер отличится среди этих… – он опять запнулся, – …граждан.
На этом аудиенция закончилась.
Собственно говоря, в Версале было известно, что молодой маркиз чрезвычайно популярен среди бостонцев. «Все в Америке, – сообщал объективный наблюдатель Жерар своему министру, – любят маркиза, восхищаются им, высоко ценят его военные таланты. Поведение маркиза, столь же мудрое, сколь и мужественное, равно как его обходительность, сделали мосье Лафайета кумиром Конгресса, армии и всего населения». Вержен вспомнил, какой дурной прием оказал еще совсем недавно маркизу тот же Конгресс. Он ухмыльнулся и решил, что непостоянство присуще республике в не меньшей мере, чем деспотии.
Двор, народ и прежде всего женщины наперебой выказывали симпатию и благодарность молодому герою. Жозеф-Жильбер де Лафайет был некрасивым, суетливым, неловким юношей. До своих приключений он, обладатель огненно-рыжих волос и маленьких глазок, не пользовался успехом у женщин. Туанетта бросила однажды этого неловкого танцора посреди танца. И вдруг все изменилось, слава и всеобщее обожание придали возвратившемуся ослепительную красоту. Худоба его превратилась в стройность, воспаленные глаза светились мечтательностью и умом, суетливость была выражением небывалой энергии. Женщины любили его.
Он грелся в лучах славы. Однако гораздо важнее ему было другое. Уже на второй день после того, как Лафайет был принят королем и освобожден из-под домашнего ареста, он отправился к «старику в саду».
В тот день, когда Лафайет пришел к Франклину, у доктора все утро были одни неприятности.
Тот самый мистер Диггс, который благодаря горячей рекомендации мистера Ли был направлен в Лондон, чтобы позаботиться об американских военнопленных, похитил из доверенной ему суммы почти четыреста фунтов, точнее – триста восемьдесят восемь фунтов и четыре шиллинга, и между доктором Франклином и Артуром Ли произошло утром объяснение по этому поводу.
Артур Ли заявил, что выносить окончательное суждение еще преждевременно. Случившееся, конечно, не говорит в пользу мистера Диггса, но последний уверяет, что приедет в Париж и все объяснит.
– Факт остается фактом, – ответил Франклин. – Он растратил триста восемьдесят восемь фунтов и не в состоянии представить на них оправдательные документы.
Артур Ли пожал плечами и продолжал настаивать на том, что следует подождать возвращения Диггса в Париж.
– Боюсь, – возразил Франклин, – что ждать нам придется долго.
Артур Ли покраснел.
– Я человек небогатый, – сказал он, – но если военнопленные на самом деле остались без денег по вине мистера Диггса, я готов выложить из своего кармана пятьдесят фунтов и покрыть часть растраты.
И так как Франклин молчал, Ли раздраженно продолжал:
– Прошу вас не говорить больше на эту тему. И прежде всего решительно возражаю, чтобы вы на основании этого факта судили о моем знании людей и жизненных обстоятельств.
– Одно, по крайней мере, вы разрешите мне, – спокойно возразил Франклин, – а именно: судить о характере вашего мистера Диггса. Человек, который крадет у богатого гинею, человек этот, вы должны со мной согласиться, просто негодяй. Ну, а как, мистер Ли, назовете вы человека, который отнимает у несчастного военнопленного восемнадцать центов его пособия? И при этом не один раз, а в течение всей холодной зимы? Неделю за неделей! И не у одного военнопленного, а у шестисот? Как, мистер Ли, назовете вы такого человека?
– Мы все уже ошибались, – вызывающе ответил Артур Ли. – Я мог бы составить длинный список людей, в которых ошиблись вы, доктор Франклин.
– Значит, вы не можете найти подходящее определение для такого субъекта, как рекомендованный вами Диггс? – с трудом подавляя гнев, произнес Франклин. – И не найдете, в нашем языке нет слов для такой подлости. Если ему не место в аду, – значит, не стоило выдумывать черта.
– Я вижу, – ответил Артур Ли, – что мистер Диггс пришелся вам очень кстати.
– Молчите, сударь, – сказал Франклин не громко, но так, что тот замолчал.
Эта беседа произошла утром того дня, когда Лафайет посетил доктора. Доктор ждал визита маркиза, но как раз сегодня ему не хотелось его принимать. Франклина не могла ослепить слава, которая окружала маркиза, кроме того, ему уже многие говорили, что Лафайет просто тщеславный мальчишка. Поэтому он вежливо, но довольно холодно приветствовал своего гостя.
Лафайет, однако, оказался приятным, образованным молодым человеком, не страдающим ни ложной скромностью, ни самомнением. Он разговаривал с Франклином с величайшим почтением, но ему чужда была пустая, ничего не говорящая любезность, которая порой раздражала старика в французах.
Он слышал, сказал Лафайет, что англичане, к сожалению, очень часто перехватывают почту. Тем более приятно ему в целости и сохранности доставить доктору письмо от Конгресса, и с этими словами он вручил послание Франклину. Краснея и мило улыбаясь, Лафайет добавил, что если в письме встретятся фразы о нем, Лафайете, то он просит доктора не задерживаться на них. Его чрезмерно избаловали в Америке и восхваляют выше его заслуг.
– Я рад, – ответил Франклин и положил непрочитанное письмо на стол, – что они пытаются загладить плохой прием, который вы, как я с сожалением узнал, встретили в Филадельфии.
На худом лице Лафайета промелькнула сияющая улыбка. Он рассмеялся. Стоило ему рассмеяться, как все забывали о его некрасивости.
– Разумеется, я был зол, – сказал он, – зол на беспардонность мистера Лауэлла. Но потом я все понял. Конгресс жаждал тогда получить от Франции только одно – большой мешок денег. А вместо них прибыла кучка оборванных молодых французов, которые все без исключения желали стать генералами.
Лафайет заговорил о Джордже Вашингтоне. Он восхвалял его хладнокровие в самых тяжелых ситуациях и его равнодушие к бесконечным проискам и интригам, которые плелись против него при попустительстве Конгресса. Он, Лафайет, считает величайшим счастьем своей жизни, закончил маркиз с теплотой, что ему удалось снискать отеческое расположение этого достойного удивления человека.
Доктору понравился молодой Лафайет. Правда, он любил говорить и сразу же высказывал свои суждения. Но в двадцать один год Лафайет хорошо знал жизнь и трезво судил о людях и явлениях. Очень может быть, что он отправился в Америку единственно из тщеславия и жажды приключений, однако благодаря приобретенному опыту и примеру великого, спокойного, неторопливого Вашингтона он стал человеком зрелым. По-видимому, Лафайет был беспристрастным свидетелем того, как генерал терпеливо и спокойно разоблачал недоброжелательство, никчемность и жажду наживы некоторых членов Конгресса, которые отказывали его армии в самом необходимом.
Напустив на себя значительность и приняв вид пожилого и опытного политика, маркиз распространялся на тему о том, что, к сожалению, во Франции уже знают об американских разногласиях и это заставляет Версаль с недоверчивостью относиться к своему союзнику. Он, Лафайет, старается смягчить создавшиеся отношения и рисует американские события в самом благоприятном свете. Лафайет говорил горячо. Он старался продемонстрировать этому старику, наряду с Вашингтоном самому великому гражданину Америки, как хорошо он все понимает и как энергично хочет помочь. Франклин слушал его, улыбаясь. Воодушевление молодого человека было полезно для Америки. Надо только слегка сдерживать его, чтобы он не повредил делу своим чрезмерным усердием.
Наконец Лафайет сказал, что и так уже слишком задержал Франклина, и встал, чтобы откланяться. Уже в дверях он с полуискренним-полунаигранным смущением сообщил, что у него есть и второе письмо для Франклина, письмо от генерала Вашингтона. Но он не захватил его.
– Почему же? – слегка удивленно спросил Франклин.
Лафайет, с улыбкой, которая так его красила, ответил:
– У меня были основания полагать, что в письме, главным образом, говорится обо мне и, значит, оно не к спеху. А потом мне хотелось найти предлог прийти к вам вторично.
– Вам не нужны никакие предлоги, господин маркиз, – приветливо заметил доктор. – Как только вам захочется, приходите, с письмом или без него.
Оставшись один, Франклин принялся раздумывать о личности и судьбе Лафайета. Этот аристократ, воодушевленный примером Джорджа Вашингтона, решил посвятить все свои силы и честолюбие разрушению порочного старого порядка, хотя, собственно, его существование основывалось единственно на этом старом порядке. Добро заразительно.
И мысли доктора обратились к общим вопросам. Самыми вредными были, несомненно, законы, введенные тори и сковывавшие развитие молодой страны. Правда, их отменили, эти законы, и они никогда больше не войдут в силу. Но придет время, и, вероятно, оно не за горами, когда молодая американская республика состарится, и тогда многое из того, что создано ею, устареет и потеряет свой смысл. И так же, как четвертая часть ее населения вынуждена сейчас, принося величайшие жертвы и терпя величайшие лишения, бороться за новое, исполненное великого смысла, против косного большинства, которое эгоистично цепляется за бессмысленное старое, точно так же когда-нибудь позднее умное, гуманное меньшинство снова вынуждено будет бороться против неповоротливого большинства, против неповоротливых сердец и умов. И так же, как сегодня эти косные люди разглагольствуют о добрых, старых английских традициях, они будут тогда болтать о добрых, старых американских традициях.
Франклин взял в руки письмо Конгресса, переданное ему маркизом. Он полагал, что найдет в нем теплую рекомендацию Лафайету. Так оно и было. Маркиз, писал мистер Лауэлл, председатель комитета по иностранным делам, оказал Соединенным Штатам чрезвычайно важные услуги. Он надеется, что Франклин окажет всяческую поддержку маркизу во время его пребывания в Париже и воспользуется его советами во всех важнейших делах. Кроме того, Конгресс просит Франклина вручить Лафайету почетную шпагу.
Далее письмо касалось других вопросов. Франклин читал. Вдруг он выпрямился, глаза его загорелись. Мистер Лауэлл сухо сообщал Франклину, что Конгресс постановил назначить его единственным полномочным представителем Соединенных Штатов при Версальском дворе. Верительные грамоты прибудут с ближайшим судном. Он, Лауэлл, воспользовался случаем как можно скорей передать это известие через маркиза и пожелать ему счастья.
Медленным движением старой руки Франклин положил письмо обратно на стол.
Он ждал этого. Иначе и быть не могло. Тем не менее все могло сложиться совершенно по-другому. И он был готов ко всему. Это письмо чревато большими последствиями. Оно снимает с него тяжелое бремя и в то же время накладывает новое. Теперь решено, что он останется здесь и, может быть, никогда не увидит родины. От встречи с королевой до этого назначения он, Франклин, прошел большой путь. Союз заключен. Но теперь он должен достать деньги, он должен добиться займа, и ему снова предстоит долгий и тяжелый путь. А потом начнется еще новый и долгий путь к миру. Но он добьется его. Он твердо решил жить, пока не добьется его. Ca ira!
Охотнее всего он поехал бы сейчас к Морепа и напомнил министру о его обещании приступить к переговорам о займе, как только господа Ли и Адамс будут лишены своих полномочий. Но он сам улыбнулся своей поспешности. Он заранее знал, что Морепа сердечно поздравит его и разъяснит, что, пока не получено официального сообщения об этой отрадной перемене, он, Морена, не может вступить в переговоры с делегацией иначе как в полном ее составе. Значит, Франклину придется подождать.
Но этот обычно столь спокойный человек не мог ждать. Ему нужно было сделать что-то теперь же, немедленно. Для переговоров о займе необходим совет надежного человека, а таким был только мосье Легран, верный банкир Соединенных Штатов. Но мосье Легран сидел в своем нейтральном Амстердаме. Поэтому вновь назначенный единственный полномочный представитель сделал первый шаг на своем поприще и обратился с собственноручным письмом к мосье Леграну, прося его немедленно приехать в Париж.
Только отправив письмо, он до конца осознал и почувствовал всю важность своего назначения. Он представил себе, какое впечатление произведет это известие на его коллег, уже переставших быть его коллегами. Мосье Недотепа примет это известие с хорошей миной. Но какую гримасу скорчит его милый Артур Ли? Тонкие губы Франклина раздвинулись в улыбку, и на какую-то долю секунды лицо его стало совсем не мудрым, а по-настоящему злорадным.
Но он тут же одернул себя. Ему показалось очень мелочным радоваться разочарованию других. У него была теперь полная уверенность, и он мог спокойно ждать, пока молодые люди получат это горькое сообщение от Конгресса. Будет достойнее не показывать свою осведомленность, он еще позабавится, когда они будут высокомерно осыпать его советами и предостережениями в течение оставшихся им недель.
Вообще умнее молчать и никому ничего не говорить, даже самым близким, даже друзьям. Ничего полезного предпринять нельзя, пока не прибудут верительные грамоты, иначе начнутся раздоры и споры. А он будет молчать и как следует повеселится, наблюдая за поведением тех двоих.
Он долго сидел с закрытыми глазами, спокойный, довольный. И поступил именно так, как решил, – никому ничего не сказал, даже Вильяму Темплю, даже мадам Гельвеций.
Однажды, как обычно, он сидел под своим буком. Дело шло к зиме, и он кутался в свои меха. Но ласковое солнце пробивалось сквозь голые ветви, и, сняв меховую шапку, Франклин подставил свою почти лысую голову теплым лучам. Подошел маленький Бен и спросил, можно ли ему побыть с дедом. Бен сидел рядом тихий, совсем еще ребенок, но удивительно понятливый. Наверно, так выглядел бы маленький Фрэнки, если бы ему суждено было подрасти.
Внезапная мысль овладела Франклином.
– Вот теперь мы посмотрим, мой мальчик, – сказал он, – умеешь ли ты хранить тайну. Как ты думаешь, умеешь?
– Думаю, что да, дедушка, – ответил заинтересованный малыш.
– Даешь ты мне слово, – спросил доктор, – что не выдашь меня, если я сообщу тебе что-то очень важное и секретное? Никому? Даже Вильяму?
– Разумеется, я ничего никому не скажу, – заверил его маленький Бен.
– Даешь слово? – переспросил Франклин.
– Даю слово! – торжественно ответил малыш.
– Тогда слушай, – сказал Франклин. – Твой дедушка назначен единственным полномочным представителем Соединенных Штатов.
Маленький Вениамин казался разочарованным.
– Поздравляю тебя, дедушка, – произнес он вежливо, – разумеется, я никому не скажу об этом.
А Франклин усмехнулся, подумав, как не мудр мудрый Франклин. В подобном случае его друг Дюбур, наверно, рассказал бы историю царя Мидаса. Пришлось однажды царю Мидасу быть судьей в музыкальных состязаниях между Паном и Аполлоном, и он присудил приз Пану. Узнал об этом Аполлон и наградил его ослиными ушами. Мидас тщательно прятал их под фригийским колпаком. Но его цирюльник их обнаружил. Однако цирюльник знал, что, если он проболтается, придется ему проститься с жизнью, и поэтому он долго хранил свою тайну. Когда же ему стало совсем невмоготу, он вырыл ямку в земле и прошептал в нее: «У Мидаса ослиные уши, у Мидаса ослиные уши!» И тут из ямки вырос камыш, и камыш разнес по всему свету: «У Мидаса ослиные уши!»
Правда, с ним, Франклином, дело обстояло не так плохо. Но посвящать в свои дела маленького Бена было куда как не мудро. Однако он не собирался раскаиваться, и его веселило, когда мальчик с лукавой радостью по-мужски подмигивал ему.
Лафайет ходил по Парижу и упивался своей славой. Ему в двадцать один год оказывали такие же почести, как полгода назад восьмидесятитрехлетнему философу Вольтеру. Вольтер посеял идеи, из которых выросла и созрела независимость Америки, а Лафайет первым из французов осуществил союз между своей страной и молодой республикой. Разумеется, это было не совсем так. Но всем хотелось верить в это, ибо Лафайет был молод, пылок, красноречив и бурно общителен.
Побывал Лафайет и во дворце Монбарей. Опальный министр и его жена были весьма польщены и не обиделись, что герой двух континентов неподобающе долго говорил с Вероникой, уединившись с ней в нише окна.
Лафайет рассказал Веронике о Фелисьене и передал ей от него письмо. Фелисьен был ранен в руку. Лафайет принял участие в своем соотечественнике и добился для него производства в лейтенанты. Он сумел по заслугам оценить серьезного молодого человека, который, несмотря на чуждые ему, порою отталкивающие обычаи Нового Света, сохранил способность трезво судить о множестве неприятных мелочей, что открылись ему в Америке, и о немногом, но поистине хорошем. Он рад, закончил маркиз, передать такой умной, мужественной и любезной молодой особе привет от своего друга, Фелисьена Лепина. Говоря так, Лафайет время от времени окидывал ее победоносным и пронизывающим взглядом.
Когда он ушел, Вероника пошла в парк, на то место, где они были в последний раз с Фелисьеном, и уединилась там со своим письмом. Вероника терпеливо перенесла очень трудную пору ожидания. Она видела перст провидения в том, что ее отец потерял свою должность и не имел больше возможности причинять зло стране. Она с радостью отпустила своего друга и возлюбленного на борьбу за освобождение человечества. Она выдержала первое испытание и вот теперь читает письмо Фелисьена. Он писал из лагеря, расположенного в местности, называемой Велли-Фордж.