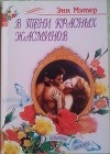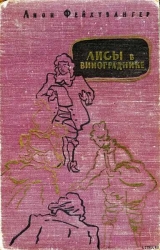
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 57 страниц)
Перед ними распахнулись ворота в дощатом заборе, и они с шиком проехали через парк по широкой извилистой аллее. Прикупив соседний земельный участок, Пьер устроил в парке террасы, холмики и долинки, чтобы создать впечатление большого простора.
Приятели Эмиля вышли из кареты, и он, с гордым и скромным видом, стал водить их по парку.
– Вот наши каскады, – пояснил он, – а вот наш китайский мостик. Сначала мы хотели перебросить через ручей швейцарский мостик, но потом мы нашли, что это недостаточно современно. Наш архитектор считает, что китайский стиль становится теперь единственно модным, как и пятнадцать лет назад.
Повсюду белели статуи и бюсты античных богов, а также друзей и родственников Бомарше. Гости покатались на лодке по небольшому озеру, посидели в затейливых беседках, предназначенных для влюбленных; беседки, кстати сказать, тоже были украшены бюстами отца и сестер Бомарше. Камердинер Монбарея поделился соображениями насчет того, как будет здесь развлекаться Эмиль на виду у своих хозяев.
Самым заметным украшением парка был, однако, маленький храм на невысоком холме. Гости поднялись по ступеням.
– Это наш вольтеровский храм, – объяснил Эмиль.
Внутри возвышался мраморный бюст – умнейшее и безобразнейшее лицо философа, а на куполе сверкал позолотой массивный земной шар с огромным золотым гусиным пером, воткнутым в полюс.
– Очень красиво, Бомарше, – одобрил Водрейль, – очень символично, вас действительно осенила хорошая мысль.
Эмиль объяснил, что символика этим далеко еще не исчерпывается; но, к сожалению, сегодня из-за безветрия всего не увидишь. Вообще же перо, эмблема Вольтера и Бомарше, вращается на ветру и приводит в движение земной шар.
– Недурно, – признал Ришелье.
Они прочитали надпись: «С глаз мира он сорвал повязку заблуждений».
– Это о твоем? – осведомился Водрейль.
– Нет, – разъяснил Эмиль, – это о другом.
Из храма, как, впрочем, и со всех холмов, была видна мрачная громада Бастилии, высившаяся по ту сторону площади.
– Вот это мне гораздо меньше нравится, – сказал Монбарей.
– Вы не понимаете, – поучающим тоном возразил Эмиль. – В этом-то весь смысл. Из-за этого мы здесь и поселились. Мы находим, что в сочетании нашего дома и открывающегося отсюда вида заключено противопоставление.
– Ага, – сказал Водрейль.
Затем, миновав золоченую решетку, они вышли на большой двор, полукругом раскинувшийся перед вогнутым фасадом дома. Фасад был украшен колоннами и аркадами, а в центре двора, на тяжелом постаменте, стояла фигура гладиатора в боевой позе, с волевым, обращающим на себя внимание лицом.
– Он чертовски похож на твоего, – сказал Монбарей. Эмиль только многозначительно ухмыльнулся.
Он показал друзьям дом, подвал, где размещались кухни, огромные погреба, таинственную гастрономическую лабораторию, предназначенную для узкого круга друзей – знатоков кулинарии и пивоварения. Затем, через высокий зал, Эмиль вывел гостей к изящно изогнутой лестнице, – они поднялись по ней и осмотрели пятнадцать комнат: столовую, бильярдную и в первую очередь – просторную, круглую гостиную, увенчанную огромным куполом. Зал был расписан Юбером Робером и Берне, каминную доску подпирали кариатиды каррарского мрамора.
– Только за одно это мы выложили сорок тысяч ливров, – сообщил Эмиль.
«Ничему не удивляться» – таков был принцип, которого придерживались и камердинеры, и их господа. Однако блеск и богатство дома произвели на гостей впечатление, и слава о нем распространилась.
Когда Пьер впервые проснулся утром в своем новом жилище, к его «леве» собрались уже все, кого он желал у себя видеть, – барон де Труа-Тур, шевалье де Клонар, мосье Ренье из Верховного суда, – все до одного. Деловые знакомые и кредиторы Пьера заявляли, что их не проведешь, что дом выстроен взаймы, на их деньги. И все-таки это сверхроскошное, сверкавшее позолотой здание им импонировало, и они были готовы одолжить еще денег его владельцу. Отпуская злые, не в бровь, а в глаз бьющие шутки насчет безмерной, варварской роскоши дома, посетители завидовали человеку, обладавшему, несмотря на то что он был, по сути, всю свою жизнь банкротом, способностью строить такие дома.
С невозмутимым лицом, бесстрастно и молча, ходил по великолепным комнатам секретарь Мегрон. Он по-своему, осторожно и тихо, скорее манерой держаться, чем словами, предостерегал Пьера от нового, нелегкого бремени и теперь взирал на всю эту мишуру с большой неприязнью. Он знал до последнего су стоимость каждой вещи и с неодобрением подсчитал, что, например, деньгами, выброшенными на статую Ариадны, можно было бы заплатить за сахар, поставленный фирмой «Рош». Однако архисолидный мосье Мегрон чувствовал себя тем теснее связанным с фирмой «Горталес» и ее шефом, чем несолиднее она становилась. Он проклинал увлечения Пьера, стоимость которых опрокидывала все его, Мегрона, кропотливые расчеты, но без этих непрестанных волнений жизнь ему давно бы опостылела. Некоторые дельцы намекали Мегрону, что одна крупная, уважаемая фирма весьма заинтересована в сотрудничестве человека таких дарований, и у мосье Мегрона были основания полагать, что это приглашение исходит от мосье Ленормана. Участвовать в колоссальных предприятиях мосье Ленормана и занимать влиятельный пост, пожалуй, очень заманчиво; но еще заманчивее быть правой рукой мосье де Бомарше.
Сам мосье Ленорман одним из первых навестил Пьера на новом месте. Маленькие, глубоко сидящие глаза тучного господина меланхолически оглядывали тяжелую роскошь дома. Поразительно, как этот малый умеет наслаждаться богатством в долг, не допекая себя ни заботами, ни соображениями вкуса; будь это возможно, Пьеро, наверно, носил бы этот дом на пальце, вдобавок к своему непомерно большому бриллианту. Разумеется, среди добра, собранного здесь Пьером, было несколько по-настоящему достойных обладания вещей, и мосье Ленорман желал ими обладать. Например, камин с кариатидами очень подошел бы к музыкальному залу его парижского дворца, а портрет Дезире работы Кантона де Латура оказался бы как нельзя более на месте в его гардеробной в Этьоле. Тихим, жирным голосом он поздравил Пьера с тем, что дела его идут явно лучше, чем он, Шарло, предсказывал. Только на какую-то долю секунды, когда он взглянул на Бастилию, в углах его рта появилась едва уловимая недобрая улыбка.
Та, для кого создавалось все это великолепие, – Тереза, казалось, не испытывала особого энтузиазма. Ее собственные комнаты, как она и желала, очень простые, были подобны острову среди блеска и суеты, да и сама она, сидя за столом с Пьером и его гостями, казалась чужой здесь. Но Пьер, к своей радости, видел, что все восхищаются именно этой простотой, этим прекрасным спокойствием.
Первый раз обходя с Пьером новый дом, Жюли принялась было острить. Затем, в восторге от богатства и роскоши этого жилья, она неожиданно бросилась брату на шею и воскликнула, смеясь и плача:
– Ты самый великий, самый лучший. Пьеро! Конечно, ты должен был построить этот чудесный дом. Ты его заслуживаешь. И, конечно, Тереза к нему больше подходит, чем я.
Она была безмерно великодушна и хотела во что бы то ни стало отдать Терезе браслет, подаренный Пьером.
– Ах, если бы папа дожил до этого дня, – причитала она в восхищении.
Пьер, сияя, ходил среди гостей, одолеваемый желанием поделиться со всеми переполнявшей его радостью. Он попросил свою молодую, веселую сестру Тонтон, чтобы та заказала себе новое платье у мадемуазель Бертен. Своему верному Филиппу Гюдену он подарил не только письменный стол с широким вырезом для живота, изготовленный из ценного тропического дерева, но и чудесный китайский халат. Кроме того, он послал ему целый воз объемистых научных трудов, в том числе, между прочим, многотомную «Всеобщую историю занимательных путешествий» Прево – Лагарпа. Тронутый вниманием друга, Гюден с удвоенным усердием работал теперь над «Историей Пьера Бомарше», закутавшись в халат и поместив свой живот в вырез стола. По мере увеличения объема труда удлинялось и его название. Теперь он уже назывался «Правдивое описание жизни и воззрений писателя и политика Пьера-Огюстена Карона де Бомарше».
В глубине души Пьер надеялся, что осмотреть новый дом на улице Сент-Антуан явятся также Морепа и Вержен. Они не приехали. Зато явилась графиня Морепа, сопровождаемая супругами Монбарей и Вероникой, которая – что случалось с ней редко – попросила взять ее с собой. Мадам Морепа взирала на здешнее великолепие не столько благосклонно, сколько иронически, задетая тем, что ее Туту не поставил в парке также и ее бюста. Что касается военного министра Монбарея, то изобилие этого дома навело его на мысль сказать своей приятельнице мадемуазель де Вьолен, чтобы впредь она брала с Пьера больше комиссионных.
По случаю прибытия графини Морепа к гостям, вопреки обыкновению, вышел и Фелисьен. Он преодолел свою застенчивость и попросил у Вероники разрешения показать ей парк. Молодые люди сидели на ступенях вольтеровского храма. Они говорили, что Вольтер умнейший человек на свете, но что еще более велик Жан-Жак Руссо, соединяющий в себе могущественный разум и глубочайшие чувства. Они спрашивали друг друга, когда же повязка заблуждений будет окончательно сорвана с глаз человечества. Они мечтали об эпохе свободы и разума, начало которому положило освобождение Америки. Фелисьен был счастлив, что, несомненно, увидит расцвет этой эпохи, счастлив, что увидит его с Вероникой. Они сидели, мечтали, молчали, держались за руки, грезили, пока наконец лакей не доложил, что принцесса собирается уезжать.
Одной из последних приехала Дезире. Полюбоваться новым достижением Пьера ей хотелось вместе с товарищами по сцене. Сначала у Пьера была мысль устроить по случаю новоселья празднество для всего Парижа. Но, по совету Гюдена, он остановился на более достойной идее и решил отпраздновать новоселье, прочитав «Фигаро» актерам «Театр Франсе».
И вот они пришли, эти самые гордые в мире артисты, пришли, чтобы услышать новую пьесу любимого автора. Сначала они осмотрели дом. Суждения их были чрезвычайно различны; некоторым роскошь импонировала, но большинство обладало хорошим вкусом и не скрывало своего мнения.
Атмосфера сгущалась, и Пьер хотел уже отменить чтение. Но потом решил: «Что ж, тем более». Сначала он читал скверно, однако вскоре разошелся, и если еще недавно впечатлительное актерское племя высокомерно над ним подтрунивало, то сейчас оно было покорено его мастерством. Все вышло так, как желал Пьер. Им не сиделось на местах, господам и дамам из «Театр Франсе». Они вскакивали, заглядывали через плечо в рукопись, просили: «Еще раз, Пьер, эту фразу еще раз». Они волновались. Вечер получился на славу.
Однако все сошлись на том, что сыграть комедию не удастся.
– Она будет поставлена, – со спокойной уверенностью сказал Пьер.
– Она не будет поставлена, – сказал актер Превиль. – Скорее уж архиепископ Парижский прочтет с кафедры Нотр-Дам воспоминания Казановы.[70]70
Здесь Фейхтвангер допускает хронологическую неточность: чрезвычайно непристойные мемуары итальянского авантюриста Джованни Джакомо Казановы (1725–1798) были впервые опубликованы только в 1826–1832 гг.
[Закрыть]
– «Женитьба Фигаро» будет поставлена, мосье, – отвечал Пьер, – и вы будете играть Фигаро. Вспомните мои слова: Версаль признает независимость Америки, а «Женитьба Фигаро» будет поставлена. Это говорю вам я, Пьер де Бомарше.
– Браво, Пьер! – убежденно воскликнул верный Гюден.
– Хотите пари, мосье? – с неподражаемой легкостью, которой он славился, предложил артист Превиль.
– С удовольствием, – отвечал Пьер. – Какая ставка?
Актер задумался.
– Скажем – бюст работы Гудона, – ответил он. Известно было, что скульптор Жан-Антуан Гудон берет за заказ не меньше двадцати пяти тысяч ливров. – Давайте сделаем так. Если «Фигаро» поставят, я закажу Гудону ваш бюст. Если не поставят, – вы заказываете ему мой бюст.
– Идет, – сказал Пьер. – Дамы и господа, – объявил он торжественно, – вы слышали, как наш Превиль обязался заказать мой бюст. Так вот, я дарю этот бюст «Театр Франсе» – для вестибюля.
– Браво! – в восторге воскликнул Филипп Гюден.
Затем гости принялись есть и пить. Выбором и приготовлением блюд для сегодняшнего ужина Пьер занимался уже две недели. Они пировали всю ночь, и за вином языки развязались.
Под утро, когда все устали, Пьер отдернул занавески, закрывавшие огромное окно. В сумраке медленно вырисовывалась тяжелая глыба Бастилии. Сначала пораженные гости пытались острить. Вскоре, однако, актеры умолкли. Сидя или стоя в душной от винных паров комнате, при неверном свете догоравших свечей, они смотрели на мрачное серое здание, контуры которого все яснее проступали на предутреннем небе.
– Это помогает писать, – сказал Пьер.
Доктор Франклин поехал в Париж, в Отель-д'Амбур, чтобы вместе со своими коллегами Сайласом Дином и Артуром Ли отправиться в министерство иностранных дел, в Отель-Лотрек на набережной Театен, к мосье Вержену. Конгресс поручил своим представителям в Париже просить французское правительство о новом, как можно более крупном займе, и казалось, что сейчас для этого наступил благоприятный момент. Последние новости из Америки были неплохие. Генерал Вашингтон и его армия с блеском прошли через Филадельфию, и население бурно приветствовало солдат, украсивших себя зелеными ветками. В шествии войск приняли участие и французские офицеры, в частности Лафайет, так что история с французами как будто кончилась миром, и все виделось уже в более радужном свете.
К сожалению, однако, за последние два дня, когда свидание с Верженом было уже назначено, положение изменилось, и теперь, сидя в удобной карете, Франклин озабоченно думал о сообщениях, поступивших позавчера из Амстердама, а вчера – из Лондона. Из них следовало, что генерал Вашингтон потерпел поражение близ Филадельфии; ходили слухи, что Филадельфия пала. К тому же английский генерал Бергойн, наступавший из Канады, глубоко вклинился в территорию Соединенных Штатов и грозил отрезать Новую Англию от остальных колоний.
Приехав в Отель-д'Амбур, Франклин сразу понял по лицам обоих коллег, что зловещие слухи получили новое подтверждение. Так оно и было. Мосье де Жерар только что известил эмиссаров, что, по мнению графа Вержена, намеченную встречу лучше отложить. В последний момент из Америки пришли новые депеши, и министр желал бы предварительно ознакомиться с обильной корреспонденцией. Если бы известия были благоприятны, Вержен вряд ли потребовал бы отсрочки.
Они уныло сидели втроем. Сомнительно, чтобы при нынешних обстоятельствах аудиенция у Вержена вообще имела смысл. Франклин считал, что встречу нужно отложить на неопределенное время. Артур Ли, напротив, полагал, что именно теперь-то и следует потребовать займа. Сайлас Дин предложил встретиться с министром, но вместо пяти миллионов, как намечалось раньше, попросить только три. Артур Ли стал горячо ему возражать. Чрезмерная скромность только возбудит подозрение, что они уже поставили крест на деле Америки. Наоборот, теперь нужно держаться особенно независимо и требовать не три и не пять миллионов, а все четырнадцать, которые – в долг или в дар – надеется получить от короля Франции американский Конгресс. Сайлас Дин раздраженно ответил, что, явившись с подобными утопиями к такому трезвому политику, как Вержен, они только поставят себя в смешное положение. Артур Ли не менее горячо возразил, что людей, добивающихся каких-то несчастных трех или пяти миллионов, господа из Версаля примут за нищих и окончательно обнаглеют. В конце концов это не переговоры господ Франклина, Дина и Ли с графом Верженом, а переговоры великой державы Америки с великой державой Францией.
– Вздор, – горячился Сайлас Дин. – Если мы потребуем сейчас три миллиона, мы, может быть, получим миллион. Если же потребуем ваши четырнадцать миллионов, мы вообще ничего не получим, и нас высмеют.
– Мне следовало с самого начала помнить, – горько возразил Артур Ли, – что любое мое предложение будет непременно отклонено. – По мере того как он говорил, ярость его возрастала. – Меня оскорбляет такое обращение со мной. Без моего ведома посылают доклады в Конгресс. От меня добиваются утверждения денежных отчетов, не давая мне возможности их проверить. Если в Версале меня унижают, никто за меня не вступается. Но на этот раз я не позволю не считаться с собой. Я настаиваю на том, чтобы мы потребовали все четырнадцать миллионов.
– По-моему, коллега, это бесполезно, – очень спокойно сказал Франклин. – Но если вы настаиваете, я пойду с вами к Вержену.
Аудиенция, как Франклин и опасался, оказалась не из приятных. Всегда такой любезный и милый, министр сегодня отнюдь не был любезен, он встретил американцев раздраженно и агрессивно.
– Можете не вводить меня в курс ваших дел, господа, – сказал он. – Я знаю все и во всех подробностях. Благодаря английскому послу.
И так как делегаты опешили, он продолжал резким тоном, какого они никогда еще от него не слыхали:
– Скажу вам прямо, господа, что я поражен вашей беззаботностью. Сколько раз мы вас предупреждали, чтобы вы не посвящали в свои дела всех и каждого. Однако и в тех случаях, когда ваши и наши интересы заставляют, казалось бы, сохранять строжайшую тайну, вы действуете настолько открыто, что всякий, кому не лень, волен получить исчерпывающие сведения. Его величество крайне недоволен. Скажу вам откровенно, господа: я не понимаю, как вы ухитряетесь каждый раз ставить нас и себя в такое неловкое положение. Вы прямо-таки стараетесь выдать свои секреты англичанам. О ваших планах насчет «Роберта Морриса», стоящего на приколе в Роттердаме, я тоже слыхал, и опять-таки из английского источника.
Франклин удивленно поглядел на министра и на своих коллег.
– Что это за планы? – спросил он.
– Вот видите, – возмутился Вержен, обращаясь к Дину и Ли. – Англичане узнают о ваших намерениях раньше, чем ваш доктор Франклин. Эти господа, – с презрением, в котором была даже доля сочувствия, объяснил он доктору, – хотят принести в дар королю Франции американскую шхуну «Роберт Моррис», чтобы под другим названием беспрепятственно вывести ее из Роттердама.
– Неплохая идея, – признал Франклин.
– Но зачем же заранее трубить о ней на каждом углу? – возмутился министр.
– Мы допускаем промахи, господин министр, – мрачно сказал Артур Ли, – и признаем себя виновными. Но, пожалуйста, примите в соображение и другое: мы – люди порядочные и не привыкли действовать, как воры, исподтишка. А от нас ждут здесь именно этого.
Франклин поспешил вмешаться:
– Будьте уверены, ваше превосходительство, что впредь мы постараемся соблюдать максимальную осторожность.
– Будем вам очень признательны, – буркнул министр.
Франклин перешел к цели визита.
– Наши нужды известны вам, ваше превосходительство, – сказал он, слегка улыбнувшись, – и поэтому незачем подробно их объяснять.
Артур Ли, однако, счел подробное объяснение не лишним.
– Конгресс, – сказал он, – сейчас, как никогда, нуждается в помощи Франции. Не то чтобы мы не продержались без посторонней помощи. Но в нашей войне с Англией не было момента, когда такая помощь пришлась бы более кстати. Если мы получим помощь сейчас, это сохранит десятки тысяч жизней, это спасет наши города и деревни от пожаров и опустошения, это сбережет нашей стране миллионы фунтов.
Выполняя свое обещание, Франклин поддержал Ли и деловито заметил:
– Одна пушка, посланная нам Францией сегодня, стоит столько же, сколько пять пушек, посланные через год.
Вержен поиграл пером.
– Я был бы рад, месье, – ответил он, – щедро помочь вам, несмотря на напряженное состояние наших финансов. Но, к сожалению, своей неосмотрительностью вы вызвали крайнее недовольство короля. Сейчас я не могу и заикнуться при нем о деньгах для вас. Помогите мне, месье, умилостивить короля, ведите себя сдержанно и осторожно. Тогда, через некоторое время, мы, может быть, и сумеем выдать вам, правда, не четырнадцать миллионов, а всего только один. И то при условии строжайшей тайны.
По дороге домой Артур Ли на чем свет стоит ругал французов, чертовых лягушатников.
– Напряженное состояние финансов, – возмущался он. – А почему оно напряженное? Деспот в юбке, та, на кого вы возлагали столько надежд, доктор Франклин, тратит наши деньги на туалеты, замки и сластолюбивые развлечения, и где уж тут взять на Америку и на свободу!
– Я предупреждал вас, мистер Ли, – сказал Сайлас Дин, – что безумие требовать в нашем положении таких денег.
– Я не предвидел, – ехидно отвечал Артур Ли, – что ваши шпионы тотчас же продадут мой план Англии.
– Мои шпионы? – вспыхнул Сайлас Дин. – Кто обсуждал с банкиром Грандом спецификацию поставок в счет четырнадцати миллионов? Вы или я? Вы сами виноваты, это совершенно ясно. Своей суетливостью вы опять нанесли делу Америки огромный вред.
– На мосье Гранда можно положиться, – мрачно возразил Артур Ли. – А вот на вашего болтуна и хвастуна мосье Карона полагаться нельзя.
– Перестаньте, господа, – попросил Франклин. – После дурных известий из Лондона Вержен все равно не дал бы нам ни гроша, если бы даже до него не дошло ни звука о наших планах. Это же был просто предлог.
Остаток недолгого пути прошел в тягостном молчании.
На другой день с американской почтой Франклин получил официальное сообщение о происшедших событиях. Армия Конгресса потерпела поражение на реке Брэндивайн, Филадельфия пала, Конгресс переехал в Йорктаун. Хотя Франклин был уже подготовлен к таким известиям, это сообщение было для него жестоким ударом.
Это его город, Филадельфия, занят теперь врагами. В его чудесном доме на Маркет-стрит живут англичане. Какая досада, что Салли привезла на старое место его книги и картины, которые были уже вывезены. Теперь, наверно, его книгами и мебелью распоряжается какой-нибудь болван офицер в красном мундире, а всякие изобретенные им остроумные приспособления, делавшие его жилье более комфортабельным, конечно, давно уже испорчены этой публикой. И там же его портрет, написанный художником Бенджамином Вильсоном; может быть, это не бог весть какое произведение искусства, но он, Франклин, его любил, и неприятно было думать, что сейчас перед портретом сидит и скалит зубы какой-нибудь английский офицер.
Франклин почувствовал себя усталым и очень одиноким. Если бы рядом был хотя бы Дюбур. Но, увы, песенка Дюбура спета, верный, добрый Дюбур не может уже прийти, не может выйти из дома.
Франклину вдруг очень захотелось его увидеть. Он велел заложить лошадей, поехал в Париж.
Дюбур лежал в постели, на нескольких подушках, в ночном колпаке. Маленькие глазки на дряблом, осунувшемся лице приветливо засветились при виде Франклина.
– На следующей неделе, – заявил Дюбур, – я, конечно, смогу уже выбраться в Пасси.
Франклин стал пространно рассказывать, как ему трудно без друга – не только чисто по-человечески, но и в деловом отношении.
– Ну конечно, ну конечно, – отвечал Дюбур, – но, знаете, я не бездельничаю, даже когда вынужден ненадолго слечь. Я помню, чему нас учил bonhomme Ричард: «Ты не можешь быть уверен и в минуте, так не бросай же на ветер час». Что вы скажете о моей идее – подарить королю «Роберта Морриса»?
– Значит, это ваша идея? – сказал Франклин. – Мне следовало бы догадаться.
– Моя, – обрадовался Дюбур. – Но вам я нарочно ничего не говорил, дорогой доктор. Вы великий человек, но у вас нет вкуса к деталям. Не так-то просто было реализовать мой проект. Приходилось действовать окольными путями, ведь с господами Дином и Ли отношения у меня не блестящие.
Теперь Франклину стало ясно, почему англичане узнали об этом плане так скоро.
Франклин говорил о собственных заботах, о горе родной страны, о потере дома, о том, как он был привязан к своим книгам и многим другим вещам. Дюбур от души сочувствовал этому горю, он принял его так близко к сердцу, что в конце концов Франклину пришлось утешать больного друга.
– Хорошо, по крайней мере, – сказал Франклин, – что поражение не пошатнет нашей позиции в Версале; благодаря вашей счастливой идее мы имеем друга в лице королевы.
– Да, – отвечал Дюбур, – меня осенило вовремя, и это прекрасное утешение на ложе страданий.
Франклин рассказал ему также о свирепствующем повсюду шпионаже.
– Знаете, кто этому причиной? – загорячился Дюбур и обвиняюще поднял большую, бледную, дряблую руку.
– Все он же, все та же mouche au coche.
– Весьма возможно, – сказал Франклин.
И Дюбур жалел своего великого, доверчивого друга Франклина, а Франклин жалел своего доброго, честного, пылкого Дюбура.
В то время как по эту сторону океана все, кому было дорого дело Америки, сокрушались о падении Филадельфии и о поражениях у Джермантауна и на Брэндивайне, американские солдаты давно уже одержали победу, которая свела на нет это поражение и решительно перевесила чашу весов в пользу Соединенных Штатов. Победой этой повстанцы были обязаны в известной степени американскому генералу Гейтсу, в еще большей – американскому генералу Бенедикту Арнольду, но главным образом – оплошности пяти английских руководителей – короля Георга, военного министра лорда Джермейна и генералов Хау, Клинтона и Бергойна.
Тринадцатого декабря 1776 года у короля Георга – как явствует из его собственноручных записей, в пять часов три минуты пополудни – родился план американской кампании на 1777 год. Согласно этому плану, генералу Бергойну надлежало прорваться из Канады на юг, а генералу Хау выступить из Нью-Йорка и двигаться ему навстречу; обе армии должны были соединиться и отрезать Новую Англию от остальных колоний. Однако, торопясь на охоту, военный министр лорд Джермейн спрятал куда-то инструкции, предназначавшиеся для генерала Хау, а потом забыл их отправить. Вследствие этого генерал Хау не выступил навстречу генералу Бергойну, и когда последний, после весьма обременительных переходов и побед, продвинулся далеко на юг, он оказался один лицом к лицу с превосходящими силами американцев.
Джон Бергойн, страстный солдат, страстный драматург, страстный игрок и страстный поклонник красивых женщин, впервые проявил свои военные способности в Португалии; он похитил дочь лорда Дерби и женился на ней, написал пользовавшуюся большим успехом комедию «Девушка из селения Олдуорс Оке», выиграл и проиграл в карты целое состояние. Теперь он выступил из Канады с цветом британских и немецких войск, великолепно обученной армией, усиленной к тому же канадскими моряками, мощным контингентом военнообязанных рабочих и индейскими вспомогательными частями. Овладев Тикондерогой и фортом Эдвардом, он продвинулся по труднопроходимой местности далеко на юг, где предполагал соединиться со второй английской армией.
Вместо этого он встретил огромные превосходящие силы американцев и очутился в очень опасном положении. Связь с Канадой он потерял, а призывы о помощи, с которыми он обращался к генералам Хау и Клинтону, не давали никаких результатов; провианта у него оставалось максимум на четырнадцать дней.
Бергойн сделал попытку прорваться, но был отброшен с большими потерями генералом Арнольдом. Окопавшись на высотах Саратоги, он созвал военный совет. В тщательно подготовленной речи он обрисовал своим офицерам создавшееся положение и спросил их, известен ли им из военной истории случай, когда в подобной ситуации армия не капитулировала бы. В этот момент над столом, за которым шло совещание, со свистом пролетело орудийное ядро, и генерал Бергойн расчленил свой вопрос на два подвопроса. Во-первых, есть ли иной выход, кроме капитуляции? Нет, сказали офицеры. Во-вторых, отвечает ли такая капитуляция кодексу воинской чести? Офицеры сказали – да.
Затем Бергойн написал американскому генералу Гейтсу нижеследующее: «Дав вам два сражения, генерал-лейтенант Бергойн пребывал несколько дней в настоящей позиции и твердо намеревался не уклоняться и от третьей схватки. Он знает, что перевес на вашей стороне, что ваши войска в состоянии блокировать его снабжение и превратить его отступление в кровавое для обеих сторон побоище. Движимый гуманными побуждениями, он предлагает сохранить жизнь храбрецам, – разумеется, на почетных условиях; он считает, что священные принципы морали и истории оправдывают это предложение. Если идеи генерал-лейтенанта Бергойна найдут понимание у генерал-майора Гейтса, то пусть последний сообщит свои условия».
Английский парламентер, майор Кингстон, встретил американского капитана Уилкинсона на условленном месте. Оба офицера поскакали в ставку генерала Гейтса; по пути они беседовали о пригудзонском пейзаже, особенно чудесном в эту мягкую, осеннюю пору.
Прочитав письмо противника, Гейтс сформулировал свои условия в семи пунктах, два из которых рыцарственный генерал Бергойн нашел совершенно нерыцарственными. Первый нерыцарственный пункт гласил: «Армия генерала Бергойна понесла большие людские потери в результате многократных поражений, а также из-за дезертирства и болезней; боеприпасы ее на исходе, продовольствие и снаряжение захвачены или уничтожены, а пути к отступлению отрезаны. При таких обстоятельствах единственной формой капитуляции солдат генерала Бергойна может быть сдача в плен». Второй нерыцарственный пункт гласил: «Покидая лагерь, войска его превосходительства генерала Бергойна должны сложить оружие». Бергойн комментировал: «Этот пункт совершенно неприемлем. Армия генерала Бергойна скорее пойдет в бой не на жизнь, а на смерть, чем капитулирует, сложив оружие».
В конце концов стороны сошлись на тринадцати пунктах, весьма почетных. Был подписан акт о капитуляции, названный по настоянию Бергойна «конвенцией». 17 октября, в десять часов утра, английские войска, в соответствии с договором – вооруженные, с барабанным боем и под звуки фанфар покинули свои укрепления. Бергойн, в блестящем мундире и шляпе с пером, и Гейтс, в простом синем сюртуке, встретились у входа в палатку Гейтса. Капитан Уилкинсон, адъютант Гейтса, представил генералов друг другу. Бергойн снял свою красивую шляпу и сказал:
– Военная фортуна, генерал Гейтс, сделала меня вашим пленником.
Гейтс отвечал:
– Я готов засвидетельствовать всем и каждому, что виновны в этом не вы, ваше превосходительство.
В этот же день Гейтс писал жене: «Глас молвы, наверное, еще раньше, чем эти строки, донесет до тебя весть о счастье, выпавшем на мою долю. Генерал-майор Филиппе, тот, который в прошлом году оскорбил меня дерзким письмом, теперь мой пленник, равно как лорд Питерсгэм, майор Экленд и его супруга, дочь лорда Илчестера. Если этот урок не образумит старую Англию, значит, эта сумасшедшая старая шлюха обречена на гибель». В постскриптуме он выразил надежду, что миссис Гейтс выбрала наконец рюш для передника.
Со своим пленником Бергойном генерал Гейтс обошелся очень великодушно. Несмотря на примитивность местных условий, победоносный полководец устроил банкет в честь побежденного полководца и его штаба. Были поданы ветчина, гусь, жареная говядина, жареная баранина, а также ром и яблочное вино. Стаканов, правда, нашлось только два – один для победившего, другой – для побежденного генерала. Гейтс предложил тост за здоровье его величества британского короля, рыцарственный генерал Бергойн – за здоровье генерала Вашингтона. Затем, по обычаю, был провозглашен непристойный тост, снискавший всеобщее одобрение.