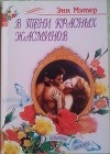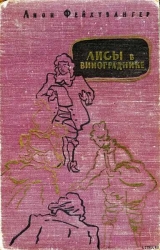
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 57 страниц)
– Простите, мосье, – возразил Жерар, – я полагаю, что король Франции сделал вполне достаточно, заявив о своей готовности защищать суверенитет Соединенных Штатов собственной армией и собственным флотом. Могу вас заверить, что король не имел в виду поставить под сомнение суверенитет Америки с помощью пункта о патоке.
Франклин с величайшим самообладанием сказал:
– Это моя вина, мосье Жерар. Мне следовало предоставить мистеру Ли возможность предварительно обсудить с нами его поправку. Тогда поправка, по-видимому, отпала бы.
– Вы ошибаетесь, доктор Франклин, – упорствовал мистер Ли. – Но как бы то ни было, – продолжал он, – я никогда не подпишу договоров в настоящем виде. Теперешняя формулировка пункта о патоке – я говорю от имени Конгресса Соединенных Штатов – совершенно неприемлема.
Мосье Жерар поглядел на Франклина взглядом, полным сочувствия и уважения. Он совсем не хотел, чтобы пакт, стоивший стольких трудов, терпения и хитрости, пошел прахом из-за этого вздорного неврастеника, которого политически недальновидный Конгресс впряг в одну упряжку с достопочтенным доктором Франклином.
– Я нашел выход, – заявил он. – Вы опасаетесь, – обратился он к Артуру Ли, – что в Конгрессе вызовет раздражение пункт о патоке?
– Несомненно, мосье, – запальчиво ответил Артур Ли.
– Удовлетворитесь ли вы, – спросил мосье Жерар, – если в дополнение к договору будет составлено письмо, где я от имени графа Вержена сообщу вам, что в случае, если Конгресс не утвердит пункт о патоке, остальные пункты вступают в силу?
– Стало быть, – спросил Артур Ли, – в этом случае вы согласны заключить о патоке особый договор?
– Да, мы согласны, – отвечал мосье Жерар.
– Вы берете это на свою ответственность? – допытывался Артур Ли.
– Беру, – ответил Жерар.
– И вы оговорите в своем письме, – спросил Артур Ли, – что оно является неотъемлемой частью договоров?
– Оговорю, – сказал Жерар.
– Правильно ли я вас понял, мосье? – резюмировал Артур Ли. – Даже если Конгресс, как я опасаюсь, откажется компенсировать отмену пошлин на патоку отменой пошлин на все наши товары, это не повлияет на остальные пункты торгового договора, не говоря уже об оборонительно-наступательном пакте, который, следовательно, несмотря на недействительность статей двенадцатой и тринадцатой торгового договора, то есть статей о патоке, целиком сохранит свою силу, – вы это имеете в виду, мосье?
– Именно это, мосье, – ответил Жерар и с чуть заметным нетерпением прибавил: – Согласовано, одобрено, принято.
– Это меня устраивает, – сказал Артур Ли, опуская руки.
– Значит, и с этим крючком покончено, – сказал Франклин.
Мосье Жерар еще раз обещал известить эмиссаров, когда документы будут готовы, и попросил их не назначать никаких дел на послезавтра. Затем он откланялся.
– Теперь вы видите, господа, – сказал Артур Ли, – что, имея немного терпения и выдержки, можно преодолеть и величайшие трудности.
Два дня спустя, 5 февраля, Франклин достал свой тяжелый синий вельветовый кафтан. Этот же кафтан был на нем четыре года назад, на заседании Тайного государственного совета, когда королевский прокурор Уэддерберн осыпал его оскорблениями и никто из тридцати пяти членов совета не сказал ни слова в его защиту.
В этом кафтане, сопровождаемый Вильямом, он поехал в Париж, прежде всего – за Дюбуром. Вчера он посылал Вильяма узнать, сможет ли больной подняться и съездить в министерство. Врач сделал озабоченное лицо, но Дюбур властно настоял на своем. Теперь он сидел ужасающе изможденный, его окружали врач, санитар и слуги, но хилое его тело было облачено в парадные одежды.
Торжественный вид Франклина его взволновал; Франклин стал отвечать на его расспросы.
– Нужно уметь, – рассуждал он с удовольствием, – выбирать кафтан сообразно событию и обстановке. Этому я научился от Карла Великого. Отправившись в Рим на коронацию, он превратился из варвара-франка в римского патриция. – Затем Франклин поведал историю своего синего кафтана и, ласково поглаживая плотный бархат, сказал: – Вы видите, мой друг, я был в долгу перед этим кафтаном.
Дюбур заулыбался, изо всех сил закивал головой, и у него начался приступ кашля, очень его ослабивший.
Врач еще раз предупредил, что ему нельзя выезжать в такую холодную погоду. Дюбур только сердито отмахнулся и приготовился выйти из дому.
В это время, запыхавшись, влетел курьер мосье де Жерара. Курьер уже побывал в Пасси и примчался оттуда. Мосье Жерар велел передать Франклину, что подписание договоров откладывается на следующий день, – о причинах доктор узнает из доставленного курьером письма. Разочарованного Дюбура пришлось раздеть и уложить в постель, и Франклин обещал заехать за ним на следующий день. Однако всем было ясно, что после такого переутомления Дюбур на следующий день уже не сможет подняться и сопровождать Франклина.
Что же касается отсрочки, то она была вызвана вот чем. Мосье Пейассон изготовил оба документа в двух экземплярах, использовав обычно применяемый для государственных договоров благородный пергамент и написав тексты с той тщательностью, за которую и ценили великого каллиграфа. Однако, внимательно прочитав документы, Луи нашел, что на странице третьей, строке семнадцатой договора о торговле и дружбе точка вполне может быть принята за запятую. Луи потребовал, чтобы эту страницу еще раз переписали, а затем представили ему документы снова. Он выиграл таким образом один день, надеясь, что за этот день случится какое-нибудь событие, которое избавит его от окончательного подписания пакта.
Но ничего такого не случилось. Мосье Пейассон терпеливо переписал страницу, и теперь самый придирчивый глаз не увидел бы в точке на строке семнадцатой ничего, кроме точки. И не менее терпеливо, с обоими документами и доверенностью в руках, еще раз явился к Луи мосье де Вержен. Луи вздохнул, сказал:
– Ну, хорошо, ну, ладно, – и подписался.
И Вержен поспешно передал Жерару тексты договоров и доверенность, уполномочивавшую мосье Жерара от имени короля и министра иностранных дел подписать и скрепить печатью государственные договоры 1778/32 и 1778/33.
Шестого февраля, ровно в пять часов пополудни, три эмиссара, сопровождаемые Вильямом Темплем, прибыли в Отель-Лотрек, в кабинет мосье Жерара. На докторе Франклине был и сегодня синий кафтан; доктор Дюбур, однако, не смог присутствовать на церемонии.
Договоры были разложены на столе, рядом с ними лежала печать короля. За вторым, меньшим столом сидел и ждал секретарь мосье де Жерара.
– Ну, вот, доктор Франклин, – сказал мосье Жерар, находившийся, казалось, в очень хорошем настроении, – наконец-то мы дождались этого дня. Если вы не возражаете, давайте сразу и приступим к делу.
Артур Ли остановил его резким движением. Он поглядел на Франклина и, так как тот промолчал, сказал:
– Я полагаю, что нам следовало бы предварительно обменяться доверенностями, полномочиями и верительными грамотами.
– Есть ли у нас верительные грамоты? – вполголоса спросил Франклин, и Вильям Темпль принялся рыться в бумагах.
Мосье Жерар весьма холодно сказал своему секретарю:
– Покажите этому господину мои полномочия, Пешер.
Артур Ли внимательно прочитал доверенность Жерара, после чего передал ему свои удостоверения.
– Спасибо, – не взглянув на них, сказал Жерар.
Артур Ли весьма строго заявил:
– Позволю себе заметить, господин статс-секретарь, что я обладаю полномочиями двоякого рода. Я присутствую здесь не только в качестве полномочного посла Конгресса при версальском дворе, но и в качестве полномочного посла при дворе Мадрида. Считаете ли вы, мосье, что мне следует, подписав договоры в целом, поставить также свою подпись под тайным пунктом о непременном присоединении к союзу Испании или правильнее будет удовлетвориться подписью под договорами, придав ей таким образом двоякий характер?
– Придайте ей двоякий характер, – любезно посоветовал Франклин.
– Да, так и поступите, – согласился мосье Жерар.
– Стало быть, этот вопрос улажен, – сказал Артур Ли. – Но теперь возникает еще одно затруднение – как наилучшим образом перевести на французский язык мое звание «советник юстиции высшего ранга». Я полагаю, что простое «conseiller des droits» наиболее близко к английскому значению.
– Позвольте заверить вас, мосье, – отвечал Жерар, – что как бы вы ни подписались, его христианнейшее величество не станет оспаривать нашего договора.
– Благодарю вас, – сказал Артур Ли. – Остается, стало быть, покончить с последним процедурным вопросом. Прошу вас предъявить письмо, являющееся, согласно нашей договоренности, неотъемлемой частью договоров. Я имею в виду письмо относительно обеспечения полной взаимности при отмене пошлин на патоку и другие товары.
– Пожалуйста, предъявите письмо, Пешер, – сказал мосье Жерар.
Покамест Артур Ли изучал письмо, мосье Жерар заявил двум другим эмиссарам:
– По поручению графа Вержена я еще раз вынужден убедительно попросить господ не говорить ни слова о заключении пакта, пока он не будет ратифицирован Конгрессом. Благодаря этому мы отсрочим войну на несколько недель, которые нам крайне необходимы, чтобы завершить перевооружение. Смею еще раз напомнить, что ваше обещание молчать было предварительным условием договора. Граф Вержен не требует никаких письменных обязательств. Ему достаточно вашего слова, доктор Франклин.
Франклин сделал легкий поклон. Артур Ли, ничего не сказав, подошел к камину и скрестил на груди руки.
– Итак, если вы ничего не имеете против, месье, – сказал мосье Жерар, – давайте подпишемся.
Стол, на котором лежали документы, был не очень велик. Мосье Жерар сел в небольшое кресло с узкой стороны стола. Доктор Франклин встал напротив него, опершись обеими руками о стол, Артур Ли стоял у камина, Саплас Дин – рядом с ним. Вильям Темпль скромно держался вблизи секретаря Пешера. Пешер расплавил сургуч. Мосье Жерар приложил печать и подписал первый экземпляр.
Франклин взглянул на часы, стоявшие у стены на консоли. Они показывали 5 часов 22 минуты.
Он стоял у края стола, упираясь в него большими, слегка растопыренными красноватыми пальцами, волосы его, рассыпавшись, падали на дорогой синий кафтан. Он глядел на руку мосье де Жерара, белую, холеную руку, глядел, как она четыре раза ставила печать и четыре раза расписывалась. Этой, именно этой минуты он так долго ждал, 6 февраля, 5:22. На улице шел снег вперемежку с дождем, а здесь уютно горел огонь в камине, светили свечи, секретарь Пешер расплавлял сургуч, мосье Жерар прикладывал печать и подписывался. Ради этой минуты он, Франклин, проделал трудное путешествие через океан, ради этой минуты он четырнадцать месяцев кряду разыгрывал комедию, изображая обывателя-философа с дикого Запада, не расстающегося с шубой и коричневым кафтаном, ради нее отвечал на тысячи нелепых вопросов и вел в Женвилье хитрую, глупую беседу с красивой и глупой женщиной в синей маске. И вот сейчас, значит, подпишется этот человек, а потом подпишется он, Франклин, а потом множество французских кораблей со множеством пушек и множеством людей выйдет в открытое море, и множество французов умрет, чтобы Англия признала независимость Америки. Король, по поручению которого этот элегантный француз подписывает сейчас договоры, но больно умен, но он понял, что очень опасно заключать пакт с молодой республикой – врагом всякой деспотической власти. И он, этот молодой, жирный Луи, руками и ногами отбивался от договора, он не желал признать независимость Тринадцати Штатов, жители которых были в его глазах мятежниками, он говорил «нет», «нет» и «нет». Он был абсолютным монархом, королем Франции, не отвечающим ни перед каким парламентом, он мог сделать все, что захочет. И все-таки он явно не смог сделать того, что хотел, он должен был сделать то, чего не хотел. Так называемая мировая история оказалась сильнее его, и ему пришлось ей подчиниться. Значит, в мировой истории есть смысл, заставляющий людей, хотят они того или не хотят, двигаться в определенном направлении. И старый доктор смотрел, как расписывается, как ставит печать белая рука мосье Жерара, и был очень, очень счастлив. И при всем этом счастье он знал, что глупо думать, будто человек творит историю, знал, что каждому назначена его роль и что в конечном счете большой человек делает то же самое, что и маленький, только, может быть, быстрее или медленнее, и человек, действующий по доброй воле, – то же самое, что и действующий по принуждению.
Мосье Жерар закончил свою работу. Он вежливо сказал:
– Пожалуйста, доктор Франклин, – и указал на внушительное кресло у широкой стороны стола.
Однако Франклин сел в маленькое кресло, где только что сидел мосье Жерар. Мосье Пешер растопил сургуч. Но тут подбежал молодой Вильям Темпль, ему страстно хотелось помочь при подписании, иначе зачем ему было вообще приезжать? Франклин приложил печать и подписался. Подписался он старательно: «В. Франклин», причем «В» искусно переходило в «Ф». Подпись он украсил множеством завитушек, а к сургучу приложил перстень. Это была затейливая печать – с колосьями, двумя львами, двумя птицами и каким-то сказочным зверем. Напротив него стоял и смотрел мосье де Жерар, у камина стояли и смотрели господа Сайлас Дин и Артур Ли.
Затем пришла очередь Сайласа Дина. С довольным видом он торопливо прошел к столу и опустился в кресло. Молодой Темпль предупредительно встал возле него, растопил сургуч, подал ему перо. Сайлас Дин сказал: «Спасибо», – и от души повторил это слово несколько раз. Поставив печать, он написал рядом с ней ясными, жирными буквами: «Сайлас Дин», – и влюбленным, счастливым взглядом окинул документ и свою подпись. В последнее время у него было много неприятностей, но все искупала сладость долгожданной минуты. Этот злодей, мрачно следящий сейчас за каждым его движением, травил его, как дюжина чертей, он обливал его ядом клеветы. Но как тот ни старался, он, Сайлас Дин, все-таки сидит здесь в качестве партнера христианнейшего короля и ставит свою печать и свою подпись под важнейшим договором своей страны и своего века. И он поставил печать и поставил подпись, и вот каждый мог прочесть: «Сайлас Дин».
Наконец размеренным шагом к столу направился Артур Ли. С угрюмым, решительным видом он сел, напряженно выпрямив спину. Вильям Темпль хотел ему помочь, но Ли строго сказал:
– Спасибо, господин Франклин, я справлюсь сам.
Прошло немало времени, пока он поставил на четырех экземплярах свою печать, свое имя, свое звание и отразил двоякую роль, в которой он выступает. Он трудился основательно, французы – скользкие союзники, он им совершенно не доверял и хотел сделать, по крайней мере, все от него зависевшее, чтобы отрезать им путь к уверткам. Его коллеги, вместо того чтобы наблюдать, как полагалось бы, за процедурой подписания, болтают с французом, и, кажется, единственный, кто проявляет интерес к его деятельности, это хвастун и оболтус Вильям. Остальные не только не глядят на него, но даже мешают ему своей праздной, приглушенной болтовней. Против воли он прислушался к их разговору.
– Вы прошли долгий путь, доктор Франклин, – говорил мосье Жерар, – трудный путь прошли вы и ваши американцы, и я рад, что вы достигли цели и что этот документ наконец подписан.
Франклин отвечал:
– Не я добился этого документа, а победа при Саратоге.
Подписываясь «conseiller des droits», Артур Ли закусил губу из презрения к такой фальшивой скромности. Между тем мосье Жерар продолжал:
– Нет, нет, доктор Франклин, если бы не ваша мудрая сдержанность, если бы не необычный такт, с которым вы провели разговор с королевой, нам никогда не удалось бы побудить нашего монарха санкционировать этот пакт.
Артур Ли поставил черточку поперек «t» особенно твердо и резко. Вечно эти французы связывают Америку с именем Франклина. Можно подумать, что этот старый распутник олицетворяет собой республику. Если уж кто-нибудь из американцев и может говорить от имени республики, то, конечно, только Ричард Генри, его брат Ричард Генри Ли, предложивший принять Декларацию независимости. Даже эту счастливую минуту, когда он, Артур Ли подписывает необходимый его стране договор, доктор honoris causa отравляет ему своей самонадеянностью, а французы – своими ошибочными суждениями.
Договоры были подписаны. Все молча глядели, как мосье Пешер обстоятельно и сосредоточенно прикладывает к документам большую королевскую печать.
Жерар вручил Франклину оба текста, предназначавшиеся Конгрессу. Франклин небрежно передал их Вильяму Темплю. Артур Ли предпочел бы, чтобы эти безмерно ценные грамоты дали на хранение ему самому, но ничего нельзя было поделать, пришлось доверить их легкомысленному мальчишке.
– Письмо, – напомнил он хриплым голосом. И так как остальные непонимающе на него поглядели, он пояснил: – Письмо относительно статей двенадцатой и тринадцатой.
Если бы он не напомнил, они, наверно, забыли бы о важнейшем письме.
Затем эмиссары простились с мосье Жераром.
В коридорах Отель-Лотрек было многолюдно; но, едва американцы вышли из кабинета мосье Жерара, Сайлас Дин, не боясь обратить на себя внимание, пожал руку Франклину и долго ее не выпускал.
– Великий день, всемирно-исторический день, – сказал он. – Благодарю вас, доктор Франклин, вся Америка бесконечно вам обязана.
Он был заметно взволнован, в глазах его стояли слезы. Такая фальшивая сентиментальность вызвала отвращение у Артура Ли, и тот почувствовал себя не в силах оставаться долее со своими коллегами. Он отклонил предложение Франклина воспользоваться его каретой и пошел пешком.
Прежде всего Франклин отвез домой Сайласа Дина. Потом, однако, он поехал не в Пасси, а к доктору Дюбуру. Он взял у Вильяма договоры и велел внуку его подождать.
Со вчерашнего дня Дюбур потрясающе изменился. Напряжение и возбуждение явно отняли у него последние силы. Он почти уже не мог говорить, и ему стоило большого труда повернуть к другу голову и поглядеть на него потускневшими глазами.
Франклин тихо подошел к постели.
– Мы довели дело до конца, старина, – сказал он, подавая документы больному.
Дюбур потянулся к ним восковой, волосатой рукой, но не смог удержать листков, и они упали на одеяло. Франклин поднес договор о союзе к самым его глазам. Дюбур дотронулся до него рукой – читать он уж не мог – и ощупал большую королевскую печать.
Франклину пришлось говорить одному. Он стал хвалить друга; этот благословенный союз – заслуга прежде всего Дюбура. Он говорил тихо, очень отчетливо, почти на ухо больному, и чтобы тот лучше понял – по-французски.
– Говорите по-английски, – с большим трудом промолвил Дюбур.
Затем, видя, что его посещение поглощает последние силы больного, Франклин взял договоры, чтобы спрятать их и уйти, дав другу спокойно уснуть. Однако Дюбур нетерпеливым жестом его задержал. Он еще раз ощупал договоры.
– Quod felix faustumque sit – в добрый час, – сказал он с потрясающей проникновенностью.
Он и потом не отпустил Франклина. Ему явно хотелось еще что-то сказать. «Eulogium Linnaei», – пробормотал он. Франклин понял. Дюбур, любимым занятием которого издавна была ботаника, рассказывал уже Франклину, что работает над статьей о недавно умершем Линнее, крупнейшем ботанике своего времени.
– Взять мне статью? Перевести ее? – спросил Франклин.
Дюбур с трудом кивнул головой.
– С удовольствием, – сказал Франклин.
Дюбур много и усердно трудился над переводом его сочинении, и Франклина порадовала возможность отблагодарить друга.
– Как только вам станет лучше, – сказал он, – вы мне дадите статью. Мы обсудим каждое слово и вместе ее переведем.
Он знал, что этого не будет, но он решил во что бы то ни стало опубликовать статью по-английски.
Однако доктор Дюбур интуитивно понимал, что видит Франклина в последний раз, и хотел умереть спокойно. Он снова жестами задержал Франклина, и тому, вместе со слугой и санитаром, пришлось заняться поисками статьи. Только увидев «Eulogium» в руках Франклина, Дюбур успокоился.
Франклин полистал рукопись.
– Написано очень четко, – заявил он и пообещал: – «Eulogium» я напечатаю сам, по-английски и по-французски.
Лицо Дюбура посветлело. Франклин знал, что никогда больше не увидит этого желтого, заострившегося лица.
В синем, стеганом кафтане, с двумя договорами и похвальным словом Линнею, Франклин поехал домой, в Пасси.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
«НАГРАДА»

1. Вольтер

В тот же день, когда было подписано соглашение, очень старый, маленький, необыкновенно безобразный человек отправлялся в дальний путь из местечка Ферне, расположенного у швейцарской границы. Большой старомодный экипаж, ожидавший у ворот дома, похожего на замок, окружила челядь. Старик, поддерживаемый справа и слева, с трудом влез в карету. Провожающие, казалось, были растроганы. Высунувшись из окна, он просил их не беспокоиться. Можно подумать, что они прощаются с ним навеки, путешествие продлится недолго, самое большее – полтора месяца. Он бросил работу на полуслове, все его бумаги остались на столе; он примется за них, как только вернется. И лошади тронули.
Но не успел экипаж доехать до деревенской площади, как его остановили. Почти все шли попрощаться с путешественником. Селение Ферне, когда здесь обосновался и построил свой замок старик, было маленькой грязной деревушкой. Вскоре по приглашению старика из близлежащего города Женевы в Ферне начало стекаться все больше и больше народа, которым до смерти надоели пуританские строгости и преследования со стороны кальвинистского[83]83
Кальвинизм – наиболее суровая и нетерпимая из протестантских церквей, основанная в Женеве Жаном Кальвином (1509–1564).
[Закрыть] духовенства. Старик всем давал кров и работу. Он создал у себя многочисленные ремесла. Здесь изготовляли часы, кружева и другие текстильные товары, и Ферне стало теперь большой процветающей деревней, одной из самых зажиточных деревень Франции.
Старик – его звали Франсуа Аруэ, мир знал его под именем Вольтера – ехал в Париж. «Театр Франсе» готовил к постановке его последнюю пьесу, трагедию «Ирэн», и он хотел сам руководить репетициями.
Давно не видел он своего родного города, двадцать семь лет прошло с тех пор, как он покинул Париж. Въезд в столицу не был ому категорически воспрещен, однако прежний король, Людовик Пятнадцатый, заявил, что не желает видеть в своем городе этого человека. Но пот уже несколько лет, как страной правит новый король, Людовик Шестнадцатый, а Туанетта и Сиреневая лига восхищаются стариком.
И все же он долго не решался отправиться в путь. Верный друг и секретарь, Ваньер, сопровождавший его сейчас, всячески удерживал Вольтера от этой поездки. В свои восемьдесят три года старик преспокойно жил и работал в своем Ферне. Чего он ждет от Парижа? Все, что мог предложить Париж, ему доставляли в Ферне. Все, кого он хотел видеть, шли к нему сами. Ему непрерывно, и в беседах и в письмах, сообщали не только обо всех парижских событиях, но и о том, что за ними кроется. Сидя в своем Ферне, он имел возможность судить о французских и мировых делах лучше, чем министры в Версале. Во имя чего, собственно говоря, менять старику покойную жизнь в своем поместье на суетное, беспокойное существование в Париже?
Вольтер признавал правоту друга. Да и врачи опасались за его здоровье. Но мадам Дени, племянница и поверенная его тайн, доказывала ему, что он все-таки скучает по Парижу, что он давно мечтает сам поставить на столичном театре одну из своих пьес и не должен упускать такой прекрасной возможности. Другой домочадец, муж приемной дочери Вольтера – маркиз де Вийет, прожужжал ему уши сходными аргументами. Вольтер охотно слушал его. Однако он не оставался глух и к доводам Ваньера. Так пребывал он в нерешительности, и если в ночной тиши он решал не делать глупостей и не покидать своего прекрасного Ферне, то поутру говорил себе, что не может доверить трагедию «Ирэн», дорогую его сердцу, актерам, помышляющим лишь о собственной славе, а не об успехе его пьесы.
Своему верному Ваньеру старик сказал, что главная цель его поездки в Париж – добиться примирения с Версалем и тем способствовать дальнейшей публикации своих произведений. С большим волнением говорил он Ваньеру о своей жгучей тоске по Парижу. Больше четверти века провел он в глуши. Пусть в многолюдной глуши, но все-таки в глуши, и перед смертью он хотел еще раз услышать шум, увидеть пеструю суету родного города. Он знал Париж, у него была память и воображение, и он понимал: Париж его мечты прекраснее, живее, ярче настоящего Парижа. И все же его тянуло увидеть, услышать, ощутить этот настоящий Париж.
Но Ваньер изучил своего господина, он знал его величие и его слабости и понимал, что истинная причина этой опрометчивой поездки – не тоска Вольтера, а вольтеровское тщеславие.
Старик презирал тщеславие. Он был пресыщен славой. Ферне было духовным центром мира, из своей усадьбы Вольтер управлял республикой умов неограниченней, чем какой-либо абсолютный монарх своими подданными. Любой человек в Европе, претендовавший на духовную значимость, искал Вольтера, писал ему, интересовался его суждениями, просил у него совета. Так поступали и два великих государя: Фридрих, король Прусский, и русская царица Екатерина. Они признавали Вольтера равноправной державой. Старик смеялся над своей славой, над всем этим трезвоном. Вольтер знал, – и весь мир беспрестанно твердил ему – что он воздвиг себе памятник долговечнее бронзы, что ценность его творений давно не зависит от признания или непризнания современников, что они подлежат суду грядущих поколений, суду истории. И все-таки старика влекло насладиться славой сегодня. Он хотел сам ощутить ее, вдохнуть полной грудью, хотел внимать шуму своего успеха. Он жаждал насладиться почестями в городе, который некогда изгнал его. Ему хотелось еще раз услышать признание своих заслуг, громкое, публичное, в городе, где он родился.
Вот почему этот великий старец, вопреки советам преданнейшего друга, врачей, вопреки собственному разуму, ехал из мирного, удобного поместья сквозь зимнюю Францию в шумный и утомительный Париж.
Он имел много титулов. Он был графом де Турне, сеньором де Ферне, камергером короля, но главное – он был Вольтером. Однако во время этой поездки он не пользовался ни одним из своих почетных званий; в дороге и в первые дни пребывания в Париже он пожелал оставаться инкогнито.
Он не подумал о том, что лицо его знакомо каждому, как голова короля на монетах. Где бы он ни появлялся, всюду его осыпали почестями. Обычно столь высокомерные почтмейстеры старались без промедления предоставить ему самых быстрых лошадей. Стоило старику остановиться, как весть о его прибытии с быстротой ветра облетала все селение, и народ сбегался, чтобы взглянуть на него хоть одним глазком. Он не мог сесть перекусить, чтобы комната не наполнилась людьми. В Дижоне, в гостинице «Круа д'Ор», где Вольтер остановился на ночь, он обратил внимание на то, как неумело ему прислуживают, потом выяснилось, что слуги – сыновья состоятельных горожан, которые переоделись лакеями, чтобы побыть вблизи него.
В Море, близ Парижа, его встретил маркиз де Вийет. Этот молодой человек много лет слывший одним из самых оголтелых парижских ветрогонов, приехал в свое время в Ферне, чтобы согласно требованию моды засвидетельствовать почтение величайшему писателю эпохи. Маркиз уже раньше не раз намекал своим друзьям, что Вольтер был очень близок с его матерью, и если он, де Вийет, чувствует такую глубокую симпатию к старику, то это объясняется вполне понятными причинами. Вольтер хорошо принял молодого маркиза, и тот остался у него в Ферне. Впрочем, у де Вийета была причина не показываться некоторое время в Париже. Там некая танцовщица дала ему публичную пощечину.
Среди обитателей Ферне была в ту пору молодая Рейн де Варикур, хорошенькая, безыскусственная, удивительно благонравная девушка. Вольтер спас ее от монастыря, он называл ее всегда «добрая и прекрасная» и обращался с ней как с дочерью. Вольтеру казалось, что ему удалось наставить молодого ветрогона на путь разума. Маркиз явно нравился девушке. Вольтер любил устраивать браки, он поженил их. Так Вольтер, который, возможно, был отцом маркиза, теперь стал официально чем-то вроде его тестя.
Молодой человек сделал все, чтобы побудить Вольтера отправиться в Париж; долгое пребывание в Ферне маркизу наскучило. Он поехал в Париж с «доброй и прекрасной» и с племянницей Вольтера – мадам Дени – и приготовил старику великолепный прием в своем доме; и вот наконец он принимал Вольтера в Море, ему очень хотелось показать друзьям свою близость к знаменитейшему человеку эпохи.
У городского шлагбаума Вольтера спросили, не везет ли он чего-нибудь запретного. Вольтер ухмыльнулся:
– Если только самого себя.
Чиновник взглянул на него и воскликнул:
– Бог мой, да это же господин Вольтер!
Сбежалась толпа. Маркиз де Вийет был горд и доволен.
Дом маркиза был расположен в аристократическом квартале, на самом углу набережной Театен и улицы Бон. Невероятно толстая мадам Дени уже с порога осыпала Вольтера приветствиями. «Добрая и прекрасная» отвела Вольтера в его комнаты, темные и далеко не такие уютные, как в Ферне; дом был старомодным.
Вольтер разделся с помощью камердинера, облачился в свой неизменный халат, сунул ноги в шлепанцы, покрыл лысую голову любимым ночным колпаком. Он обещал «доброй и прекрасной», что отдохнет с дороги. Это ему не удалось. В голову пришли новые, лучшие варианты к трагедии «Ирэн». Он принялся диктовать Ваньеру.
Диктовал он недолго. Хотя все решили первые два дня предоставить Вольтеру покой, но Вийет по секрету сообщил доброму десятку друзей, кто приедет к нему в пятницу, 10 февраля. И посетители не замедлили явиться. Одним из первых прибыл герцог Ришелье, дряхлый светский лев, который шестьдесят восемь лет тому назад открыл Вольтеру мир парижских наслаждений. Оба давно не видели друг друга. Оба нашли, что не изменились, что и тридцать лет назад они выглядели точно так же.
Гости все прибывали и прибывали, это был непрерывный поток старых знакомых. Вот об этом и мечтал Вольтер, – люди, люди. Он принимал их в халате, в колпаке с кисточкой и в шлепанцах. У него была великолепная память, он помнил в лицо каждого, даже если не видел его многие годы, и для каждого находил теплое и умное слово.
Среди гостей был и мосье де Бомарше.
Весть о прибытии Вольтера взволновала его. Непочтительный Пьер восторженно благоговел перед этим старым человеком. Старик прожил свои восемьдесят три года так, как хотелось бы прожить свою жизнь ему, Пьеру. Дни Вольтера были наполнены страстями, большой литературой, мелкими интригами, славой, успехом, театром, деньгами и победоносной борьбой за торжество свободы и разума. Теперь он жил, подобно властелину, в окружении своих подданных. Императрица и сам великий король относились к нему как к равному, и слава его гремела на весь мир. Его победы в борьбе с несправедливостью и с привилегированной глупостью стали историей. Этот старец мог сказать себе: если мир теперь, когда он собирается его покинуть, стал чуть-чуть умней и справедливей, чем в те времена, когда он в него пришел, то в этом есть и его заслуга. Лестно было, что такой человек уже давно ценил и уважал Пьера, как равного. Вольтер поставил в своем Ферне «Цирюльника» и написал Пьеру чрезвычайно любезное письмо о его «Мемуарах». И сейчас старик тоже отличил его среди прочих. Пройдя сквозь толпу почтительно расступившихся гостей, Вольтер приблизился к Пьеру и со словами: «Мой милейший друг и коллега», – обнял его. Пьер бережно и почтительно проводил старика к его ложу.