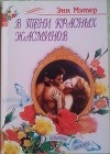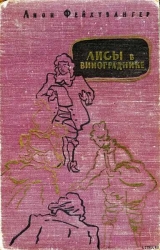
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 57 страниц)
Круглые, печальные, глубоко посаженные глаза Ленормана затуманились еще более.
– Я знаю, что мои действия толкуют превратно, – сказал он и еле слышно добавил: – Это уже не раз случалось в решающих ситуациях.
Последние его слова и тон, которым они были сказаны, тронули Дезире. Она чувствовала, что он говорит правду, что память о Жанне до сих пор не дает ему покоя, что тут-то и кроется причина его раздвоенности. Но именно поэтому она сказала:
– Если я для вас что-то значу, – а я думаю, что я вам действительно нужна, – то у вас есть все основания сравнить данную ситуацию с некоей другой. Дело в том, что вы меня видите здесь в последний раз.
Мосье Ленорман не сомневался, что Дезире не шутит. Она стояла перед ним, дерзкая, молодая, исполненная сознания своего превосходства, она знала, что он у нее в руках. Его снедала мстительность и злость, ему хотелось растоптать этого маленького, красивого, наглого зверька. Но одновременно у него заныла старая рана, он вспомнил ту горькую, страшную минуту, когда узнал, что Жанна ушла от него и переселилась в Версаль. Дезире от него еще не ушла, она стояла еще совсем рядом, но она пригрозила ему, что уйдет, и она исполнит свою угрозу. Жанна ушла, по крайней мере, в Версаль, к королю, к мерзавцу, но к королю, полному внешнего великолепия и готовому дать ей все, чего она пожелает, – власть, блеск, богатство. А эта Дезире уходит к Пьеро, к тщеславному, жалкому Пьеро, заварившему дела, до которых он не дорос, к голодранцу и хвастуну. Превозмогая себя, он делил ее с голодранцем, а теперь она не хочет оставить ему даже его доли, – теперь она уходит к голодранцу целиком и навсегда. Она этого не сделает. Когда Жанна пожелала к нему вернуться, он отверг ее из чувства собственного достоинства. Он не хочет второй раз совершать огромную, непоправимую ошибку, не хочет жертвовать единственной отрадой своей жизни ради достоинства. Что такое достоинство? Призрак, вздор. Дезире не Жанна, но и она – нечто великолепно живое, сверкающее. В уме его звучали стихи, латинские стихи: «Ver vide. Ut tota floret, ut olet, ut nitida nitet. – Это она весна. Это она вся в цвету, это она благоухает, это она сияет сияньем».
– Останьтесь со мной, Дезире, – попросил он хрипло.
Дезире деловито осведомилась:
– Вы ему поможете?
Он ни секунды не думал.
– Нет, – вырвалось у него, – никогда. – И тут же, без промедления, он сказал: – Но я на вас женюсь.
Она скорее ждала, что он бросится на нее или швырнет в нее первым попавшимся тяжелым предметом. «Я на вас женюсь», – он предложил ей это в самых простых словах. Было бы величайшим триумфом войти в замок Этьоль полноправной хозяйкой, мадам Ленорман д'Этьоль; товарищи по театру играли бы на ее домашней сцене, развлекая ее и ее гостей, а она была бы на равных правах с Франсуа Водрейлем. И Шарло далеко не молод, и ей не придется долго с ним жить, и если он на ней женится, то очень скоро он изойдет в наслаждении, ярости и печали. Перед ней маячила вожделенная вершина.
«Я подумаю», – хотелось ей сказать. Тут она вспомнила, как менее трех часов назад сочла само собой разумеющимся, что друг ее Пьер отказался от богатства и беззаботной жизни, потому что за богатство и беззаботную жизнь пришлось бы заплатить большим унижением. За то, чтобы стать хозяйкой замка Этьоль, нужно было заплатить маленьким предательством в отношении Пьера.
Но Этьоль – это великий блеск, а что такое маленькое предательство? «Я подумаю», – приготовилась она сказать. Но тут перед ней встало румяное, хитрое, наивное, умное лицо ее друга Пьера.
– Нет, Шарло, спасибо, Шарло, – сказала она – и ушла.
Когда Пьер пожаловался Сайласу Дину на свое разочарование и на жестокую нужду, постигшую его по вине Конгресса, американец впервые честно и сокрушенно признался, что он ничем не может помочь, что он совершенно бессилен перед интригами Артура Ли. Он стал взволнованно говорить о неблагодарности, которой Конгресс отплатил и ему. Он излил Пьеру душу. Он страстно желал поставить свою подпись под договором, достижение которого стоило ему стольких трудов и нравственных сил. И вот теперь ему приходится опасаться, что не сегодня-завтра его сменит новый эмиссар Конгресса, и тогда даже этой чести его лишат.
Жалобы разочарованного американца были настолько горьки, что в конце концов Пьеру пришлось его утешать. Главная их цель, сказал Пьер, достигнута, в этом он уверен. Великий день заключения договора не за горами. Сайлас Дин, несомненно, приложит руку к этому всемирно-историческому документу. А потом он без труда докажет Конгрессу, что обвинения его жалкого врага не что иное, как злостная клевета. Досадно только, что Артур Ли, по-видимому, тоже подпишет договор и испортит тем самым благородную хартию.
Во время этих разглагольствований Пьера осенила одна мысль. Если уж денег от Конгресса ему не удается добиться, то он, по крайней мере, вправе претендовать на то, чтобы присутствовать на торжественной процедуре подписания договора, достигнутого как-никак не без его, Пьера, участия.
– Гражданин Бомарше, – заключил он с подъемом, – хочет быть свидетелем момента, когда гражданин Франклин скрепит своей подписью договор между Америкой и Францией.
Ободренный речами Пьера, Сайлас Дин отвечал, что желание Пьера вполне справедливо, и обещал вовремя передать Франклину просьбу Бомарше.
Между тем дела Пьера как будто поправлялись. Уже в день разговора с Сайласом Дином он получил из Америки известия, сверх ожидания благоприятные. После победы при Саратоге, писал Поль, виды на платежи улучшились. Уже со следующим судном он сможет послать товаров на сумму от ста восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч ливров. Но главное, он добился от Конгресса полного признания заслуг мосье де Бомарше, а следовательно, и принципиального согласия на оплату его счетов; Пьер убедится в этом из официального письма, которое, возможно, уйдет с тем же судном.
На следующий день действительно пришло письмо, подписанное председателем Конгресса Джоном Джеем. Оно гласило: «Многоуважаемый сударь, Конгресс Соединенных Штатов признает Ваши исключительные заслуги перед ним, выражает Вам благодарность и заверяет Вас в своем совершенном почтении. Конгресс сожалеет о недоразумениях и неудачах, жертвой которых Вы оказались, помогая Соединенным Штатам. Стечение несчастных обстоятельств до сих пор мешало Конгрессу выполнить свои обязательства перед Вами, однако он немедленно примет меры, чтобы погасить накопившуюся задолженность. Благородные чувства и широта взглядов, которые единственно и руководствуют Вашими поступками, служат величайшим Вам украшением. Своими редкими талантами Вы снискали уважение этой молодой республики и безраздельную признательность Нового Света».
Сердце Пьера учащенно забилось. Он торжествовал, оттого что не покорился Шарло.
Так как в кассах его не было ни одного су, он попытался с помощью письма председателя Джона Джея поправить свои финансы.
Он поехал к Вержену, чтобы, сославшись на письмо, попросить у него еще один, последний миллион.
Вержен принял его любезно. В беседах, которые министр вел с королем, пытаясь склонить Луи к союзу с Америкой, он пользовался аргументами, заимствованными из докладных записок Пьера по американскому вопросу, и поэтому был благодарен их находчивому, хорошо владевшему пером автору. Когда Пьер попросил о новой ссуде, министр ответил, что, конечно, не годится оставлять в беде старого друга. Пьер протянул Вержену письмо Джона Джея, чтобы доказать, что скоро фирме «Горталес» уже не надо будет прибегать к помощи королевской казны. Вержен принялся читать, и Пьер с ревнивой гордостью стал следить за его любезным, слегка насмешливым лицом.
К своему удивлению и испугу, он увидел, как менялось лицо Вержена, по мере того, как тот читал. От любезности и иронии не осталось и следа, лицо выражало только ледяную неприступность.
Потрясенный Пьер понял, какую непростительную ошибку он совершил. Конечно же, Вержен ожидал, что подобное письмо получит он сам, ответственный министр, а не его агент, его подручный, его орудие. Как это его, Пьера, знатока людей, угораздило показать человеку, от которого он зависит, что Новый Свет считает своим заслуженным пособником в Европе его, Пьера, а не министра иностранных дел христианнейшего короля.
Вержен возвратил ему письмо.
– Ну, что ж, – сказал он, – поздравляю вас, мосье. Выходит, что нам незачем больше стараться вам помогать.
В его словах и тоне, которым они были произнесены, была та высокомерная вежливость, которую Пьер так ненавидел в аристократах и которой так восхищался.
Он стал лихорадочно думать, как бы загладить свой промах. Он уже давно, сказал он наконец, собирается обратиться к министру с большой просьбой: не позволит ли тот назвать одно из его, Пьера, судов, первое, которое будет спущено на воду, «Граф Вержен».
– Я думаю, – ответил министр, – что вашим партнерам больше понравится, если вы назовете судно собственным именем или именем кого-либо из ваших друзей.
Пьеру оставалось только удалиться. Уже стоя, он снова заговорил о цели своего прихода. Если он верно понял графа, сказал Пьер, он может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны правительства его величества, покамест Конгресс не произведет обещанных платежей.
– Какую сумму вы хотели получить? – холодно спросил Вержен.
Пьер намеревался потребовать один или два миллиона.
– Четыреста тысяч ливров, – сказал он.
– Вы шутите, мосье, – ответил Вержен. – Я велю выдать вам сто тысяч ливров. Но я всерьез надеюсь, что впредь вы не будете посягать на тайный фонд его величества.
С почетным письмом Джона Джея в кармане и со страстной ненавистью к важным господам в сердце отправился Пьер домой.
На полпути он велел повернуть и поехал в Пасси.
Прочитав письмо, Франклин почтительно покачал большой головой.
– Вот как, – сказал он, – наверно, вам было приятно его получить.
Про себя он подумал, что если уж Конгресс не скупится на такие прекраснодушные заявления, значит, он считает их своего рода зачетным платежом и что виды мосье Карона на получение наличных в ближайшие месяцы очень и очень туманны.
Пьер заговорил о своих заботах. Поставляя оружие для Саратоги, он почти разорился, и теперь ему нужен кредит, чтобы дождаться обещанных Конгрессом денег. Не сможет ли Франклин дать ему некоторую сумму под залог товаров и векселей, о которых пишет Конгресс? О своих нуждах он говорил в юмористическом тоне, полагая, что такой тон лучше всего подействует на старого любителя анекдотов и шутника. Ловко имитируя жест нищего, он заключил: «Date oboluin Belisario».
Франклин подумал, что мосье Карон не совсем безосновательно привел эту ходячую фразу – «Подайте милостыню Велизарию»: подобно великому Велизарию, Бомарше довел себя до нищенства своей деятельностью на благо государства. Однако позерство, с которым этот хорошо, даже щегольски одетый человек клянчил деньги, глубоко претило Франклину. Он смог бы отчитаться перед Конгрессом, выдав Пьеру сравнительно небольшую сумму в счет причитавшихся тому платежей, но разве он сам не испытывает постоянных финансовых затруднений? И в конце концов не его обязанность улаживать денежные дела Бомарше.
– Понимаю ваше положение, достопочтенный друг, – сказал он. – Но, к сожалению, мы, эмиссары Соединенных Штатов, не банкиры. Мы нарушили бы имеющиеся у нас инструкции, взяв на себя подобные функции. К тому же после благоприятного письма Конгресса вы вполне можете рассчитывать на то, что в ближайшее время все ваши труды будут полностью вознаграждены. – Франклин говорил мягко, сочувственно, но слова его звучали непреклонно.
Пьер откланялся.
Он сидел в своем огромном доме, в своем роскошном кабинете, и перед ним лежало почетное письмо.
– Все слова, слова. Каприс, – сказал он собаке и запер письмо в ларец, где лежали рукописи, квитанции, документы, любовные письма.
Ответ мадридского двора пришел раньше и оказался определеннее, чем хотелось Луи. Карл сообщал, что хотя Испания временно воздержится от союза с английскими колониями в Америке, франко-американский пакт не только не вызывает возражений, но и представляется желательным.
Теперь Луи лишился главного довода, и Туанетта осаждала его требованиями выполнить наконец данное им обещание. Ему снова пришлось созвать совет с ее участием.
Можно серьезно опасаться, заявил Морепа, что американцы, если их слишком долго водить за нос, в конце концов примут предложения англичан.
– Мы должны, – сказал Вержен, – немедленно потребовать от доктора Франклина гарантии, что он отклонит любые предложения Англии, предусматривающие воссоединение колоний с метрополией.
– С какой стати мосье Франклин даст нам такое обещание? – надменно пожимая плечами, спросила Туанетта.
– Путь для этого нашелся бы, – ответил Морепа.
Вержен пояснил:
– Если бы мы могли сообщить американцам, что король обязуется заключить с ними союз, доктор Франклин, несомненно, также согласился бы связать себя словом.
Он адресовал эти слова Туанетте. Она поглядела на Луи. Все молчали.
– Можно ли верить слову мятежника? – спросил наконец с неудовольствием Луи.
– Конечно, это не честное королевское слово, – заметил Морена, – но доктор Франклин пользуется во всем мире репутацией надежного человека.
– Другого пути действительно нет, – повторил Вержен.
– Вы слышите, сир? – спросила Туанетта. – Пожалуйста, выскажитесь, – наседала она.
Луи повертелся на стуле, посопел. Потом промямлил:
– Ну, хорошо, ну, ладно.
Остальные облегченно вздохнули.
Заметив это, он поспешно добавил:
– Но я не связываю себя никакими сроками, так и знайте, месье. Это только принципиальное обещание. И, пожалуйста, соблюдайте осторожность в переговорах с мятежниками. Не делайте никаких опрометчивых шагов. Помните об этом, месье. Каждый пункт нужно всесторонне взвесить.
– Вы можете положиться на нас, сир, – стал успокаивать его Морепа. – Вашим министрам несвойственно поступать опрометчиво.
В тот же день Морена и Вержен принялись за дело.
Мосье Жерар и три эмиссара снова, как заговорщики, встретились при закрытых дверях. Помня о беспокойной настойчивости, с которой Луи требовал от них строжайшего сохранения тайны, министры и на этот раз позаботились о совершенной секретности переговоров. Прежде всего Жерар потребовал, чтобы американцы дали честное слово, что не разгласят ни звука из того, что сейчас от него услышат. Артур Ли ответил, что в Америке не принято давать честное слово, что там достаточно просто слова. Франклин сказал:
– Если вам это важно, даю вам честное слово.
Затем мосье Жерар заявил, что должен задать господам три вопроса. Первый: что следует предпринять Версалю, чтобы доказать эмиссарам свою искреннюю преданность делу Америки и заставить их не идти ни на какие предложения Великобритании? Второй: что нужно сделать, чтобы убедить в этой преданности Конгресс и народ Соединенных Штатов и побудить Конгресс и народ не принимать никаких исходящих от Великобритании предложений? Третий: какой практической помощи ждут Соединенные Штаты от французского правительства?
Приветливо улыбнувшись, Франклин приготовился отвечать. Однако Артур Ли поспешил ехидно вставить, что ответить на столь важные вопросы можно только по зрелом размышлении. Мосье де Жерар заметил, что для обдумывания этих вопросов в распоряжении господ эмиссаров был, собственно, целый год.
– Тем не менее, – неумолимо заявил Артур Ли, – мы вынуждены испросить себе еще один час. – Сказав, что позволит себе прийти за ответом через час, мосье Жерар удалился.
Доктор Франклин сел писать ответы на три вопроса, а между Сайласом Дином и Артуром Ли началась ожесточенная перепалка. Франклин попросил:
– Немного тише, господа, – и стал писать дальше.
Мосье Жерар вернулся, и Франклин прочитал ему ответы. На первый вопрос: делегаты Соединенных Штатов давно уже предлагали заключить договор о дружбе и торговле. Скорейшее заключение такого договора избавило бы их от нерешительности, вселило бы в них веру в дружеское отношение Франции и дало бы им возможность отвергнуть любые мирные предложения Англии, в основе которых не лежит признание полной свободы и независимости Америки. На второй: солидный заем послужил бы Конгрессу и народу Соединенных Штатов достаточно убедительным доказательством дружеского отношения к ним со стороны Версаля. На третий: немедленная отправка восьми военных кораблей дала бы возможность Соединенным Штатам охранять свои берега и торговые пути, а также отбила бы охоту выслушивать какие бы то ни было мирные предложения Англии.
Мистер Ли хотел что-то добавить. Однако Франклин, повернувшись к нему, сделал рукой выразительный жест, вполне вежливый, но все-таки заставивший его замолчать.
Мосье Жерар сказал, что ответы его удовлетворяют. Затем, без всякой паузы, он продолжал:
– Господа, имею честь сообщить, что мое правительство намерено заключить с вами необходимые договоры. – Он поднялся, но и дальнейшее произнес небрежно, словно говорил о погоде. – Я уполномочен месье, – сказал он, – дать вам слово его величества, что мы заключим эти договоры, – договор о дружбе и торговле, равно как и наступательно-оборонительный пакт, гарантирующий вашу независимость. Вы же, со своей стороны, должны обещать нам не заключать сепаратного мира с Англией и не отказываться от собственной независимости.
Франклину удалось скрыть свое волнение. Два других эмиссара вскочили на ноги. Артур Ли снова пытался что-то сказать, но Франклин снова утихомирил его одним движением головы.
Затем Франклин не спеша поднялся и спокойно сказал:
– Мы даем вам такое обязательство, мосье.
– Благодарю вас, доктор Франклин, – сказал мосье Жерар. – Мне остается только поздравить вас и ваших коллег со счастливым окончанием этого дела. Надеюсь, что связь между нашими странами будет прочной и пойдет на пользу обеим сторонам.
Отвесив низкий поклон Франклину и не столь низкий двум остальным, он удалился.
Теперь наконец Франклин по-настоящему облегченно и счастливо вздохнул. Он необычайно сердечно пожал руку Сайласу Дину, а затем, помедлив, и Артуру Ли. Ли хотел говорить.
– Молчите, – сказал Франклин отеческим тоном, словно урезонивая беспокойного ребенка.
Это произошло 8 января, на тридцать пятый день после известия о Саратоге.
Теперь Сайлас Дин вспомнил о мосье де Бомарше и его желании присутствовать при подписании договора. До сих пор он не решался заговаривать об этом с Франклином. Но сейчас, когда долгожданный день стал уже совсем близок, Сайласу Дину пришлось рассказать о просьбе мосье де Бомарше.
Франклин нахмурился. Важным условием пакта, объяснил он, является сохранение тайны, а пригласить мосье Карона – это все равно, что раструбить о заключении союза через глашатаев. Испуганный Сайлас Дин больше не осмеливался возвращаться к просьбе Пьера.
Дерзкое требование Пьера навело доктора на мысль: если кто-либо из его французских друзей действительно способствовал достижению договора, то, конечно, Дюбур. Это он предложил встретиться с королевой. Если уж приглашать француза на процедуру подписания, то только Дюбура.
Заручившись уклончивым согласием Жерара, Франклин поехал к Дюбуру. Он не видел своего друга целую неделю. Он застал его полулежащим в подушках, еще более истощенным, в ночном колпаке. Дюбур тяжело дышал и обливался потом; около него хлопотали старый слуга и санитар. Приход Франклина явно был для него отрадой, он уже давно ждал старого друга. Исхудавшей рукой он сделал знак, чтобы его оставили наедине с гостем.
Едва взглянув на него, Франклин сразу же понял, что не ошибся, когда увидел на его лице гиппократову маску. Теперь любому видно, что Дюбур уже не жилец на свете.
– Все идет отлично, старина, – объявил Франклин. – Ваша блестящая идея дала результаты. Теперь можно почти наверняка сказать, что договор будет подписан.
Очень обрадованный, Дюбур задышал еще тяжелее и прохрипел по-латыни стих Горация: «Hoc erat in votis. – Этого я желал».
Франклин придумал хороший способ порадовать друга. Официальный текст франко-американского соглашения, как и любого дипломатического документа, нужно было составить по-французски. Доктор Франклин справлялся о точном значении каждого оборота у близких ему людей – мадам Брийон и аббата Мореле. Зная, однако, сколь страстным переводчиком является его друг Дюбур, он извлек сейчас набросок договора и сказал, что вынужден просить Дюбура еще об одной услуге: он, Франклин, хотел бы услышать просвещенное мнение друга относительно редакции различных статей пакта.
Дюбур реагировал на эту просьбу именно так, как того желал Франклин: больной ожил. Франклин принялся читать. Дюбур попытался, хотя и тщетно, еще чуть-чуть приподняться; внимательно слушая, он стал меньше хрипеть. Один раз он остановил Франклина резким жестом и с трудом произнес: «De quelque nature qu'ils puissent etre, et quelque nom qu'ils puissent avoir. – Какова бы ни была их природа и какое бы имя они ни носили», – и Франклин послушно и старательно записал это добавление, хотя оно казалось ему излишним. «Les Etats du Roi – Королевские Штаты», – еще нетерпеливее прервал его в другой раз Дюбур, и Франклин понял, что тот хочет поставить эти слова вместо выражения «les dits Etats – названные Штаты», показавшегося ему недостаточно ясным. Дюбур сделал еще несколько подобных поправок, и Франклин принял их к сведению и за каждую поблагодарил, хотя не собирался с ними считаться, ибо все они казались ему несущественными.
Затем он стал вслух упрекать себя за то, что так эксплуатирует больного друга. Впрочем, ведь сам Дюбур полагает, что скоро поправится, и поэтому он, Франклин, надеется, что напряжение не причинило ему особого вреда. Во всяком случае, Дюбуру нужно взять себя в руки; не за горами день подписания договора, и само собой разумеется, что Дюбур должен присутствовать при церемонии, претворяющей в жизнь задуманный им союз.
Франклин ожидал, что его сообщение принесет больному либо мгновенную счастливую смерть, либо заметное улучшение состояния. Случилось второе. Дюбур перестал хрипеть, ему удалось выпрямиться, дрожащей рукой он смахнул с головы ночной колпак.
– Это правда? – спросил он. – Я, старый ботаник, буду стоять рядом, когда вы и король Франции…
– Сам он едва ли явится, – заметил Франклин, – но его присутствие для меня не так важно, как ваше.
Отыскав руку Франклина, Дюбур пожал ее изо всех сил, но пожатие получилось слабое.
Через несколько дней, выйдя к завтраку, Франклин отметил, что стол празднично украшен. Ему исполнилось семьдесят два года. Вильям все-таки хороший малый и внимателен к деду. Он приготовил даже несколько подарков, скромных, с любовью выбранных даров: на столе лежали писчая бумага, перья, карандаши, как раз те, какие Франклин любил и какие нелегко было раздобыть в этой стране.
Кстати сказать, Вильям и на этот раз забыл бы о дне рождения деда, если бы Сайлас Дин ему не напомнил. После того как Франклин добился гарантии Версаля относительно договора, почтение Сайласа Дина к величайшему из его земляков еще более возросло. К тому же при плохих отношениях с Конгрессом, сложившихся у него по милости Артура Ли, Дину было важно заручиться поддержкой Франклина. Перед отъездом в Америку ему хотелось еще раз продемонстрировать свою преданность доктору, и он заботливо уведомил всех о предстоявшем дне рождения великого мужа.
Явившись вскоре после завтрака – сегодня были поданы оладьи из гречневой муки, и Франклин ел с аппетитом и не зная меры, – Сейлас Дин с торжественно-плутовским видом заявил, что теперь, когда их великий коллега одержал выдающуюся дипломатическую победу, эмиссары считают себя вправе преподнести ему подарок ко дню рождения. Дюжие носильщики внесли два объемистых ящика, и когда они их распаковали, на свет божий были извлечены красивые черно-коричневые тома в кожаных переплетах – сначала пять, потом десять, потом двадцать, наконец вся «Энциклопедия», весь «Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers»,[78]78
«Толковый словарь наук, искусств и ремесел» (франц.)
[Закрыть] – все двадцать восемь томов, плюс три дополнительных, плюс три тома с гравюрами на меди.
Широкое лицо Франклина просияло.
– Вот это действительно приятный сюрприз, – сказал он, пожимая руку Сайласу Дину. – Я давно мечтал об «Энциклопедии», но мне и не снилось ее приобрести.
«Энциклопедия» была очень дорогим изданием; хотя ее не изъяли, официально она оставалась запрещена, и купить ее можно было только из-под полы, заплатив от тысячи двухсот до двух тысяч ливров.
Когда все ушли, Франклин с довольной улыбкой стал рассматривать увесистые, компактные тома. Он поглаживал их задумчиво, почти нежно. У многих его друзей был этот великий труд, Франклин часто в него заглядывал и прекрасно в нем ориентировался. В числе сотрудников издания были близкие ему люди: Гельвеций, Тюрго, Мармонтель, Рейналь, Неккер, и люди, известные ему только по гордым именам: Вольтер, Руссо, Монтескье, Бюффон. Мысль Франции, мысль, Европы, все, что было передумано и исследовано с тех пор, как началась история человеческой мысли, заключали в себе эти черно-коричневые переплеты. Издателям «Энциклопедии», д'Аламберу и Дидро, пришлось преодолеть невероятные трудности. У всех было на памяти, как генеральный прокурор парижского парламента назвал авторов и сотрудников «Энциклопедии» атеистами, мятежниками и растлителями молодежи, грозя им тягчайшими наказаниями, как д'Аламбер после этого осторожно отстранился от участия в издании и как Дидро, продолжая упорно работать, добился наконец напечатания и распродажи гигантского труда при молчаливом невмешательстве правительства.
Франклин слегка ухмыльнулся, вспомнив о своей встрече с Дидро, к которому много лет назад явился с визитом. Великий писатель, женатый на шумной, вульгарной женщине, жил среди ужасающего беспорядка. Он тепло приветствовал гостя и долго беседовал с ним, не уставая рассказывать о своей работе. Время от времени в комнату заглядывала жена, крича, чтобы Дидро пошел наконец обедать, но предварительно выпроводил посетителя. Из-за крика этой вздорной бабы Дидро не смог прочитать ему до конца рукописи, над которой тогда работал, – этюда о философе Сенеке. Дидро говорил и читал четыре часа кряду, почти не дав Франклину раскрыть рта, но когда жена гневно и грозно позвала его в последний раз, он отпустил гостя с такими словами: «Мне было чрезвычайно приятно, доктор Франклин, познакомиться с вашими взглядами».
Франклин тогда уже понял, а потом еще тверже убедился, что Дидро совершенно одержим работой. Впрочем, более полезной и более увлекательной работы невозможно было себе и представить. Трудясь над «Энциклопедией», Дидро все время стоял одной ногой в Бастилии; он рисковал своей безопасностью, своими удобствами, своей жизнью. Он сделал свое дело вопреки церкви, вопреки властям, вопреки Сорбонне, вопреки объединенному натиску всех обскурантов, и вот перед ним, Франклином, лежит «Энциклопедия» – законченная, осязаемая, кадастр своей эпохи, ее библия, свод ее знаний, кладезь всех воинствующих, передовых идей, огромный арсенал, дающий разуму все новое и новое оружие для борьбы против суеверий и предрассудков. Эти тома – пушки, из которых разум обстреливает крепость привилегированной глупости, мертвой мысли и отжившие свой век институты прошлого. Прав был тот генеральный прокурор, заявивший парижскому парламенту, что сотрудники «Энциклопедии» – это сообщники, поклявшиеся насадить материализм, уничтожить религию, развратить общественные нравы и повсюду утвердить дух независимости. Нельзя было бы завоевать независимость Америки, не имея на вооружении идей, собранных и систематизированных в «Энциклопедии».
Глаза Франклина машинально скользили по красиво напечатанным страницам. Он не думал-о том, что читал; им владела одна мысль – мысль о всемогуществе разума. Писатель Вениамин Франклин чувствовал гордость за беспримерный писательский труд, зримый и осязаемый, труд, действенно влиявший на историю земного шара и с каждым днем влияющий на нее сильней и сильней. Вениамин Франклин был человеком трезвым, но внутри у него все пело: разум, разум, разум. Перед ним был монумент разума, более долговечный, чем бронза.
Франклин читал французские фразы, но думал он по-английски. Его слегка забавляла сейчас мысль о том, что в основе великой «Энциклопедии» лежат английские принципы. Первыми провозгласили знание могучей силой его земляки – англичане, англичанин Фрэнсис Бэкон.[79]79
Бэкон Фрэнсис (1561–1626) – английский философ-материалист, разрабатывавший так называемый индуктивный метод познания истины – через накопление фактов и их объяснение, в противоположность господствовавшему в средневековье дедуктивному методу – объяснения фактов, исходя из заранее данного, чаще всего определяемого религией представления об истине.
[Закрыть] Идея полезности знания родилась и окрепла в воздухе Англии.
Но то, что сделали из английских идей французы, было достойно восхищения. Острая, последовательная логика, независимость от авторитетов прошлого, блестящая воинственность мысли – все это принадлежит им целиком. «Вольтера мы дадим миру не так скоро, – думал он, – придется нам удовлетвориться Франклином. Но зато мы первые, кто не только исповедовал эти идеи, но и претворил их в жизнь. Мы знаем, когда нужно выжидать и когда – действовать». В памяти его всплыли глубокомысленные библейские стихи: «Всему на свете свое время, всему под небесами свой час. Есть время родиться и время умирать, время сеять и время корчевать, время убивать и время лечить, время молчать и время говорить, время войне и время миру».[80]80
Цитата из библейской книги «Екклезиаст, или Проповедник».
[Закрыть] Когда мальчиком он впервые услыхал эти многозначительные стихи, они его тронули, они запали ему в душу, они стали частью его существа.
Кем бы он ни был – англичанином или французом, теоретиком или человеком действия, – он чувствовал себя в родстве с людьми, создавшими этот труд. Прорвав границы, разделяющие нации, они образовали республику ученых, и он, смиренный и гордый, был гражданином этой республики.
Разум, разум, разум.
Он чувствовал себя признательным этим людям за то божественное удовольствие, которое доставил ему их скромный, хитроумный метод. Сколько терпения и хитрости потребовалось Дидро и его сотрудникам, чтобы усыпить цензоров, чтобы, несмотря на бешеные нападки духовенства и на проклятие генерального прокурора, заставить их посмотреть на это издание сквозь пальцы и пропустить «Энциклопедию». Разумеется, кое в чем приходилось идти на уступки. Франклин заглянул в статьи, в которых цензоры с особым рвением должны были искать крамолу, в такие статьи, как «Христианство», «Душа», «Свобода воли». Здесь все было написано так, что и ортодоксальнейший богослов не нашел бы повода к придирке. Зато в других местах за невинными заголовками следовали крамольные истины и убедительные доказательства их. Кто бы ожидал найти под словом «Юнона»[81]81
Юнона – римская богиня, жена Юпитера, покровительница супружеской любви, помогающая при беременности и родах.
[Закрыть] научное опровержение легенды о непорочном зачатии? Или под словом «капюшон» доводы против монахов и монастырей? Или под словом «орел» доводы против существующих религий?