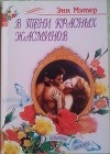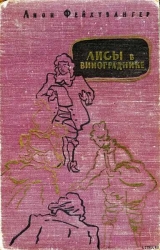
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 57 страниц)
– Не находите ли вы, мадам, – бестактно обратился он к Туанетте, – что мои дамы слишком уж либеральны? – Граф указал на статуэтки Франклина. – Погодите, – сказал он, – эти фантазии доведут нас еще до того, что в один прекрасный день ваш Франклин подожжет Версаль.
Обычно граф Жюль ограничивался тем, что молча сидел за карточным столом и демонстрировал дамам свое красивое, пустое и жестокое лицо; его политических замечаний никогда не принимали всерьез.
– Ах, наш славный Жюль, – только и возразила Диана, и на ее некрасивом, умном лице появилась сострадательная улыбка. Габриэль же лениво, но решительно заявила:
– Я мало что знаю об Америке, но доктор Франклин, по-моему, восхитителен. Я видела его у мадам де Морена и у мадам де Жанлис и оба раза была от него просто в восторге. Слушая его комплименты, чувствуешь свою значительность. Не представляю себе, чтобы затея американцев могла быть совершенно безнравственной.
Замешательство Туанетты росло. До сих пор она как-то не выбрала времени задуматься над американским конфликтом. Мерси и Вермон советовали ей не высказываться о мятежниках в сочувственном тоне. Она так и поступала, это ей ничего не стоило. Но, может быть, следовало проявить больше интереса к этому американцу? Неужели он действительно вошел в моду? С удивлением и смущением увидела она, как горячо вступаются за него ее друзья.
«Les amants arrivent», – закричал попугай, прерывая раздумья Туанетты.
– Граф Фалькенштейн, – возвестил дворецкий.
Пришел Иосиф.
В тонких, новомодных чашках был подан чай, и гости стали обмениваться мнениями об этом непривычном лакомстве. Они долго говорили о странном пристрастии англичан к чаю, упоминали о пошлинах и монополиях, удивлялись, что этот незамысловатый пресный напиток, в сущности, и вызвал бунт американских колоний.
Притворяясь неосведомленным, принц Карл спросил Иосифа, какое впечатление произвел на него прославленный апостол свободы в очках и шубе. С напускной веселостью Иосиф ответил, что неистовый старик настолько нетерпелив, что не дождался его прихода. Гости не преминули выразить удивление: доктор славился своей кротостью и спокойствием.
– Не попытаетесь ли вы вторично встретиться с ним, сир? – с невинным видом спросила Габриэль Полиньяк.
– Во-первых, мадам, пожалуйста, не называйте меня «сир», а во-вторых, я не испытываю такого желания, – ответил Иосиф и, саркастически усмехаясь, прибавил: – В конце концов мистер Франклин не вправе требовать, чтобы я за ним бегал. – Своим тоном Иосиф показывал, что разговор окончен.
Но Габриэль мягко и спокойно сказала:
– Мне кажется, граф Фалькенштейн, что вы не разделяете нашего восхищения этим мудрым старцем.
– Неужели вы ждали от меня иного, мадам? – сухо ответил Иосиф. – В конце концов я роялист по профессии.
Теперь, чрезвычайно вежливо, в разговор вмешался маркиз де Водрейль.
– Неужели, граф Фалькенштейн, вы в самом деле находите, что доктор Франклин проявил неистовое нетерпение, уйдя от аббата после некоторого ожидания? Он дорожит своим достоинством. Он представляет страну, презирающую наши сложные церемонии, но тем не менее пекущуюся о своем достоинстве.
Подняв брови, Иосиф взглянул на Водрейля. Уж не собирается ли тот его поучать? Водрейль выдержал взгляд Иосифа с прекрасно разыгранным спокойствием.
– Мне хорошо известно, – запальчиво, резко и самоуверенно сказал Иосиф, – что парижане очень балуют доктора Франклина. Но, обладает ли он личным достоинством или нет, идеи, которые он представляет, вздорны и недостойны. Поэтому я сожалею, – его синие глаза с наставнической строгостью остановились на прическах обеих дам Полиньяк, – что некритическое и восторженное отношение к этому человеку распространилось в кругу королевы. При всей своей либеральности я бы не впустил Вениамина Франклина к себе в Вену и, уж во всяком случае, не потерпел бы, чтобы люди, принадлежащие к моему двору, безрассудно расточали ему похвалы.
Иосиф уже не раз третировал членов Сиреневой лиги, но никогда еще он не был с ними так груб. Наступила неприятная тишина. Ее нарушил отрывистый голос хозяйки дома, принцессы Роган:
– Когда здесь появился Франклин, я пыталась вызвать Оливера Кромвеля.[34]34
Кромвель Оливер (1599–1658) – крупный английский политический деятель, один из руководителей революции 1649 г., временно уничтожившей в Англии монархию.
[Закрыть] Но он не явился.
Никто не обратил на нее внимания. Туанетта, смущенная резкостью брата, чуть покраснела, Габриэль слегка улыбалась насмешливой, рассеянной улыбкой, Диана гладила одну из собачек принцессы Роган, принц Карл, сделав надменную гримасу, тщетно старался придумать какую-нибудь наглую шутку. Все напряженно ждали, проглотит ли Водрейль обидные слова римского императора или у него хватит дерзости на ответный удар.
У него хватило дерзости. Он был доволен, что Габсбург говорил с ним так высокомерно и раздраженно; на это Водрейль и рассчитывал. Смелое, мужественное лицо маркиза, готовившегося отплатить чванному австрийцу, дышало чувством собственного превосходства.
– Видите ли, граф Фалькенштейн, – сказал он, – у вас в Вене живется просто. Ваши конфликты вполне определенны и легко обозримы. У нас же в Версале все настолько усложнено, изощрено и утончено нашей многовековой цивилизацией, что мы стремимся уже только к чистой природе. В этом старом, почтенном Вениамине Франклине мы видим воплощение тех естественных начал, которые грезились нашим философам. Вы, наверно, слышали и о нашем Жан-Жаке Руссо. Воплощая в себе все естественное, этот старый, простой человек волнует нас, трогает и приводит в бурный восторг.
Он замолчал в ожидании ответа. Иосиф, однако, ничего не возразил. Чувствуя себя неловко и глупо, Туанетта принялась тараторить.
– Природа! – воскликнула она с напускной веселостью. – В моем Трианоне будет столько природы, что у вас пропадет вкус к вашему Франклину. – Она засмеялась.
Но только она. Остальные по-прежнему глядели на Иосифа и Водрейля. И так как Иосиф все еще молчал, Водрейль продолжал:
– Может быть, вы и правы, граф Фалькенштейн. Может быть, мы поступаемся своими непосредственными интересами – интересами короля и своими собственными, – безгранично сочувствуя Франклину и стремясь по мере сил поддержать его и его мятежников. Но, может быть, в нашем поведении больше мудрости, чем в простой брани по адресу бунтовщиков и в гонениях на них. Бессильные против духа времени, мы помогаем духу времени. Мы рубим сук, на котором сидим, потому что знаем: ему суждено упасть.
В отличие от римского императора, маркиз де Водрейль говорил без тени поучения, эти слова он сказал Иосифу легко, покоряюще смело, и члены Сиреневой лиги радовались, что Водрейлю удалось так изящно выразить то, что все они смутно чувствовали. Но в то же время у них захватило дух от такой дерзости. Что ответит Иосиф? Что мог он ответить?
Иосиф был полон бессильной ярости. Он, римский император, апостолическое величество, в своем благородном самоограничении провозглашал и осуществлял идеи вольности; множество людей восхваляли его слова и дела как самые смелые деяния человеческой истории. И вот выскакивает какой-то несчастный придворный, жалкая креатура его безмозглой сестры, отчитывает его при всех и гордо объясняет, почему он, ветреный французишка, верит в доктора Франклина и отважно рубит сук, на котором сидит. А другие глазеют и слушают. Франклин у них на языке, Франклин у них в прическах, они смеются над римским императором, не осмелившимся взглянуть в глаза мятежнику. Что ж, поделом. Надо было вовремя прийти к аббату Никколи, не уклоняться от встречи, не трусить. В разговоре, который имел бы историческое значение, он, просвещенный монарх, должен был объясниться с анархистом с дикого Запада и показать, что такое настоящая доблесть и настоящая ответственность.
Но нельзя дольше так стоять и молчать. Он поборол свою ярость, взял себя в руки.
– Таких настроений, господин маркиз, – сказал он сухо, – я не потерпел бы при своем дворе.
– В этом я никогда не сомневался, сир, – любезно улыбаясь, ответил Водрейль.
Но любезность эта была такова, что Иосиф сразу потерял самообладание.
– Если вы, мосье, – сказал он резко, – хотите этими словами противопоставить ваш «истинный») либерализм моему «показному», значит, вы никогда меня не понимали. Либерализм не означает мягкотелости и покорности судьбе. Либерализм означает действенность, деятельность. Подлинно свободный дух стремится не к бунту и не к анархии, а к порядку и престижу, основанным на разуме.
– Короче говоря, к просвещенному деспотизму, – сухо и насмешливо заключила Диана.
– Да, мадам, к просвещенному деспотизму, – резко ответил император.
Все с той же покоряющей любезностью Водрейль сказал:
– Сами того не подозревая, сир, своим просвещенным деспотизмом вы рубите упомянутый сук точно так же, как и мы сами. Вы тоже отказываетесь от своих прав, вы тоже уступаете духу времени. Только вы это делаете с гневной серьезностью, а мы превращаем свое несчастье в забаву.
– Вы циничны, несерьезны, легкомысленны. Вам чужды понятия чести и долга, – гневно выпалил Иосиф. Он повысил голос; собачки беспокойно залаяли, а попугай расшумелся. Перекрикивая их, Иосиф закончил: – Вы гораздо более опасный мятежник, чем Франклин, мосье.
Туанетта была убеждена, что правители поставлены богом на благо смертным. Если увлечение Франклином могло еще сойти за невинный, светский каприз, вроде духовидения принцессы Роган, за каприз, который завтра сменится другим, то последние слова Франсуа показались ей чистейшим вздором и бредом. Скорее погибнет мир, чем погибнет монархия. Тем не менее она была глубоко удовлетворена тем, что нашелся человек, осмелившийся противоречить ее великому, всеведущему брату. С почти чувственным наслаждением наблюдала она, как беспомощен, при всей своей правоте, Иосиф перед смелостью и изяществом ее Франсуа. Наконец-то этого вечного наставника самого отчитали.
Но все-таки пора уже прекратить этот спор; Туанетте хотелось вмешаться, сказать что-нибудь приятное, умиротворяющее.
Однако ее опередила принцесса Роган.
– Довольно, месье, – воскликнула та. – Мы же не в клубе мадам Неккер. Здесь пьют чай и говорят о разумных вещах.
Все рассмеялись, и спор прекратился.
Туанетта пригласила Иосифа на ужин в интимном кругу. Прийти должны были только ближайшие родственники, оба брата Луи со своими женами.
Компания собралась очень молодая. Луи было двадцать три года, его брату Ксавье, графу Прованскому, – двадцать два, брату Карлу, графу Артуа, – двадцать. Из женщин самой старшей была Туанетта, которой исполнился двадцать один год. В этом обществе тридцатишестилетний Иосиф чувствовал себя стариком.
Луи считал своим долгом поддерживать теснейшую связь между членами семьи. В Версале он отвел своим братьям лучшие апартаменты, и они часто бывали вместе. Трио, однако, получалось на редкость нестройное. Отношение Луи к Ксавье было столь же двойственным, как и к Карлу. В отличие от Карла, Ксавье не проматывал огромных денег и вообще давал гораздо меньше поводов к общественному недовольству. Но уже с детства он не мог примириться с мыслью, что королем суждено быть глупому Луи, а не ему, Ксавье, схватывающему все на лету и умеющему держаться с монаршим достоинством. Правда, затем, на злобную радость Ксавье, выяснилось, что Луи не способен к продолжению рода. Когда Луи пришел к власти, он, Ксавье, стал престолонаследником, ему присвоили титул «Мосье» и оказывали почести как наследному принцу. Но ему предстояло ждать, и ждать, по-видимому, долго, и пока он убивал время, сочиняя ядовитые эпиграммы на Луи. Все это Луи знал, но это не мешало ему поддерживать с Ксавье братские отношения. При посторонних он даже защищал Ксавье всем своим королевским авторитетом. Однажды, когда появились особенно ехидные куплеты о «королеве-девственнице», шеф полиции Ленуар представил Луи убедительные доказательства, что автор этих куплетов – принц Ксавье. Луи сухо ответил: «Вы ошибаетесь, мосье». Наедине же братья часто обменивались замечаниями, на вид шутливыми, но на самом деле полными желчи; иногда они сами не знали, ссорятся они или дружески беседуют. Однажды, когда принц Ксавье играл в любительском спектакле Тартюфа, Луи многозначительно похвалил его: «Отлично, Ксавье. Эта роль подходит вам более всякой другой».
Принц Карл, менее коварный, чем Ксавье, высмеивал Луи в лицо. Отец уже двоих детей, он всячески выказывал свое презрение старшему брату – импотенту. К Туанетте у него было мальчишески-товарищеское отношение, и только; но чтобы взбесить Луи, он распространил в Париже слух, будто заменяет красивой невестке своего неуклюжего брата в постели.
С приездом Иосифа отношения братьев обострились. Карл отпускал циничные шутки. Принц Ксавье, рисковавший остаться с носом, кипел от злости и сочинял ядовитые куплеты.
Вот какие узы связывали трех молодых людей, сидевших сегодня вместе с Иосифом за интимной, семейной трапезой.
Говорили о прогулках Иосифа по Парижу.
– Известно ли вам, Луи, – спросил Иосиф зятя, – что вам принадлежит красивейшее здание в Европе?
– А именно? – полюбопытствовал Луи.
– Отель-дез-Инвалид, – ответил Иосиф.
– Да, – вежливо согласился Луи, – все говорят мне, что это красивое здание.
– Как? – изумленно воскликнул Иосиф. – Неужели вы ни разу его не видели?
– Не предлагал ли я вам недавно, Туанетта, – сказал добродушно Луи, – оказать любезность Сен-Жермену и осмотреть его Отель-дез-Инвалид? Он так им гордится.
Туанетта рассердилась. Снова она виновата в каких-то упущениях. Вечно этот Сен-Жермен. Ее друзья давно уже пристают к ней, чтобы она прогнала этого старого болвана. Он многим из них досадил. Она вспомнила, какое удовольствие доставило всем падение Тюрго. Нет, достаточно ей кололи глаза этим Сен-Жерменом. Продолжая болтать и отдавая должное жигО, она твердо решила избавиться от этого старика.
Иосиф рассказывал о своих исследовательских путешествиях по Парижу и по Версалю. Он не ленился; дворец он осмотрел вплоть до подвалов и кладовых.
– Мощный у тебя сундук, Тони, – сказал он Туанетте по-немецки.
– Да, – отвечала Туанетта, – и притом ужасно неуютный.
Луи спросил:
– Что значит «сундук»?
– Сундук, – ответил Иосиф, – значит Версаль. Но вот что я вам скажу, зять. В вашем Версале куча чудесных вещей, на которые почти не обращают внимания. В кладовых и чуланах я натыкался на прекрасные полотна, покрытые пылью, сваленные у стен. Нужно бы побывать там, разобраться, навести порядок.
– Да, – без энтузиазма отозвался Луи, – со времен Людовика Великого[35]35
Т.е. со времен Людовика XIV (1643–1715).
[Закрыть] там скопилось много всякой всячины. Между прочим, есть и безнравственные картины. Я как-то уже приказал Морепа кое-что убрать.
– Наш Луи никогда не питал особой слабости к картинам, – обычным своим дерзким тоном заметил принц Карл. Он оживился и, обращаясь к обоим братьям, сказал: – Помните, как в детстве нам велели описать картину, изображавшую пруд с лебедями? Луи великолепно ее описал; только, к сожалению, он не заметил, что это тот самый пруд, мимо которого мы проходили чуть ли не каждый день.
Луи добродушно рассмеялся.
– Дело было не совсем так, – сказал он, продолжая спокойно есть. Ел он очень много, с удовольствием, то и дело наполняя свою тарелку. Остальные уже покончили с едой, слуги готовились убрать тарелки. Все смотрели, как ест Луи – ест один, в свое удовольствие, самозабвенно, неизящно.
– Луи, – окликнула его наконец Туанетта.
– Да, моя дорогая, в чем дело? – ответил Луи.
Поглядев по сторонам, он дал знак убрать свою тарелку и вытер руки. Затем откинулся на спинку кресла.
– А помните, – спросил он тоном, в котором удовлетворение странно сочеталось со злостью, – как однажды на уроке географии герцог Вогюйонский растянулся на паркете? Он тогда как раз проходил с нами реки Иберийского полуострова. Я-то знал, в чем дело: вы ничего не выучили. За то, что он полетел, наказали нас всех. Луи сделал небольшую паузу. – Ты подставил ему ножку, Карл, – закончил он.
– Да нет, – сказал Карл с озорной улыбкой. – Он просто поскользнулся, старый балбес.
– Ты подставил ему ножку, – повторил Луи, – но мы на тебя не наябедничали.
И вдруг на Луи нахлынули бесчисленные воспоминания детства. Он был тогда еще более неуклюж, чем теперь. Часто он отлично знал, что следует сделать или сказать, но из-за чрезмерной робости не делал этого и не говорил. Ксавье и Карл учились хуже, чем он, но они были живые и бойкие дети, их считали способными, а его – неспособным, и все – а Карл и Ксавье в первую очередь – над ним потешались. Однажды – он тогда еще носил титул «герцога Беррийского»[36]36
Будущий Людовик XVI носил титул герцога Беррийского с момента рождения до смерти своего отца (то есть с 1754 по 1765 г.), после которой получил титул дофина.
[Закрыть] – они втроем были у тетки Аделаиды.[37]37
У четвертой дочери Людовика XV Марии-Аделаиды (1732–1808).
[Закрыть] Оба брата затеяли шумную возню, а он с беспомощным видом стоял в углу. «Не стой же так, Берри, скажи что-нибудь, Берри, пошевелись, пошуми», – говорила ему тетка, и в тоне ее было столько сострадания и столько презрения, что никогда он этого не забудет. А потом, когда умер его отец, умер внезапно, страшной, таинственной смертью, – сразу все изменилось. Когда он проходил по коридорам, часовые отдавали честь и кричали: «Да здравствует дофин!» Он застенчиво озирался, словно приветственный возглас относился не к нему, а к кому-то другому, хотя знал, что приветствуют его. И у него сжималось сердце от горького и сладостного сознания, что отец, которого он любил и боялся, умер и что теперь он, Луи, главный. С тех пор как он пришел к власти, оба брата, толстый и стройный, возненавидели его еще более. Ксавье, по крайней мере, ограничивается тайным распространением куплетов. Но зато этот наглый, блудливый мот Карл, который каждые две недели вымогает у него деньги, кричит на всех углах, что он, Карл, украсил его рогами.
– Говорю тебе, Карл, – повторил он зло, почти угрожающе, – это ты подставил ножку Вогюйону.
– Перестань, – вмешался Ксавье.
– Хватит болтать вздор, – повелительным тоном ответил Карл.
– Я говорю только, как было дело, – настаивал на своем Луи. – Может быть, ты станешь это отрицать? – сказал он и, неожиданно вскочив, схватил Карла за запястья.
Карл, смеясь, хоть был и зол не на шутку, стал защищаться. Однако ему не удавалось вырваться из нескладных, но сильных рук Луи.
– Оставь же его в покое, – требовал Ксавье. Но Луи еще крепче сжал руки.
– Месье, месье, – урезонивал их Иосиф. Жены обоих принцев тихонько визжали.
Луи наконец отпустил брата.
– Сила у меня есть, – сказал он с глуповатой, смущенной улыбкой, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружающим. Затем он сел на свое место и снова принялся за еду.
Чтобы доказать себе и парижанам, что от встречи с Франклином он уклонился вовсе не из предубеждения, Иосиф старался общаться с людьми, неугодными Версалю. Он проводил много времени в беседах с опальным Тюрго и показывался чаще, чем прежде, в «швейцарском домике» – салоне мадам Неккер. Он даже не поленился съездить в Лювисьен, чтобы навестить самую ненавистную Туанетте женщину, графиню Дюбарри, «шлюху», «мразь». Еще при жизни старого короля Дюбарри, воздействовав через него на Марию-Терезию, заставила Туанетту заговорить с ней. Такого оскорбления Туанетта не могла ей простить и сразу после прихода Луи к власти добилась, чтобы эту ослепительно красивую двадцативосьмилетнюю женщину сослали в глухой Лювисьен. Туда и поехал к ней Иосиф. Возлюбленная старого короля показала ему свой знаменитый парк с прекрасными аллеями и беседками, а он сопровождал ее к столу; вернувшись в Париж, Иосиф расточал похвалы красоте и грации опальной фаворитки.
Иосиф посетил еще одну непопулярную в Версале особу, образ жизни которой вызывал толки в Париже, – писательницу мадам де Жанлис. Она была придворной дамой герцогини Шартрской, любовницей герцога Шартрского, воспитательницей и матерью детей этой четы, а также автором детских книжек прогрессивного содержания.
В салоне мадам де Жанлис не придавали особого значения этикету. Трижды в неделю, запросто, собирались у нее друзья. Иосиф, не желавший отличаться от прочих, явился без предупреждения и застал там писателя Карона де Бомарше.
Пьер не раз высмеивал Иосифа. Римскому императору, говорил он, живется легко. Ведь он всего-навсего флейта монархии, кулак же монархии – старая императрица. Она деспотически управляет, а молодой человек заботится о либеральном аккомпанементе.
От Пьера нельзя было требовать объективного отношения к Габсбургам. Несколько лет назад, когда Туанетта была еще дофиной, Пьер примчался в Вену, чтобы передать императрице Марии-Терезии пасквиль, направленный против ее дочери. Пьер с жаром рассказывал венскому двору, с каким трудом, ценою каких опасностей и приключений добыт этот пасквиль у его автора. Вот он, пасквиль. Пьер прочитал его королеве и вызвался заставить автора замолчать. Но, конечно, сочинителю нужны деньги. Однако тут в дело вмешалась завистливая венская полиция. Она утверждала, что опасности и приключения, о которых говорил мосье Карой, представляют собой плод фантазии, что раны, якобы полученные мосье в борьбе за рукопись, нанесены им собственноручно бритвой и что если мосье прочел пасквиль с таким чувством, то в этом нет ничего удивительного, поскольку он сам его написал. Императрица приказала арестовать Пьера. Потом, однако, одумалась и решила обойтись с ним кротко. Она снабдила его изрядной суммой денег и прислала ему дорогое кольцо. Это кольцо он носил и теперь и при случае любил небрежно заметить: «Сувенир от императрицы Марии-Терезии».
И все-таки, как только заходила речь о Габсбургах, он вспоминал об оскорблении, которое ему нанесли в Вене. По воле случая он пока еще не встречался с императором Иосифом. Но зато мысленно он не раз рисовал себе, как унизит габсбургского краснобая блестящей речью. Теперь Иосиф был в Париже, и Пьер ждал своего часа.
Смутно помня о тех венских проделках мосье де Бомарше, Иосиф не решался заговорить с этим сомнительным господином. Однако он читал его брошюры, а совсем недавно смотрел в «Театр Франсе» его комедию «Севильский цирюльник» и невольно восхищался этими произведениями. Кроме того, он слыхал, что мосье де Бомарше слывет главным заступником американских инсургентов во Франции, а ему, Иосифу, не хотелось, чтобы его опять заподозрили в боязни общения с такого рода людьми.
Он сказал мосье де Бомарше несколько любезных слов о «Цирюльнике». И самоуверенный Пьер стал еще самоувереннее. В присутствии коронованного лица в нем пробудилась вся его буржуазная гордость, он заговорил с Иосифом, как равный с равным, как интеллигент, труды которого оценены и признаны, с интеллигентом, которому предстоит еще себя показать. Он с дерзким изяществом упомянул об услуге, которую по милости судьбы ему довелось оказать престарелой императрице, и подробнейше рассказал о злосчастном пасквиле; некоторые места, благодаря хорошей памяти, он привел императору дословно, беспристрастно заметив, что в части формы автор обнаружил незаурядное остроумие. Он весьма тонко дал понять Иосифу, что в свое время околпачил его августейшую матушку.
Иосиф слушал его сдержанно. После неудавшейся встречи с Франклином и разговора с Водрейлем он стал осторожен. Со свойственной ему подчас объективностью он в глубине души признавал, что в пасквиле, который цитировал мосье де Бомарше, есть крупица правды; он сам заметил в сестре некоторые черты, высмеянные в этом сочинении.
Наслаждаясь ситуацией, Пьер, ободренный сдержанностью Иосифа, пошел еще дальше. Он заметил, что у парижан есть одна слабость: ради красного словца они готовы бездоказательно опорочить кого угодно. Ему случалось испытать это и на себе. Дама же, находящаяся в центре светской жизни, например, королева, неизбежно становится мишенью для злых шуток. Шутки эти различны: есть среди них грубые и глупые, но есть и тонкие, – эти особенно коварны. Взять, к примеру, высокую прическу, которая с легкой руки королевы, великой законодательницы мод, была принята во всей Европе и которую королева, пользуясь выражением одной из его брошюр, что для него крайне лестно, назвала «Ques-а-со?».[38]38
что это такое? (провансальск.)
[Закрыть] Клеветники утверждают, что эта прическа очень идет к высокому лбу и длинному лицу королевы, но уродует округлые, более близкие к классическому типу, лица парижских дам. Злые языки говорят, что австриячка ввела эту прическу только из ревности, только из неприязни ко всему французскому, только из желания обезобразить парижанок. Пьер всячески сожалел о склонности света к злословию.
Иосифа злила дерзость его собеседника. Не следовало вступать с ним в разговор. За последнее время он наделал много ошибок. Сначала сплоховал перед Франклином, а теперь этот Бомарше. В американских делах ему решительно не везет. Он чувствовал себя беспомощным, слепым, ему казалось, что какая-то невидимая рука толкает его на опасный путь. Он честно стремился к правильным, полезным, значительным поступкам, он чувствовал, что в этом его призвание, и вот он не справляется с самыми легкими, самыми простыми вещами.
И вдруг он очень непосредственно высказал свои чувства этому Бомарше.
– Видите ли, мосье, – сказал он, – легко иметь совесть, когда об этой совести приходится только писать или говорить. Но тот, кто действует, всегда вынужден, угождая одному, не угождать другому.
Слова Иосифа прозвучали не как остроумная фраза, а как крик души; Пьер это почувствовал и не нашелся, что ответить.
Прошла еще неделя; Иосиф достаточно подготовился к тому, чтобы приступить к решительному разговору с зятем и добиться его согласия на операцию.
Оба сидели в библиотеке Луи, окруженные книгами, глобусами и фарфоровыми поэтами. Граф Фалькенштейн, одетый очень тщательно в буржуазное платье, держался подчеркнуто прямо; Луи же сидел, опустив круглые плечи, по обыкновению неряшливый, грязноватый. Он как раз слесарничал с Гаменом, когда нагрянул Иосиф и насильно вовлек его в эту тягостную беседу.
Иосиф умел, если считал это уместным, быть очень сердечным. Сегодня он считал это уместным. Он говорил тоном старшего брата. Он уже консультировался с венским специалистом доктором Ингенхусом и с лейб-медиком Туанетты доктором Лассоном. С научной точностью доказывал он Луи, что операция совершенно безопасна и гарантирует полный успех.
Луи любил слушать людей сведущих; ученая деловитость Иосифа ему импонировала. Узнав о намерении шурина посетить Версаль, он сразу понял, что больше не сможет сопротивляться, что уступит настояниям Иосифа. С другой стороны, все его существо бунтовало против такого вмешательства. Ему не хотелось ничего изменять: quieta non movere – не шевелить пребывающее в покое – это было его глубочайшим убеждением. Он сидел грузный, мрачный, глубоко недовольный, замкнутый. Не глядя на собеседника, он беспомощно ерзал, теребил рукава.
Когда Иосиф кончил, Луи долго молчал. Иосиф не торопил его. Наконец Луи собрался с духом, начал говорить, привел старые доводы, высказанные уже премьер-министру Морена. Хотя Луи очень доверял старику, он испытывал робость и смущение, беседуя с ним об этих интимнейших, деликатнейших вещах. Другое дело Иосиф, государь милостью божией, как и он сам; Иосиф поймет эти тонкие и священные движения души, Иосифа можно не стесняться. Медленно и откровенно он изложил все свои опасения, и речь его превратилась из пустой отговорки в самую конфиденциальную исповедь.
Тело короля священно. Если бог сотворил Луи таким, каков он есть, и наделил его физическим недостатком, значит, в этом был высший смысл. Не согрешит ли человек, прибегший к вмешательству ножа, против воли божьей? Может быть, бог обрек его на безбрачие, ведь требует же он воздержания от своих священников.
Иосиф прекрасно понимал, как искренне, как честно говорил Луи. Не так легко опровергнуть аргументы, идущие от самого сердца. Но Иосиф был достаточно подготовлен. Хитрец Мерен выпытал все у Морепа, и окольным путем, через Мерси, Иосиф узнал о характере опасений Луи. Иосифу ничего не стоило рассеять его сомнения.
Сама по себе подобная богословская казуистика была глубоко противна трезвому вольнодумцу Иосифу. Император ненавидел поповщину, и если бы на месте зятя был кто-нибудь другой, Иосиф жестоко высмеял бы того за суеверные страхи. Но сейчас он собирался сделать дипломатический ход. Посоветовавшись по богословским вопросам с аббатом Вермоном, он решил разбить смехотворные, иезуитские доводы зятя такими же смехотворными, иезуитскими контрдоводами. И если только что Иосиф обнаружил удивительные познания в области медицины, то теперь он показал себя не менее сведущим и в вопросах теологии.
Обрезание, объяснил он Луи, ни в коем случае – насколько он, Иосиф, знает – нельзя рассматривать как богопротивный акт. Мало того что бог повелел соблюдать этот обряд своему избранному народу, собственный сын божий был обрезан, что явствует из Евангелия от Луки, глава 2, стих 21, и крайняя плоть его доселе хранится в одном итальянском монастыре. Правда, он лично, прибавил Иосиф гневно, считает эту реликвию подделкой, поповским надувательством, и придет время, когда он запретит выставлять ее напоказ. Но он тут же смягчился и самым дружеским тоном сказал:
– Согласитесь на операцию, Луи. Только так вам удастся выполнить библейскую заповедь – «плодитеся и размножайтеся». Конечно, – продолжал он лукаво, – если бы вы предпринимали эту операцию из сластолюбия, если бы вы уродились в своего покойного деда, то ваши опасения, может быть, и были бы справедливы. Но вы, сир, человек спокойный, умеренный, нисколько не похожий на молодого жеребчика, – и вы можете быть уверены, что и после операции сумеете успешно преодолевать искушения плоти. – Он улыбнулся.
Но Луи было не до улыбок. Он представил себе, как после удачной операции встретится с Туанеттой. Что он ей скажет? Как ему вообще вести себя с ней? При одной мысли об этом он почувствовал сковывающую робость. Он пыхтел и уныло молчал.
Иосиф поднялся, и Луи тоже пришлось встать. Рассеяв теологические опасения зятя, Иосиф приготовился выдвинуть главный аргумент – политический. Он знал, что на этот раз политика найдет отклик в душе Луи: от него не ускользнуло двойственное отношение короля к его братьям. Иосиф обнял зятя за плечи и, с некоторым усилием водя его по комнате, стал говорить о последствиях, которые повлекла бы за собой смерть бездетного Луи. Корона перешла бы к принцу Ксавье. Он, Иосиф, не может скрыть, что этот принц ему не очень понравился, и, если он не ошибается, Луи тоже не жаждет видеть Ксавье на троне. Он, Иосиф, убежден, что на семейном пакте, на политических и родственных связях между правителями Франции, Австрии и Испании, держится не только благоденствие этих стран, но и благополучие всего мира. Может быть, Луи относится к этому союзу с меньшим энтузиазмом, чем он сам, но представить себе политику трех стран вне этого альянса уже невозможно. Если же на трон сядет принц Ксавье, семейный союз распадется, коалиция трех католических держав окажется под угрозой, а последствия этого не поддаются учету. Во имя безопасности всего мира ему следует довериться доктору Лассону и согласиться на небольшую операцию.