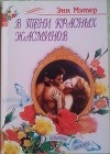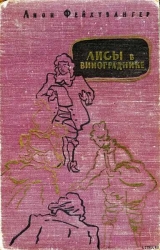
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 57 страниц)
Теперь Троншен снова обрушился на Вольтера.
– Вместо того чтобы жить на проценты, – в сердцах сказал он, – вы живете с основного капитала. Вы что же думаете, его надолго хватит? Чтобы выдержать жизнь, которую вы здесь ведете, нужно быть железным. Поезжайте-ка лучше в Ферне, – приказал он, – покуда еще не поздно. – И сам написал в Ферне, чтобы за Вольтером выслали карету и слуг.
Верный секретарь Ваньер был счастлив. Он всем сердцем радовался мысли, что Вольтер снова вернется в Ферне, займется серьезной работой, будет хоть в какой-то мере вести разумный образ жизни. Но маркиз де Вийет всеми силами старался помешать отъезду Вольтера.
Он сиял от восторга, входя в свой дом, который стал теперь центром Парижа. Его радость была столь откровенна, что о ней знали все, и старый Морена разразился эпиграммой. «Малыш Вийет, – сочинил он, – теперь ты очень знаменит; это слава карлика, который семенит перед великаном».
Больше всего противилась отъезду в Ферне толстая племянница Вольтера мадам Дени. Она ненавидела деревню и обожала сутолоку своего родного Парижа. Мадам Дени допускала, что в доме Вийета обожаемому дяде живется не очень спокойно и не очень удобно. Но это легко можно изменить: нетрудно найти другой, более подходящий дом, и она уже вела переговоры о покупке особняка на улице Ришелье.
Вольтер сам не знал, как ему поступить. Он скучал по своему Ферне. Он знал, что Троншен прав, Париж приближал его к могиле. Но тут у него была работа, которой он мог заниматься только здесь. Совсем недавно Академия избрала его своим президентом. Это была прекрасная возможность осуществить свой заветный замысел – обновить «Словарь французского языка». И разве не нужно ему обсудить множество вопросов, связанных с изданием собрания собственных сочинений, с Бомарше, этим превосходным другом и товарищем по работе! И неужели из тысяч людей, жаждущих встречи с ним, он не должен повидать хотя бы сто или двести и побеседовать с ними на очень важные темы, важные и для них, и для него?
– Уезжайте, – настаивал Троншен, – вы умрете здесь.
– Останьтесь, – настаивали Вийет и мадам Дени. – Вы последний раз в своем родном городе.
– Мы не можем лишиться вас, – уговаривали его философы, поэты, политики и актеры.
Прибыл экипаж Вольтера, его старые, верные слуги, его собака Идаме. У слуг, когда они целовали его руку, стояли в глазах слезы, собака прыгала от радости.
– Они, кажется, соскучились по мне в Ферне, – сказал Вольтер. Он решил уехать.
Тут пришла весть о новом выпаде против него со стороны аббата Борегара, вождя клерикалов. Аббат уже и прежде громил его с кафедры собора Нотр-Дам, а теперь этот великий проповедник с амвона дворцовой капеллы в Версале призвал к крестовому походу против Вольтера. «Все труды так называемых философов, – вещал он, обращаясь к королю и придворным, – направлены лишь на то, чтобы опрокинуть трон и церковь. Но по неблагоразумию эти произведения разрешено распространять, и вместо заслуженной кары они приносят их сочинителям признание. Сова языческой Минервы[96]96
Римская богиня мудрости Минерва часто изображалась с совой, и поэтому сама сова нередко становится в аллегорических изображениях символом мудрости.
[Закрыть] прилетела в Париж, она бесстыдно царит здесь, и ей преступно курят фимиам ее почитатели. Идола ереси проносят открыто на носилках по улицам столицы христианнейшего короля. Публично, со сцены, – гремел аббат, явно намекая на стихи «Ирэн», – философы заявляют, что они разрушат храм божий. В преступной своей руке они держат наготове топор и молот и ждут только подходящей минуты, чтобы низвергнуть трон и алтарь. Разве те, кого это касается, забыли, что и терпимость должна иметь границы и что доброта становится пороком, если она не ополчается на богохульство?»
Услыхав об этой проповеди, Вольтер изменил свое решение. Попы хотят выгнать его из Парижа? Так нет же, он не отступит перед их издевательствами. Его охватил великий гнев: Ecrasez l'infame! Он остался назло им, несмотря на заклинания доктора Троншена и непрестанные мольбы Ваньера. Да еще подписал контракт о покупке дома на улице Ришелье.
– Старый дурак подписал свой смертный приговор, – сказал доктор Троншен.
В Ферне накопились срочные дела, и Вольтер отослал своего верного секретаря домой. Нелегкое это было прощание.
После отъезда Ваньера некому было удерживать старика. Он беспрерывно принимал посетителей, выслушивал комплименты, выезжал.
Он исполнил наконец просьбу своего друга Бомарше и нанес ему визит. Пьер мечтал, чтобы договор на собрание сочинений Вольтер подписал в его доме, на улице Сент-Антуан.
Визит старика глубоко взволновал Бомарше. Гостя он встретил у ворот своих владений. Здесь был уже наготове портшез, и, в то время как старик удобно восседал в нем, хозяин почтительно шел рядом и показывал ему двор и сад. Растроганно улыбаясь, Вольтер слушал об аллегорическом храме, названном в его честь. Дул ветер, и земной шар вращался, управляемый стволом пера. Пьер был исполнен смирения и гордости.
Потом он представил гостю Терезу и своего племянника Фелисьена.
Фелисьен молчал. Не отрываясь, смотрел он на старика своими испытующими глазами. Но Вольтер не чувствовал желания благословить его, как в свое время внука Франклина. В этом юноше была какая-то требовательность, какая-то, при всем его восторге, критичность.
Тереза тоже говорила мало. Но ее лицо и то, как она держалась, выражало глубочайшее уважение, которое она питала к этому человеку, всю жизнь боровшемуся за справедливость, боровшемуся упорней, страстней, чем кто-либо другой, даже чем ее Пьер. Имена тех, кого он освободил или чью репутацию спас от клеветы, окаймляли, как доски почета, весь его жизненный путь. Тереза с благоговением склонилась перед ним.
А потом Бомарше попросил Вольтера подписать договор о правах и обязанностях издателя собрания его сочинений. Это был короткий договор, но он огромной тяжестью ложился на плечи Пьера. Вольтер взял свой лорнет и внимательно прочитал документ.
– Хороший, ясный договор, – сказал он.
Пьер вспомнил, что, по подсчетам Мегрона, ему придется вложить в это издание более миллиона ливров. Но эту мысль прогнала другая: «Я брат и преемник Вольтера». И еще: «После того как я принес такие чудовищные жертвы неблагодарной Америке и Франклину, неужели я остановлюсь перед тем, чтобы пожертвовать каким-то ничтожным миллионом ради величайшего духовного творения нашего века». Схватив перо, он подписал договор. А потом подписал старик. Вот они, их подписи, рядом: «Бомарше – Вольтер».
Огромная, серая, смотрела в широкое окно Бастилия, в которой дважды сидел Вольтер и которая грозила теперь издателю его трудов.
Ни отсутствие Ваньера, ни рассеянная светская жизнь не могли оторвать Вольтера от литературной работы. Как только ему стало чуть лучше, он потребовал последний вариант рукописи «Ирэн» и пришел в ярость, увидев, какие изменения претерпела пьеса во время репетиций. Теперь он сам занялся окончательной редакцией, вносил изменения, правил. Начал заново репетировать с актерами. И не успокоился, пока не добился от них всего, что они могли дать, пока из слияния их творчества с его трагедией не возникло новое, единое произведение.
Он лично присутствовал на постановке этого последнего, окончательного варианта «Ирэн».
Маленький, тощий, старомодно и роскошно одетый, закутанный в соболью шубу, которую прислала ему царица Екатерина, ехал он в «Театр Франсе» в своей синей, разукрашенной звездами карете, приветствуемый почтительной и ликующей толпой. В вестибюле и в проходе театра яблоку негде было упасть. Ему с трудом расчистили путь к его ложе. Собравшиеся целовали ему руки, выдергивали на память ворсинки из его шубы. Когда он наконец вошел в ложу, публика повскакала с мест. Зрители неистовствовали, кричали, аплодировали и топали ногами так, что в зале поднялась густым облаком пыль.
И вот начался спектакль, ради которого он приехал в Париж. Все оказалось значительней, чем предполагал Вольтер. Ибо после воинственной проповеди аббата Борегара громовые стихи главнокомандующего Алексиса, направленные против трона и алтаря, приобрели новое, еще более сильное звучание. Они были ответом разума на упреки и оскорбления, которые обрушивали на него церковь и суеверие. Так и восприняли их слушатели. Бурей восторга встретили они эти звучные строки, и по окончании спектакля, публика осталась в пыльном зале и устроила овацию защитнику Разума. Снова поднялся занавес: посреди византийского императорского дворца на пьедестале стоял бюст Вольтера, и актеры, не снявшие еще своих театральных костюмов, увенчали его цветами. Волны оваций вздымались, падали, снова вздымались, не утихали. Об этом мечтал Вольтер, но это было больше того, о чем он мечтал. Он плакал и смеялся от радости, ощущал пустоту и разочарование. И это все? Неужели для этого он сюда приехал? Неужели для этого сократил себе жизнь? Он почувствовал тоску по Ферне, по своему Ваньеру. Ему было очень грустно оттого, что он не может продиктовать сейчас Ваньеру несколько горьких и иронических стихов.
Еще резче он ощущал чувство торжества, смешанное с ироническим сознанием тщеты успеха, когда несколько дней спустя он поехал в Лувр, чтобы принять звание президента Академии наук.
И на этот раз собрались тысячи людей, они приветствовали его, и над Сеной звучали крики восторга. Члены Академии торжественной процессией вышли ему навстречу на просторный двор: такой чести не удостаивался ни один правитель. В их сопровождении он вошел в зал.
Доктор Франклин тоже был здесь. Он привез своего коллегу Джона Адамса, и тот сидел среди гостей. С прекрасной речью обратился к Вольтеру д'Аламбер. Вольтер поблагодарил его и поклонился Франклину, который энергично ему аплодировал.
Раздались голоса, требовавшие, чтобы оба великих мужа вместе поднялись на помост. Они подчинились.
– Обнимитесь! – закричали в зале. – Обнимитесь и поцелуйтесь по французскому обычаю.
Оба старика стояли в нерешительности. Они знали, что театральность, громкие слова и выразительные жесты неотделимы от славы. Но Франклин был большой и грузный, Вольтер маленький и чудовищно худой, и оба боялись показаться смешными. Однако они понимали справедливость этого требования. Оба они немало сделали, чтобы проложить дорогу революции в Америке. И они подчинились. Они обнялись и поцеловали друг друга в дряблые щеки.
«Какие мы актеры, – думал Вольтер. – Но эта сцена хороша, она полна внутреннего значения». О том же думал и Франклин. Вольтер ниспроверг все предрассудки, которые стояли на пути создания Соединенных Штатов. Раньше всех сформулировал он принципы, из которых исходила американская революция, и сформулировал их столь убедительно, что они увлекли за собой весь мир. Доктору вспомнилось дерзкое замечание мосье Карона, который сказал, что если Франция – дух свободы, то Америка – ее плоть. И вот они стояли на трибуне – Вольтер и Франклин, и зал аплодировал им и кричал:
– Смотрите, вот они вместе. Солон и Софокл.
Джон Адамс смотрел, слушал и думал: «Популярность этого доктора honoris causa вернее всего обеспечивает Америке кредит в Европе». И еще он думал: «Мир хочет быть обманутым. В зале нахожусь я, а французы видят в этом старом эпикурейце представителя всех патриархальных добродетелей».
– Вы не должны, дорогой мистер Адамс, – объяснял ему по дороге домой Франклин, – обижаться на парижан за их преувеличенные, экстравагантные похвалы. Ведь это народ, воспитанный в монархическом духе. Поэтому все великое для них олицетворяется в одном человеке. Они считают, что все делается кем-то одним, и не понимают, какое множество отважных людей должны были объединить свои усилия для того, чтобы возникла наша Америка.
На мгновение Джон Адамс был просто ошеломлен такой скромностью. Он невольно спросил себя, был ли бы он в состоянии на месте Франклина так трезво рассуждать. Вечером в подробном письме он рассказал своей Абигайль о популярности Франклина. «Слава его, – писал Джон Адамс, – превосходит славу Лейбница, Ньютона, Фридриха и Вольтера. Нет ни одного ремесленника, ни одного кучера, ни одной прачки, ни одного человека в городе или в деревне, который не знал бы его имени. Его считают другом всего человечества и ждут, что он возвратит нам золотой век. Его лицо и его имя знакомы всем, как луна». И он описал ей сцену, которая разыгралась в Академии. «Они в самом деле обнялись, расцеловались, тискали друг друга и кланялись – два старых комедианта на великой сцене философии и цинизма».
Перед старым домом Пьера на улице Конде остановилась карета.
– Мосье де Бомарше дома? – спросил слугу молодой человек в дорожной одежде.
Слуга высокомерно ответил, что мосье де Бомарше живет теперь в доме на улице Сент-Антуан.
– Ах да, – сказал незнакомец, – я ведь совсем забыл.
Тем временем подоспела любопытная Жюли.
– Это вы, мосье Поль? – воскликнула она. На лицо ее отразился легкий испуг, но она быстро овладела собой. – Конечно, вы останетесь здесь, – распорядилась она, – сейчас я пошлю за Пьером.
Она ввела Поля в дом, отвела ему комнату, позаботилась о его вещах.
Поль выглядел ужасно. Правда, его большие карие глаза сияли, как прежде, но он казался истощенным и высохшим. И все же он был необычайно оживлен и болтал без умолку. Конечно, он написал Пьеру о своем приезде, но письмо, по-видимому, перехватили англичане.
Пьер тоже испугался, увидев, как изменился его друг. Он с трудом взял себя в руки. Поль рассказывал, что теперь, после заключения союза, ему уже почти нечего было делать в Америке, и он решил, что будет полезнее фирме «Горталес» здесь, в Париже. Он говорил вздор, и все это понимали. Поль вернулся потому, что хотел умереть в родном Париже, а не на Западе, среди чужих людей.
Может быть, чтобы отвлечься от мыслей об этом, Поль без умолку говорил. Он рассказал о влиянии, которое приобрели братья Ли и их приверженцы в Конгрессе и во всей стране. Поль опасался, что Сайлас Дин не сумеет устоять против их интриг, да и фирме «Горталес» также придется преодолеть еще немало затруднений. Но как бы то ни было, многие члены Конгресса имеют теперь ясное представление о заслугах Пьера, и в конце концов претензии фирмы будут удовлетворены. Для этого, однако, нужно время. Потом он подробно рассказал о политическом и экономическом положении Соединенных Штатов.
Пьер слушал внимательно. Американская политика занимала Поля, очевидно, гораздо больше, чем интересы фирмы «Горталес». Пьера огорчило также, что Поль даже не спросил его о том, что же за это время произошло здесь, в Париже. Сердце Пьера полно было волнений, о которых ему хотелось рассказать Полю, он хотел, чтобы Поль узнал обо всех великих и мудрых делах, совершенных им, Пьером, в отсутствие друга: о встрече Франклина и Туанетты, о новом доме, который он построил, о неприятном и опасном положении, в котором он очутился из-за мелочности Конгресса, и прежде всего о низости и неблагодарности ревнивого Франклина. Но Поль был явно занят собственными делами и воспоминаниями.
К неудовольствию Жюли, Пьер решил, что Поль должен перебраться в дом на улице Сент-Антуан, и перебраться сегодня же.
После обеда Поль побывал у своего старого парижского врача, доктора Лафарга. Тот сказал, что состояние Поля ухудшилось после этого утомительного путешествия, как он его и предупреждал. Но теперь Поль, к счастью, находится под хорошим присмотром и скоро будет совсем молодцом. Доктор говорил очень авторитетным тоном, но Поль не верил ни единому его слову.
Потом, – и это было целью, ради которой он приехал, – Поль один обошел улицы Парижа. Он встречал кое-кого из знакомых, но ему ни с кем не хотелось говорить, и он старался затеряться в толпе. Впрочем, это даже не было нужно: его и так вряд ли бы узнали. Он постоял недолго на мосту Пон-Неф и на площади Людовика Пятнадцатого, где было особенно большое движение. Его толкали и бранили, а он стоял и радовался. Потом Поль посидел в прокуренном кафе, а оттуда зашел в таверну дядюшки Рампоно. Посетители танцевали, смеялись, пели. Они пели старые песни и новые, чувствительные и веселые, непристойные. И, улыбаясь, Поль услышал, что они все еще насвистывают и поют увертюру из «Цирюльника». А они горланили и курили, и некоторые сквернословили, и их вышвыривали, другие же, взявшись под руки, раскачивались и распевали хором: «Братец Жак, братец Жак, дигу, дингу, донг».
Потом он опять бродил по улицам и слушал крики разносчиков. Зеленщицы кричали: «Свежий салат, свежий салат, нет ничего полезней! Молодой цикорий, дикий молодой цикорий!» А продавец сыра кричал: «Хороший, выдержанный, пахучий ливаро! Камамбер, настоящий, выдержанный!» А плетельщики стульев кричали: «Отдайте ваш стул в починку, барышня, зачем вам сидеть на полу?» А цветочницы кричали: «Как пахнут наши фиалки, как пахнут! Купите их, красавица, вы будете пахнуть так же». Поль смотрел на парижан, которые всегда спешили, и на парижанок, которые всегда находили время ответить взглядом на взгляд. Поль слышал, видел, ощущал всю эту жизнь, и в нем теплилась глупая надежда – а вдруг доктор Лафарг не лгал: ведь немыслимо, что все это будет, а его, Поля, уже не будет.
Вдруг он почувствовал страшную слабость. Он нанял фиакр и поехал на улицу Сент-Антуан, к Пьеру.
Тем временем Пьер рассказал Терезе о возвращении Поля. Он не скрыл от нее, что юноша выглядит ужасно и вряд ли протянет долго. «Америка не пошла ему впрок», – произнес он тоном, в котором прозвучало все, что не было высказано словами: вина, раскаяние, оправдание. Он надеялся, что Тереза не будет больше говорить об этом. И она не заговорила.
Едва успев поздороваться с Терезой, Поль вынужден был лечь. Потом, перед обедом, Пьер показал ему свои владения. Но Поль очень быстро устал, он не смог как следует обойти дом, да он и не выказал к нему подлинного интереса. Даже грандиозный проект издания Вольтера не увлек его. Зато он был полон горячего, дружеского интереса ко всему, связанному с участием Пьера в больших исторических событиях. Он очень взволновался, когда Пьер рассказал ему о непонятной враждебности Франклина. Но когда Пьер стал говорить о своих запутанных делах, Поль снова ушел в себя. Только однажды он оживился и неожиданно заметил, что спокоен за своего друга. Он уверен, что у Пьера все кончится хорошо. Это прозвучало так, словно он подвел черту под всем сказанным Пьером: ему было явно трудно даже изображать внимание. И внезапно Пьер понял, что этот юноша уже покончил с очень многими вещами, что они умерли для него, а он для них и что к этим вещам относятся, к примеру, и дела фирмы «Горталес». И, поняв, что это значит, Пьер испугался.
На другой день, ничего не сказав другу, Поль поехал в Пасси. В пути он чувствовал себя очень плохо, и мысль, что, явившись без предупреждения, он может показаться назойливым, так угнетала его, что он готов был вернуться.
Он все же приехал в «сад». Мосье Финк подошел к нему и, смерив незнакомца взглядом, сказал:
– Господин доктор философствуют.
Поль стоял в нерешительности.
– Тогда мне, пожалуй, лучше уехать, – сказал он.
Мосье Финк еще раз посмотрел на него и, пораженный тоном его слов, сказал:
– Попытаюсь доложить о вас.
Франклин принял Поля в саду, под буком.
– Я помешал вам, – проговорил Поль.
– Присаживайтесь, – ответил Франклин спокойно, почти весело, стараясь скрыть, как его тронул вид этого лица, на котором лежала печать обреченности. – Принесите-ка нам, пожалуйста, мадеры, – приказал он Финку.
Они сидели рядом, старик и молодой человек, над обрывом, по которому террасами спускался к Сене красивый парк. Они смотрели на реку и на город Париж, серебристо-серый, раскинувшийся на другом берегу. Сквозь молодую листву огромного бука мягко светило солнце. Сняв очки, Франклин поигрывал палкой. Сидя рядом, они лишь изредка обменивались взглядами, но каждый ощущал присутствие другого.
Франклин попросил Поля рассказать о его впечатлениях об Америке. Поль откровенно признался ему в известном разочаровании, которое вызвали у него грубость и нецивилизованность этой молодой страны. Американские тори гораздо многочисленней, чем он предполагал, и среди них очень многие получили образование и утонченное воспитание. Республиканцам, таким образом, приходилось вести борьбу не только против англичан, но и против сильного отечественного союза культуры и собственности. Поль говорил по-английски, медленно, но ясно и уверенно. Неожиданно он прервал себя.
– Mais ca ira, – произнес он с легкой улыбкой. – Житель нашего континента, – продолжал он, – не может даже представить себе, покуда он сам не побывает там, что значит жить в той части земного шара, которая не отягощена многовековыми традициями. В Америке нет не только дворцов и замков, эта страна уже до революции почти не знала привилегий и кастовости. Разумеется, мы слышали об этом, но когда я воочию это видел, я каждый раз поражался. Тон, каким ваши граждане разговаривают с властями, а ваши солдаты с офицерами, казался мне чудом, и я до сих пор еще не могу к нему привыкнуть. И вот еще что! Когда отсюда приезжаешь к вам, тогда только понимаешь, как обширна и безлюдна Америка с ее тремя миллионами населения. Наша Европа так переполнена людьми, князьями, народами, привилегиями. Правда, мы сумели выдвинуть и обосновать требование о построении государства на принципах разума. Но создать такое государство в действительности можно только в вашей стране. Я понял, что означает изречение Лейбница: «Эта страна – чистый лист бумаги, на котором можно написать что угодно».
Поль говорил медленно, не сразу находя нужные слова. Франклин внимательно слушал, изредка отпивая глоток мадеры, и что-то рисовал палкой на песке. Время от времени, не переставая слушать, он поглядывал на Поля и находил приметы разрушения в его лице, а потом рассматривал свои руки, загорелые и обветренные, и думал о разрушении собственного тела, и о том, что жизнь каждого человека уже с самого ее начала есть медленное умирание, и о том, как много болтают о старости и как мало ее знают. Следовало бы написать об этом другу Ингенхусу. Тот рассказал ему как-то много интересного о замедленном кровообращении у людей в пожилом возрасте.
Тем временем Поль закончил свой рассказ.
– Вы сделали правильные наблюдения, друг мой, – сказал Франклин. – Тори у нас многочисленны, и в большинстве своем это люди образованные. Но еще опаснее равнодушные граждане – ни друзья, ни враги. Для нас, американцев, которым приходится не только наблюдать, но и сражаться, есть только одна дорога: мы не имеем права запутаться в сложности явлений. Здесь, в Париже, можно заниматься тончайшим анализом каждого сложного вопроса, но человек, желающий устоять в той борьбе, которую ведем мы, должен стремиться к простоте мыслей. Я ведь тоже, – и он улыбнулся уголками тонких губ, – я ведь тоже не всегда был мужиковатым философом, которым меня все здесь считают. Но когда я пытаюсь уяснить себе положение Америки в целом, я стараюсь на все смотреть проще и видеть самое главное.
Он повернул к Полю свою могучую голову, его большие выпуклые глаза смотрели внимательно и строго.
Полю было приятно, что Франклин разговаривал с ним, как с близким другом, и неожиданно подумал вслух.
– Почему, доктор Франклин, вы приказали наложить запрет на товары мосье де Бомарше?
Поль сам испугался своей дерзости, и действительно, Франклин рассердился на молодого человека, который осмелился потребовать от него отчета. Но гнев исчез, прежде чем он успел отразиться на широком лице старика. Он сам подал пример своей откровенностью, и если уж кто-либо имел право задать ему подобный вопрос, то в первую очередь этот обреченный на смерть, который пожертвовал остатком своей жизни ради Америки и ради этого мосье Карона. Юноша, очевидно, не понимал, как человек, которого считают мудрецом, мог показать такое отсутствие мудрости. Франклин и сам не понимал этого.
– Я поступил необдуманно, – признался Франклин. – Я погорячился.
У Поля потеплело на сердце, когда он услышал эти слова и тон, которым они были сказаны. Великий человек поступил, повинуясь прихоти, а не разуму, – значит, он спустился со своей недосягаемой высоты и стал таким же, как все. Из статуи, которой все восхищались, он превратился в человека из плоти и крови. Но в то же время Поль ясно, до боли, понял, что для Пьера к Франклину нет пути. Неприязнь Франклина была инстинктивной, и тут не могли помочь никакие доводы разума. Но все эти чувства и рассуждения померкли перед огромной благодарностью Поля. Он был глубоко признателен старику за то, что тот позволил ему заглянуть в тайники своего сердца, он чувствовал, как близки они друг другу. После ухода Поля Франклин испытывал противоречивые чувства. Хорошо сидеть под ласковым солнцем и смотреть на прекрасный Париж. Когда же подумаешь, что молодого мосье Тевено через год уже не будет в живых, а сам ты со своей подагрой и со своими струпьями все еще будешь существовать, тебя охватывает какое-то странное чувство боли и радости.
Франклин отогнал эти жуткие мысли и задумался над своей странной антипатией к мосье Карону. Он-то прекрасно знал, что сделал мосье Карон для Соединенных Штатов, и сделал не только ради выгоды, что Конгресс несправедливо задерживает честно заработанные деньги и что у него, Франклина, есть особые основания быть благодарным мосье Карону. Но все эти соображения не помогли. Мосье Карон с его прыткостью и его напыщенной болтовней был ему неприятен. Слишком уж он француз.
Франклин попытался посмеяться над своей антипатией, он вспомнил анекдот, который недавно придумал: «Маркиз Горгонзола повстречал как-то виконта де Рокфора.[97]97
Горгонзола и рокфор – довольно похожие сорта сильно пахнущего сыра.
[Закрыть] – Разумеется, у него есть заслуги, у этого Горгонзолы, – рассказывал потом мосье де Рокфор, но знаете, от него так странно пахнет».
Спустя несколько дней Тереза в присутствии Фелисьена попросила Поля, чтобы он подробно и совершенно откровенно рассказал ей об Америке. Оба молодых человека сразу оживились: Поль – потому, что мог говорить, Фелисьен – потому, что мог слушать.
Возвращение Поля, пребывание под одной крышей с ним, волновало Фелисьена. Ни Пьер, ни Тереза не объяснили ему настоящей цели поездки Поля. Но он сам понял, что Поль сознательно пожертвовал остатком своей короткой жизни, чтобы собственными глазами увидеть новый мир, Америку. Если человек готов заплатить за это жизнью, значит, виденное им представляет невероятную ценность. Получив возможность увидеть и услышать Поля, Фелисьен словно впал в опьянение.
Когда Поль стал рассказывать, Фелисьен не сводил с него глаз. И казалось, это горячее участие подстегивает Поля. Он говорил просто, но выразительно. Ничего не утаил о тех злоключениях, которые ему пришлось пережить. Рассказал о бесчисленных трудностях, которые приходилось преодолевать в Америке. Сообщил, как много совершено ошибок, которые обозлили и сделали несносными даже спокойных людей. Кроме того, большинство людей, живущих по ту сторону океана, не привыкло прятать недобрые намерения под хорошими манерами. Себялюбие не дает себе там труда маскироваться. Оно является во всем уродстве и бесстыдной наготе. Поль долго говорил об этом, подкрепляя свои слова множеством примеров.
Но, продолжал он, из громадного количества нередко отвратительных частностей в результате все же возникает величественное и внушительное благородное целое. Люди ничтожны, но, хотят они этого или нет, ими движет великая цель – воля к разуму, это крупнейшее завоевание нашего века, стремление создать государство, основанное на разумном порядке. И как ни жалко порой поведение отдельных людей, народ в целом переносит обрушивающиеся на него удары с уверенным упорством, с достойной удивления выдержкой.
– Всякий раз, – продолжал Поль, – когда мне приходилось иметь дело с каким-нибудь сварливым, недоверчивым конгрессменом или разговаривать с каким-нибудь сквернословом-солдатом из армии Вашингтона, меня удивляло, как такие никчемные люди могли осуществить столь великое дело – создать республику свободы и разума – и как сумели они ее сохранить. Когда в Англии или во Франции находишься в толпе, чувствуешь себя, пожалуй, тепло и уютно, и только. Но в Америке, если ты находишься в толпе, всегда наступает мгновение, когда вдруг вспыхивает нечто великое. Да, быть в толпе и отдаться порыву, расти вместе с ней, стать частью массы и не стыдиться того, что ты ее часть, – это возможно ныне только в Америке. У нас, у французов, – закончил он, – есть великие люди, у нас есть Монтескье и Гельвеций, Тюрго и Вольтер, Жан-Жак и, конечно, мой друг Бомарше. Но все наши герои, поэты и философы не смогли вывести Францию из ее жалкого состояния, а эти простые горожане и крестьяне свергли своих английских поработителей.
В саду, недалеко от храма Вольтера, у Поля опять случился приступ кровохарканья. Доктор Лафарг сказал, что он не проживет до вечера. Хотя Пьер и его домашние были подготовлены к такому исходу, он поразил их своей ужасной внезапностью.
В свои последние часы Поль был в полном сознании. Пьер, Тереза и Фелисьен находились при нем неотлучно. Пьер сдерживался изо всех сил, чтобы не разрыдаться.
– По крайней мере, в Америке теперь многие знают, что без вашей помощи Соединенные Штаты не могли бы победить, – сказал Поль и добавил: – Хорошо, что я поехал в Америку. И пусть никто на это не сетует. – И еще он сказал: – Доктор Франклин сожалеет, что задержал ваши товары.
Пьер посмотрел на него, ничего не понимая.
– Вы были у Франклина? – спросил он.
Поль кивнул, и лукавая усмешка пробежала по его лицу.
Большой, сильный Пьер безудержно рыдал над умершим; он не мог овладеть собой. Ему казалось, что вместе с этим юношей ушла и лучшая часть его самого. Он совсем забыл о Терезе. Никогда, никогда больше не найдет он такого друга. Нет человека, который, зная все его слабости, так непоколебимо признавал бы его достоинства. Он громко стонал и пенял на себя за то, что не воспрепятствовал отъезду Поля в Америку.
Фелисьен смотрел на мертвеца странным, неотрывным взглядом, словно желая навеки вобрать в себя это лицо. Стоя у гроба, он казался гораздо старше своих лет и взрослее.
Вскоре заплаканные глаза Пьера встретились с глазами мальчика, и Пьер почувствовал, как непохоже его поведение на поведение племянника. Пьер перестал рыдать, почти со страхом поглядел на Фелисьена и внезапно вышел из комнаты.
Умывшись, он сел к письменному столу. Собака Каприс смотрела на него внимательно, удивленно и непонимающе. Он думал. Он думал о том, что последний свой визит Поль нанес доктору Франклину. Поль сделал это ради него, Пьера, и все же Пьеру было это обидно. Такой пустоты, стужи и скудности внутри себя и вокруг себя он еще никогда не чувствовал.