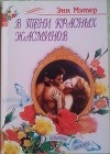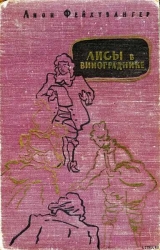
Текст книги "Лисы в винограднике"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 57 страниц)
Луи, конечно, не собирался казнить швейцарца Ульриха Шецли. Но как с ним поступить, он не знал; военный министр Сен-Жермен обычно не терпел никаких нарушений дисциплины. Пребывавший в нерешительности Луи, пожалуй, даже обрадовался, когда Туанетта попросила его отдать ей гвардейца и поселила Ульриха Шецли в своей деревушке. Швейцарец был с позором уволен из гвардии и с почетом водворен в Трианон.
Сегодня, в день рождения короля, Ульриху было совестно попадаться кому-либо на глаза; никакие уговоры деревенского старосты не помогали. Но сейчас его безжалостно вытащили из домика. Он вышел, сгорая от стыда за свой ужасный проступок. На нем был швейцарский костюм, длинный кафтан серого сукна и очень короткие панталоны; художник Юбер Робер сделал эскиз костюма по описаниям, содержавшимся в альпийских романах знаменитого романиста Клари де Флориана. Рослый, по-военному осанистый Ульрих смирно стоял перед господами и дамами, а они его обозревали. Принц Карл даже обошел его кругом. Луи поглядел на него своими близорукими, мигающими глазами, взглянул на его каменно-неподвижное лицо и сказал:
– Ну вот, стало быть, эта проблема решена. – Он подчеркнул слово «эта». Компания удалилась, а швейцарец Ульрих Шецли все еще стоял навытяжку.
Гости Туанетты приступили к осмотру внутреннего убранства дома. Вестибюль, лестница, передняя, столовая, маленький и большой салоны, крошечная библиотека и просторная гардеробная, будуар и спальня были украшены общими усилиями лучших живописцев и скульпторов Франции.
Наибольший интерес вызвала спальня. Внимание гостей привлекли не изысканная, обитая голубым шелком мебель, не камин с великолепными часами, не полотна Патера и Ватто, а три картины, присланные Туанетте из Шенбрунна. Кроме картин, обещанных дочери Марией-Терезией, прибыла еще одна, третья, которую пожелал подарить Туанетте Иосиф.
Обе картины, подаренные Марией-Терезией, превзошли ожидания Туанетты: в ее памяти они оставались не такими красивыми. Они были написаны художником Вертмюллером и изображали Туанетту девочкой. Ей было тогда десять лет; по случаю свадьбы брата Иосифа маленькие эрцгерцогини устроили оперно-балетное представление. На одной из картин Туанетта танцевала со своими братьями Фердинандом и Максимилианом; в красном корсаже и юбке из белого, в цветах, атласа у нее был очень детский вид. Гораздо своеобразнее и, пожалуй, привлекательнее была она на другой картине; здесь, вместе с сестрой и братом, на фоне нежного, не то античного, не то английского пейзажа, она старательно и серьезно исполняла танец из какого-то мифологического балета. Она очень нравилась себе на этом строгом, но полном изящества полотне и чувствовала, что нравится здесь и другим.
Самой замечательной была, однако, третья картина. Она изображала дядю Карла с двоюродным дедом Максимилианом и старым эрцгерцогом Иосифом Марией в монашеских одеждах, роющими себе могилу. Туанетта не помнила, чтобы она когда-либо видела эту картину в Вене, похоже было на то, что брат Иосиф прислал ее из какого-то злобного озорства. Первые две картины преподнес Туанетте Мерси, а эту она получила из рук аббата Вермона. Сначала мрачная шутка Иосифа ее рассердила, но потом она стала над ней смеяться, тем более что и Водрейлю странная картина показалась очень забавной. Вопреки совету своих живописцев, находивших это произведение недостаточно художественным, Туанетта решила повесить картину у себя в спальне. Здесь это полотно теперь и висело. Веселые, элегантные гости Туанетты разглядывали его с любопытством и некоторой неловкостью.
Ранний ужин прошел весьма оживленно. С помощью особого приспособления стол опускался и поднимался. Поднимался он, уставленный блюдами, а об остальном заботились безмолвные служители, так что лакеев не требовалось. Туанетта объяснила, что решила экономить и поэтому сохранила это устройство, оставшееся от блаженной памяти деда, Людовика Пятнадцатого. И вообще в целях экономии она старалась по возможности использовать старую мебель; даже кровать ее была уже в употреблении. Она шепотом поведала Габриэль, что кровать некогда принадлежала «шлюхе» Дюбарри. Когда эта история распространилась среди гостей, мосье д'Анживилье, в свою очередь, не мог не шепнуть соседям, что эта, сохраненная в целях экономии кровать, пожалуй, самая дорогая во всем королевстве; одни только новые ножки, приделанные к ней по приказу мадам, стоили ни много ни мало две тысячи ливров. Кстати, кровать эта принадлежала не «шлюхе», а блаженной памяти деду Луи, из чего, конечно, не следует, что мадам Дюбарри не случалось на ней спать.
Луи ел с невероятным аппетитом и неустанно потчевал остальных.
– Здесь мы не аристократы, месье и медам, – повторял он, – здесь мы всего-навсего люди, даже, если угодно, крестьяне, так что давайте есть в свое удовольствие.
Водрейля осенила прекрасная мысль. Пользуясь хорошим настроением Луи, он предложил удалить музыкантов оперы, игравших во время ужина, и вызвать швейцарца Ульриха Шецли.
– Как интендант мадам, – сказал он, – я обязан сделать сегодняшний праздник не похожим ни на какой другой, неповторимым. Ибо сегодня день рождения его величества.
Луи, которого такая дерзость поначалу озадачила, решил отнестись к ней благосклонно.
– Ну, что ж, – сказал он.
Привели швейцарца.
– Теперь, любезный, вы уже не служите в гвардии, – сказал ему Водрейль. – Не споете ли вы нам свою знаменитую песенку?
Ульрих Шецли, ничего не понимая, стоял навытяжку.
– Чего изволят сударь? – спросил он. – Чего господин желают?
– Господин желают, – отвечал Водрейль, – чтобы вы спели свой «ranz des vaches», свой знаменитый коровий танец.
– Это запрещено, – ответил Ульрих Шецли.
– Глупости, дорогой, – сказал Водрейль.
Он достал монету.
– Погляди на эту голову, – сказал он, – и погляди на эту, он указал на Луи. – Вот перед тобой человек, который запрещает и дозволяет. Спроси его!
Обливаясь потом, швейцарец продолжал стоять неподвижно.
– Разве это не запрещено, сир, мой генерал? – спросил он Луи.
– Это было запрещено прежде, но теперь это не запрещено, – со свойственной ему обстоятельностью ответил Луи. Ему самому не терпелось услышать знаменитую песню, а к тому же ему было любопытно, поймет ли он немецкий текст. – Итак, спой, сын мой, – сказал он долговязому швейцарцу.
Ульрих Шецли стоял перед собравшимися в своем сером, обшитом красной тесьмой суконном кафтане. Он стоял в очень напряженной позе, широко расставив ноги, вытянувшись, длинный, прямой, неуклюже держа на весу руку со шляпой. Но он был явно взволнован, тяжело дышал, в каменном лице его что-то дрогнуло, и вдруг, очень громко, он отчеканил:
– Слушаюсь, сир, мой генерал.
И зычным, гортанным голосом, на крестьянский манер, он запел. «На страсбургском», – пел он, —
На страсбургском валу
Пришла ко мне беда.
Я услыхал альпийский рог родимый
И через реку в отчий край любимый
Пустился вплавь.
И он спел всю эту бесхитростную, печальную песню о том, как беглеца вытащили из реки, вернули в полк и приговорили к смерти. «О, братья», – пел он, —
О, братья, вот он я,
Ах, жизнь кончается моя.
Всему виной мальчишка-пастушок.
Ведь погубил меня его рожок.
Я устоять не мог.
А вас, друзья, прошу:
Меня убейте вы сейчас
И не тужите обо мне
На чужедальней стороне,
Прошу я вас.
А ты, небесный царь,
Ты душу бедную мою
Прими и успокой в раю.
Хочу я вечно быть с тобой,
– О, сжалься надо мной!
Во время пения Ульриху Шецли удалось сохранить воинскую осанку, но по щекам его текли слезы. Луи тоже очень растрогался. Понял он, правда, не все, но довольно много, и, велев швейцарцу повторить отдельные места, попросил их перевести. Потом он рассказал содержание песни остальным.
– Я всегда говорила, – удовлетворенно и многозначительно заявила Туанетта, – что эти республиканцы совсем не такие уж страшные; это мягкосердечные люди, отлично чувствующие музыку.
– Ну, а теперь-то вам хорошо, мой милый? – спросила она Ульриха Шецли. – Разве в моей деревушке вы не чувствуете себя как дома? Это же настоящая Швейцария, правда?
Ульрих Шецли ничего не понял и несколько мгновений растерянно озирался по сторонам.
– Слушаюсь, мадам, – ответил он затем поспешно.
Луи благодушно подал ему стакан вина.
– Выпей, сын мой, – сказал он, – и подкрепись. Ты не ударил лицом в грязь, – и дал ему луидор.
В это же время обедали актеры «Театр Франсе», которым предстояло сыграть «Цирюльника». Обед был тщательно приготовлен; по поручению Туанетты мосье д'Анживилье сообщил им, что меню составлено самой королевой; оно было отпечатано на очень красивой карточке. Но так как замок был слишком тесен, а обедать с гостями короля актерам не полагалось, они ели вместе с лакеями.
В этом не было ничего оскорбительного или из ряда вон выходящего. К королю пригласили только чистокровных аристократов, таких, в роду которых, начиная с четырнадцатого века, не числилось ни одного буржуа, и их, как обычно, отделили от простых смертных. Однако, хотя никто из артистов об этом не сказал вслух, господ и дам из «Театр Франсе» уязвило, что их приравняли к лакеям.
Кстати сказать, лакеи эти были парнями смышлеными, дерзкими и умудренными опытом. В затруднительных случаях господа их обращались за советом именно к ним; лакеи были у них своими людьми, это они, лакеи, нередко устраивали их тайные дела – финансовые, политические, любовные. Прекрасно разбираясь в большой и малой политике и в денежных вопросах, они сами пускались в спекуляции, одалживали деньги своим хозяевам и получали неплохие доходы. Они называли друг друга по фамилиям господ – Водрейль, Прованс, Артуа. Провести их было невозможно, они обладали чисто парижским здравым смыслом и остроумием. Обедать с ними было, безусловно, интереснее, чем с гостями Туанетты. И все-таки в роскошнейших блюдах актеры чувствовали привкус яда.
За столом, где обедали лакеи и актеры, сидел также Пьер Бомарше. Он был благодарен Водрейлю за сегодняшнюю постановку «Цирюльника»; этот спектакль – первый шаг на пути к постановке «Фигаро». Однако и Пьер воспринимал обед в обществе лакеев как унижение и злился за это унижение на Водрейля.
Так как опасность встречи с чистокровными миновала, д'Анживилье пригласил актеров до начала приготовлений к спектаклю осмотреть сады и замок. И вот теперь по парку гуляли актеры, они тоже слушали журчанье ручья, катались на лодках по озеру, взбирались на сказочных животных китайской карусели. Они тоже любили «природу», и Дезире лучше других поняла, чего хотела Туанетта и чего она добилась. Все это, однако, не мешало актерам отпускать злые шутки; Пьеру, например, пришло в голову назвать Трианон «petit Шенбрунн»,[66]66
«маленький Шенбрунн» (франц.)
[Закрыть] и он знал, что эти слова скоро облетят все королевство.
Но и он и актеры вынуждены были признать, что им никогда еще не случалось играть в таком красивом театре, как трианонский. Небольшое здание, построенное в виде храма с ионическими колоннами, было выдержано в белых и золотых тонах, ложи и кресла – обиты голубым бархатом, балкон подпирали пилястры с львиными головами; все было сделано с любовью и вкусом. Сцена была оборудована всеми приспособлениями и механизмами, каких только могло желать сердце актера.
Во время спектакля, однако, артистам очень не хватало тех бурных рукоплесканий, которые в «Театр Франсе» всегда прерывали игру в определенных местах. Правда, раскатистый смех Луи вполне заменял смех целого зала; но этот тугодум часто смеялся с большим опозданием или вовсе пропускал смешное. Вообще же он нашел, что на сцене пьеса выигрывает; читая ее, он составил себе о ней гораздо худшее мнение. Об этом он тотчас же и сказал Пьеру.
– Недурно, мосье, – сказал он. – Я от души позабавился, вы, наверно, слышали, как я смеялся. Продолжайте в том же духе, мосье.
– Не премину, сир, – с низким поклоном отвечал Пьер. Затем ему и актерам пришлось удалиться.
Туанетта и ее гости танцевали на рыночной площади в деревушке. Вызвали крестьян, и если во время обеда превосходные королевские музыканты, игравшие мелодии из опер, были отосланы, чтобы освободить место для швейцарца и его «ranz des vaches», то зато теперь они получили возможность исполнить сельские танцы. Туанетта плясала со старостой Вали, Габриэль – со стражником Вереи, а сам Луи, обливаясь потом и хохоча, сделал тур с дочерью стражника, дебелой, все время хихикавшей от смущения девицей.
Первоначально предполагалось, что Туанетта проведет первую ночь в Трианоне одна, а Луи с остальными гостями возвратится в Версаль. Однако песня швейцарца и танец с крестьянской девушкой привели его в возбуждение, и он не ушел вместе со всеми. Он смущенно пробормотал что-то невнятное, и все же Туанетта сразу его поняла. Она предпочла бы остаться сегодня в своем Трианоне одна, но ей не хотелось упускать возможность добиться отставки Сен-Жермена.
Поэтому она велела Луи подождать и ушла в спальню.
Сопя, потея, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, он бродил по прекрасным, полным изящества комнатам. Решив, что прошло уже достаточно времени, он поскребся в дверь спальни.
– Войдите, – сказала она глухо.
При свете свечей голубая спальня выглядела еще красивее и уютнее, чем днем; широкая, благородно-простая, стояла драгоценная кровать, на которой когда-то спал блаженной памяти Людовик Пятнадцатый, а подчас и мадам Дюбарри. На стенах висели картины; маленькая, очень грациозная Тони застыла в танце, а с нею, на фоне античного пейзажа, застыли ее сестра и брат.
– Может быть, погасить свечи? – предложила Туанетта.
– Погасить? – заколебался Луи. – Ну, что ж, ну, что ж, – согласился он и, погасив несколько свечей, принялся пальцами счищать с них нагар.
– Оставьте, – сказала Туанетта, видя, что это продолжается слишком долго.
Две-три свечи, оставшиеся непогашенными, озаряли мерцающим светом сиятельных предков, которые, надев маскарадное платье, забавлялись тем, что рыли себе могилы. Луи стал было не спеша раздеваться, но вскоре, так и не доведя этого дела до конца, улегся в постель. Туанетта задернула полог.
Позднее, за пологом, Туанетта сообщила ему, что теперь, после завершения работ в Трианоне, она значительно сократит свой бюджет. Она не забыла, что он много раз безропотно оплачивал ее долги, она это ценит и очень ему благодарна. Теперь, когда новый Трианон построен, все ее желания исполнились. Больше она не станет играть в фараон и ландскнехт и вообще будет избегать ненужных расходов. Она положила голову на его грудь и прижалась к нему. Он добродушно замычал к, довольный, стал следить, как пляшут по пологу бледные отсветы мерцающих свечей.
Она минуту помолчала. Потом заговорила снова:
– Так как в этом вопросе я уступаю вам, сир, вы, конечно, тоже не откажетесь сделать мне одолжение.
Недовольно засопев, он что-то промямлил. И тут она заявила напрямик:
– Прогоните же наконец этого вредного старого болвана Сен-Жермена. Кто виноват в нашей последней размолвке? Он, и только он. Вечно он становится между нами.
Луи недовольно заворочался. Каждый раз одно и то же, каждый раз она все портит. Каждый раз после этого она чего-нибудь требует. У него мелькнула смутная мысль, что на этой кровати спала Дюбарри и что Туанетта поступает не по-королевски, не по-королевски и по существу и по форме. Он промычал что-то неопределенное, думая о самых разных вещах, – о перевооружении армии, о дисциплине, о министре финансов Тюрго, о том, что завтра надо будет прочитать из Плутарха насчет Антония и Клеопатры.
– Почему вы не отвечаете? – спросила Туанетта. – Разве это так плохо, если я иногда требую от вас чего-нибудь?
Он молчал, продолжая размышлять. Тяжелый сумрак алькова его угнетал, он отдернул занавески. Глазам открылась восхитительная, покойная спальня.
– Очень мило поступила ваша матушка, – сказал он, – послав вам эти картины. Особенно хороша та, где вы танцуете. Я рад, что у вас останется память о тех далеких днях.
– Вы же сами признали, – сказала Туанетта, – что Сен-Жермен не справился со своей задачей. Он не сумел провести реформ, из-за которых нанес такую обиду и мне, и всему дворянству.
– Не находите ли вы, – сказал Луи, – что мне также следует поблагодарить вашу матушку?
Туанетта приподнялась; белая, красивая, светловолосая, она заставила его не отводить от себя глаз.
– Пожалуйста, не увиливайте, сир, – сказала она. – Дайте мне ясный ответ. Вы прогоните Сен-Жермена?
– Ну, ладно, ну, после, – сказал Луи.
– Я хочу услышать ясное «да», сир, – настаивала Туанетта.
– Ну, да, – ворчливо сказал Луи.
Он встал, рассеянно оделся. Мысли его были далеко, и он забыл о некоторых предметах своего сложного туалета. Затем он вышел из дома.
В саду было очень тихо, светил серп луны, журчала вода в ручейке и фонтанах. Медленно шагая в Версаль, Луи с наслаждением вдыхал чистый ночной воздух. Ему было хорошо наедине с собой. «На страсбургском валу пришла ко мне беда, – мычал он себе под нос, нарушая тишину парка. – Всему виной мальчишка-пастушок». Потом он вспомнил о Сен-Жермене, невысоком, всегда по-военному подтянутом старичке, представил себе его землистое, изборожденное глубокими морщинами лицо и, в который раз уже напевая: «Всему виной мальчишка-пастушок», – подумал о том, как много при дворе непорядочных людей, и о том, что Сен-Жермен – один из немногих порядочных.
Так пришел он в Версаль. Он постучался тяжелой колотушкой в будку часового. Несший вахту швейцарец посмотрел в глазок, увидел небрежно одетого придворного и грубо крикнул: «Нечего, нечего, убирайтесь!» Луи вспомнил, что сам приказал никого не впускать во дворец до рассвета. Он засмеялся зычным, извозчичьим смехом. Солдат узнал короля и остолбенел от страха.
– Ты хороший солдат, сын мой, – сказал Луи.
У себя в спальне он с удовольствием отметил, что до официального «леве» еще сравнительно много времени. Поэтому он улегся не на парадное ложе, а на свою удобную, простую кровать. Он с удовольствием потянулся, лег на левый бок, повернулся на правый, уснул.
Ему приснился сон. У него новые инструменты, хорошие, удобные, не слишком для него тяжелые; он взял старые клещи, но и с ними дело не ладится, замок не действует. А замок совсем готов, он уже проверил его с мосье Лодри и Гаменом. И все-таки он не действует. И ключ по подходит, и вообще ничего не получается. Перед ним лежит счет, огромный счет, цифры путаются у него в голове. Он всегда так хорошо и точно считает, по с этим счетом ему не справиться, он вызывает д'Анживилье и де Лаборда, и каждый раз итог получается другой. Он обливается потом, суммы не сходятся, замок не действует.
Когда старый камердинер разбудил его, чтобы почтительно напомнить: «Сир, пора лечь в постель», – Луи с радостью покинул свою любимую простую кровать и улегся на ненавистное государственное ложе.
После «леве», во время которого у него было очень дурное настроение, он пошел в покои своего ментора. Раз уж он взял на себя дело Сен-Жермена, самое лучшее было покончить с ним без проволочки.
Едва увидав Луи, Морепа догадался о причине его прихода. Туанетта не пригласила его, Морепа, на празднество в Трианон, и он сразу же заподозрил, что она хочет, воспользовавшись случаем, добиться от Луи каких-то обещаний и выгод. Сиреневая лига не скрывала своего намерения убрать Сен-Жермена. Едва взглянув на Луи, притащившегося к нему с несчастным видом, Морепа понял, что на этот раз Туанетта достигла цели.
К отставке своего старого друга Сен-Жермена Морепа относился неодобрительно. Если бы вся придворная знать то и дело не совала палки в колеса этому очень способному человеку, армия сейчас была бы перевооружена и против Англии можно было бы выступить по-настоящему. Но уже несколько месяцев назад Морепа стало ясно, что Сен-Жермена ему не удержать. Устранить старика хотели не только австриячка и ее Лига, но в первую очередь и его, Морепа, собственная супруга. Графиня обещала своей подруге и кузине Монбарей посадить в кресло военного министра ее мужа. Считая кандидатуру принца Монбарея неподходящей, Морепа все же пообещал отдать министерство Сен-Жермена ее протеже. Туанетта терпеть не могла Монбарея, и Морепа радовался, что, по крайней мере, хоть насолит королеве, заменив Сен-Жермена неугодным ей человеком.
В это утро Морепа чувствовал себя не вполне здоровым; то, что Луи не вызвал его, а сам к нему пожаловал, пришлось как нельзя более кстати. Это избавляло от утомительного переодевания, можно было спокойно сидеть в халате и домашних туфлях.
Теперь, когда настал момент решительных слов и действий, миссия, взятая Луи на себя, показалась ему еще тяжелее, чем он предполагал. Его мучили воспоминания об отставке Тюрго и неприятных событиях, разыгравшихся после увольнения этого хотя и бесцеремонного, но глубоко порядочного, смелого и чрезвычайно одаренного человека. Сен-Жермен был тоже глубоко порядочным и очень одаренным человеком, и ему Луи тоже обещал твердую поддержку.
Лун стал увиливать. Справился о здоровье своего ментора, наивно посетовал на то, что его не было в Трианоне, рассказал о «ranz des vaches», о том, как танцевал с крестьянской девушкой. Наконец, очень нерешительно, сказал, что провел бессонную ночь, размышляя о многочисленных жалобах на Сен-Жермена. Он уверен, что большинство этих нападок лишено оснований. Но человек, имеющий несчастье создавать себе на каждом шагу врагов, по-видимому, все-таки не годится для такого поста. Обладая хорошей памятью, Луи перечислил все возводимые на военного министра обвинения. Он упомянул и приказ, открывавший перед буржуа доступ к высшим офицерским должностям, и «тевтонские приказы» старика, в особенности введение телесных наказаний, и историю с инвалидами, и сделку с иезуитами. Перечень получился длинный.
Старого циника Морена забавляли эти попытки Луи оправдаться перед ним и перед самим собой. Все нововведения, которые Луи сейчас вменял в вину своему министру, он некогда с полным одобрением санкционировал, неизменно обещая Сен-Жермену свое покровительство. Особенно порадовало насмешника Морепа, что Луи упомянул даже историю с инвалидами и сделку с иезуитами.
История с инвалидами заключалась в следующем. Отель-дез-Инвалид был задуман как приют для ветеранов, в первую очередь – солдат, раненных в боях. Постепенно, однако, это назначение забывалось: в приют стали принимать также лакеев и поваров. Любой важный барин, имевший офицерское звание, считал себя вправе устроить своих служащих в Отель-дез-Инвалид. Прекрасный дом заполонили здоровые сорокалетние детины, которые только и знали, что обжирались, играли в карты и кегли да кичились своим геройством. Честный Сен-Жермен решил положить конец подобным злоупотреблениям. Прочесав «инвалидов», он лишил удобного пристанища тысячу человек, что, конечно, пришлось не по вкусу важным господам, их покровителям. Выдворение инвалидов они превратили в трагический спектакль. Целая вереница повозок с инвалидами остановилась на площади Победы, где инвалиды, со слезами на глазах, припали к статуе Людовика Великого, моля своего покойного «отца» защитить их от варвара Сен-Жермена. Луи был прекрасно осведомлен об этом деле и весьма резко высказался по адресу беспардонных вдохновителей этого фарса.
Не менее точная информация была у него и об истории с иезуитами. Будучи человеком искренне религиозным, Сен-Жермен пожелал заменить плохих сельских кюре, из которых обычно набирались армейские капелланы, более образованными священниками и основал для этой цели военно-духовную академию. На этот раз на министра ополчились вольнодумцы, философы и энциклопедисты. Они кричали на каждом углу, что Сен-Жермен хочет отдать армию на растерзание иезуитам. Морепа, конечно, сумел оценить всю пикантность такой ситуации, когда благочестивый Луи жалуется на благочестивого Сен-Жермена не кому иному, как вольнодумцу Морепа.
Он слушал Луи с самым участливым видом. Потом он стал защищать своего друга Сен-Жермена. Так как друг был обречен, он защищал его несколько двусмысленно. Сейчас, заявил он, когда из-за американского конфликта, того и гляди, может вспыхнуть война, крайне опасно отказываться от услуг такого хорошего организатора и великого воина, как Сен-Жермен. С другой стороны, своим упрямством он нажил себе кучу врагов. Не так-то просто объединить все враждующие между собой группы – принцев крови, двор, мелкопоместное дворянство, простых солдат, салонных дам, философов, – однако добряку Сен-Жермену это удалось; все, как один, против него. Он, Морепа, должен признать, что остальным министрам трудно работать с Сен-Жерменом. И он, конечно, понимает, что Луи наконец устал брать под защиту человека, к которому у королевы столько претензий. Тем не менее, ввиду вполне реальной угрозы войны, отпускать такого прекрасного организатора рискованно.
Луи молчал, что-то мыча себе под нос. Про себя он напевал: «Всему виной мальчишка-пастушок». Потом сказал:
– Сен-Жермен верный слуга, и у него есть заслуги.
– Несомненно, – отвечал Морена. – Но зато, сир, вы, по крайней мере, избавлены от долгих поисков нового министра. Статс-секретарь Монбарей отлично справляется с делами.
Луи воспрянул духом. Он сообразил, что к чему. Он понял, что предложение Морена исходит от мадам де Морепа, и порадовался, что, стало быть, debrouillard Морена тоже вынужден уступать своей жене. Ни в коем случае, продолжал Морена, нельзя в такое опасное время оставлять этот ответственный пост незанятым хотя бы на один день. Дела нужно немедленно передать другому, лучше всего – Монбарею. Луи, хотя он и не выносил Монбарея, нашел это решение вполне приемлемым. Действуя быстро, он лишит Туанетту и Сиреневую лигу возможности подсунуть ему их собственного кандидата. Он ответил:
– Гм, гм, верно.
Морепа решил поставить точки над «i».
– Итак, сир, вы сообщите Сен-Жермену об его отставке и сегодня же назначите нового министра?
– Не сообщите ли вы ему это сами, старый друг? – спросил Луи.
– Мне кажется, – отвечал Морепа, – следует подчеркнуть, что увольнение Сен-Жермена исходит от короны.
– Вы считаете, значит, что я должен сам?.. – с несчастным видом спросил Луи.
– Если прикажете, сир, – помог ему Морепа, – я буду при этом присутствовать.
– Благодарю вас, мой ментор, – сказал Луи.
– Значит, я вызову Сен-Жермена, – сказал Морепа. – Вы не возражаете, если я назначу аудиенцию на три часа?
– Лучше на четыре, – решил Луи.
– Ваши приказания будут выполнены, – отвечал Морепа, – документ о назначении Монбарея я передам вам на подпись еще до прихода Сен-Жермена.
Когда Луи удалился, Морепа принялся отделывать эпиграмму, занимавшую его в продолжение всей второй половины только что окончившегося разговора. Придумывать и отделывать эпиграммы было для старика огромным удовольствием. Не что иное, как эпиграмма на Помпадур, была в свое время причиной его ссылки, а ссылка продолжалась двадцать пять лет. Но это была хорошая эпиграмма; он уверял и себя и друзей, что она стоила двадцатипятилетнего изгнания. Теперь он стал осторожнее, он задался целью умереть в должности премьер-министра и не хотел рисковать своим положением из-за какой бы то ни было эпиграммы, пусть даже самой удачной.
Эпиграмма, над которой он сейчас работал, очень ему удалась. В ней говорилось о той части тела Луи, которую некогда заставил функционировать специально примчавшийся из Вены Иосиф. Эта была острая, меткая эпиграмма, вполне под стать куплету о Помпадур, такая блестящая и злая, что он не отважился бы доверить ее даже секретарю, или жене, или своим мемуарам. Жаль. Зато, по крайней мере, сама работа доставляет ему радость. Он писал дрожащей рукой, затем читал написанное, по дальнозоркости отодвигая листок от глаз, улыбался, смеялся, зачеркивал, правил, ворчал, правил снова. Исправляя, мыча, трудясь, он чуть не забыл распорядиться, чтобы приготовили документ о назначении Монбарея.
Незадолго до четырех Луи сидел в библиотеке. Он действительно потребовал Плутарха и стал читать биографию Марка Антония; однако сосредоточиться ему не удавалось.
Он не мог отделаться от мыслей о Сен-Жермене, который уже скоро с немым вопросом взглянет на него своими преданными, собачьими глазами. В свое время старик не хотел вступать на министерский пост, он предсказывал всем, в том числе и ему, Луи, что его, Сен-Жермена, реформы встретят сильнейшее сопротивление, однако Луи, решивший провести эти реформы во что бы то ни стало, твердо обещал ему всяческую поддержку.
– Я на вашей стороне, – заверял он его снова и снова, – вам нечего бояться, я никому не дам вас в обиду.
Почему всегда так получается, что ему, Луи, труднее, чем всем, выполнять свой долг? Чтобы сохранить хорошие отношения с Туанеттой, чтобы сделать ей дофина, приходится идти на новые и новые мучительные уступки. Сегодня, к примеру, приходится прогонять старого, доброго, храброго Сен-Жермена. Странная взаимосвязь, но никуда от нее не денешься.
Он попытался вернуться к Плутарху, к истории Антония и Клеопатры. Это ему не удалось. Плутарха вытеснило из головы письмо, которое когда-то, накануне своей отставки, написал ему министр Тюрго. Письмо Тюрго Луи спрятал и давно уже его не перечитывал. Но сейчас оно встало у него перед глазами, он ясно увидел каждую черточку поперек «t», каждую точку над «i», каждую завитушку почерка. «Вас считают слабым, сир». Вздор. Нехорошо, конечно, прогонять Сен-Жермена и нарушать свое слово. Но разве король не возвышается над общими законами? Его конфликты особые, они сложнее обычных. В конце концов Франции важнее дофин, чем удобства мосье Сен-Жермена, а у Луи такое чувство, что, относясь к мужу недоброжелательно, злясь на него, Туанетта никогда от него не забеременеет.
Он окончательно перестал читать и поднялся, оставив книгу раскрытой. Тяжело переваливаясь, зашагал по комнате, отдышался, уселся на балкончике. Стал смотреть на дворы и подъездные аллеи, следя, не покажется ли Сен-Жермен.
Но прежде Сен-Жермена прибыл Морена. Он явился в парадном костюме, худой, стройный, изящный. Неторопливо извлек он из портфеля документ, согласно которому Александр-Мари-Леонор де Сен-Морис, граф Монбарей, князь Священной Римской империи, генерал-лейтенант, командующий швейцарской гвардией Ксавье, статс-секретарь военного министерства, назначался на должность военного министра и члена королевского совета его христианнейшего величества. Луи пробежал эдикт близорукими глазами, отодвинул его в сторону, сказал:
– Да, да.
Морепа мягко заметил:
– Корона облегчила бы свою задачу, если бы поставила подпись безотлагательно.
Корона вздыхала и медлила; Морепа подал короне перо; корона, с пером в руке, поглядела на Морена; Морепа одобряюще кивнул; корона еще раз вздохнула, покачала головой и подписалась.