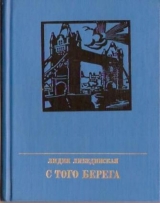
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
Огарев возвратился из странствий неуловимо иным, словно все пережитое и передуманное опалило его изнутри. Та же мягкость осталась в обращении, та же доброта в поступках, та же отзывчивость, выглядевшая порой неестественной, казавшаяся чуть ли не позой, столь незамедлительной была и щедрой, та же улыбчивая меланхолия. Только изредка просматривалась, как неловко спрятанный стержень, ровная, спокойная твердость и, к сожалению, исчезла почти совсем щенячья способность взвеселиться вдруг без всякого повода.
Да и весь их кружок переменился. За пять лет стали жестче мнения и взгляды, споры юности – все те же споры – не одно уже словесное кипение порождали теперь, но все отчетливее и глубже разъедали внутреннюю трещину. Летом она выросла в пропасть. И не было тут ни правых, ни виноватых. Но Грановский потребовал не обсуждать больше при нем те сомнения в бессмертии души, что возникли порознь у Огарева и Герцена, постепенно отвердев до атеизма. Кетчер, женившись на женщине простого происхождения (очень преданной, очень любящей его, очень темной), ревниво и подозрительно следил, чтобы ее не оскорбили ненароком, и вдруг учинил нелепый скандал, когда Огарев в ее присутствии выругался. Огарев и при других женщинах себя не очень-то сдерживал, если к месту приходилось точное словцо, но никто из них не думал ранее, что это можно расценить как намеренное пренебрежение к даме. А другие – других постигли неминуемые возрастные перемены, спасительной защитой служившие и другим всяким личностям с интеллектом. Везде натыкаясь на прутья клетки, многие довольно быстро обучились так соразмерять свои слова, шаги и даже устремления, что переставали доходить до ограды. И благодаря этому новому специфическому предощущению границы клетки они теперь даже волей некоторой наслаждались, осознав по необходимости пределы своей свободы. Сама жизнь, российская жизнь, безжалостно раскалывала их кружок. И только двое, ощущая отчетливо, что лишь они остаются слитно и нераздельно, обсуждали часто, уединившись, как построить им жизнь теперь. Герцен – тот на старом уговоре настаивал, а Огарев вернулся в Россию не оттого лишь, что соскучился. У него созрел и оформился план эксперимента, опыта, попытки переменить и перевоспитать самую натуру сельского российского человека. Он этими планами горел и обсуждал их с превеликой серьезностью, а позже, когда пошли они все прахом, вспоминал с горьковатою усмешкою. Когда же рассказывал о них десять лет спустя Хворостину, откровенно над собою прежним смеялся.
Но тогда, в конце сорок шестого, уезжал он к себе в Пензенскую губернию полный вожделенного нетерпения. Знал, что Герцены скоро уедут за границу, обещал присоединиться, говорил, что если и раньше был на подъем легок, то теперь-то уж, когда одинок, и вовсе, как птичка. Дайте только попробовать здесь, потому что иначе будет меня там непрерывно грызть сожаление, что испытал не все пути воздействия на родимую природу. Рабскую, заскорузлую, страшную, любимую и привычную природу, в русского человека веками въевшуюся. Неискоренима если – уеду, а попробовать обязан, и баста!
И отправился, со всеми расцеловавшись, в свое с детства знакомое Старое Акшено, где когда-то, при жизни действительного статского советника Платона Богдановича Огарева, служило при господском одном дворе ни мало ни много – пятьсот человек прислуги. Были свои садоводы и повара, ремесленники и артисты, парикмахеры и художники. Оркестр в пятьдесят человек играл, когда Платон Богданович садился за обеденный стол. Теперь там было пусто, тихо. В огромном барском доме освещались только нижние комнаты, где живал, наезжая изредка, сосед и приятель, взявшийся временно за управление, милейший и честнейший Алексей Алексеевич Тучков.
И здесь же, в Пензенской губернии, как когда-то, неожиданно и врасплох вновь застигла Огарева любовь. Наталью Тучкову – дочь соседа по имению и близкого приятеля – знал он еще шестилетней девочкой, когда жил здесь в ссылке. Да и раньше видел, летом навещая отца, но тогда, должно быть, и вовсе не замечал. С маленькой Наташей играла его жена, когда они к соседям езживали. Но вот незаметно и стремительно пронеслись суматошные годы то ли странствий, то ли поисков себя, и теперь он встретил у Тучкова семнадцатилетнюю, развившуюся вполне девицу, очень бойкую, чуть угловатую, прелестную. Относиться к нему она сразу же стала, как к отцу: с почтением, чуть насмешливо, по-родственному. Свои тридцать три он ощущал в ее присутствии как шестьдесят: говорил солидно и рассудительно, советовал, что читать, со взрослым снисхождением выслушивал. Слушать, впрочем, было преинтересно. Темпераментная и живая речь ее, болтливость молодости вкупе с женской наблюдательностью и явным, хоть и неразвитым умом, память великолепная (О, юность! Сам Огарев уже нередко вдруг спотыкался, забывая названия или имена) – да плюс еще полуосознанное желание нравиться – все это придавало разговорам их обаяние и прелесть невыразимую. Для Огарева – пагубную, что он быстро очень понял. А поняв, принял решительные меры. Нет, нет, ездить не перестал, это было свыше его сил, да и невозможно вдруг порвать стародавнюю дружбу. Но все время, все часы и дни, что проводил он у Тучковых в их имении, неотрывно и пристально принялся за собой следить, чтоб надежнее себя в руках держать и ничем, никак не выказать то сладостное и рвущееся томление, что вызывал в нем один звук ее речи, один вид ее чуть неряшливого светлого платьица, любая гримаска обильного мимикой лица.
Рассказывала она все подряд, ибо все, что помнила и знала, казалось ей чрезвычайно важным и занимательным. Искреннее чувство это и впрямь сообщало увлекательность всему, что она непрерывно повествовала внимательному и улыбчивому собеседнику. То об отце говорила – а он и правда был личностью замечательной. Огарев и сам постоянно расспрашивал его – члена Союза Благоденствия, уцелевшего от наказания (месяца три продержали под следствием и отпустили) лишь благодаря тому, что во время бунта оказался в Москве. То рассказывала о соседе, высокообразованном чудаке, стране своей не понадобившемся несмотря ни на ум, ни на образование, ни на неподкупное благородство воззрений, воспитанное чтением энциклопедистов, а может, благодаря как раз этим качествам. С тех пор Сосед, выйдя в отставку, только чтением да чудачествами и занимался. Выслушал Огарев и о другом их соседе, покойнике уже, писавшем некогда в изобилии стихи, восхвалявшие Екатерину Вторую, и исправно отправлявшем их императрице. (А государыня однажды вдруг с нарочным прислала ему бриллиантовый перстень с собственной руки, присовокупив благодарственную просьбу никогда более стихов не сочинять.)
Обсуждались ими и все любительские спектакли. Огарев, побывавший всюду, был почетным и уважаемым ценителем. И малейшие движения души – собственные или героинь прочитанных романов – тоже не умалчивались.
А потом Натали с сестрой и отцом уехала путешествовать по Европе. Это была уже зима сорок восьмого, и в Италии съехались они с семьей Герцена, недавно покинувшего Россию. И в Италии, и во Франции потом, где обе семьи опять поселились вместе (там застала их и революция, и разгром ее, и массовые расстрелы), Натали части казалось, что она будто и не расставалась с Огаревым, так часто упоминалось его имя у Герценов. И сам Искандер, и Наталья Александровна постоянно обращались к его стихам. Это была даже не привязанность к любимому ими поэту, а просто часть их существования.
Друг Огарева и Герцена (до поры до времени), эпизодический участник их кружка – писатель Анненков (в дружеских письмах его вместо Павла величали Полиной) написал впоследствии обширные воспоминания о том времени. Когда он писал их, отношение его к Герцену было уже отчужденно-уважительное, к Огареву же – нескрываемо отрицательное. Но – с аргументацией и старательной объективностью. Однако подлинные чувства прозрачно светятся сквозь все впечатления и домыслы очевидца, потому вспомнить нам это здесь необходимо:
«Всеми признанная и распрославленная слабость его характера не мешала ему упорно настаивать на принятых решениях и достигать своих целей… Он принадлежал к числу тех бессильных людей, которые способны управлять весьма крупными характерами, наделенными в значительной степени волей и решимостью, что доказывается и несомненным его влиянием на его друга Герцена. Как многие из этого типа слабых натур, одаренных качествами обаятельной личности, он был полным господином не только самого себя, но весьма часто и тех, кто вступал с ним в близкие сношения».
Парадокс? Но дальше следует очень подробное и очень правдоподобное описание самого механизма его влияния, увиденное глазами зоркими и (теперь-то мы знаем!) недоброжелательными. Но оттого еще более достоверности в наблюдениях Анненкова:
«Сосредоточенный, молчаливый, неспособный особенно к продолжительному ораторству, он говорил мало, неловко, спутанно, более афористически, чем с диалектической последовательностью, но за словом его светилась всегда или великодушная идея, или меткая догадка, или неожиданная правда, а это понимали хорошо как умные, так и неумные люди. Отсюда и безграничные симпатии, которые его окружали в таком обилии всю жизнь».
И вот, не пожалев красок и штрихов для создания портрета эдакого святого циника с поэтическим даром, Анненков сообщает, что как раз когда Тучковы путешествовали по Европе, он много времени провел с семьями Тучковых и Герценов. И в обеих семьях, пишет он, равно у мужчин и женщин, был развит культ Огарева. Он являлся для них (буквальная фраза) «чем-то вроде директора совести». То есть, иными словами, высшим и последним авторитетом во всех нравственных проблемах. Не он даже, а имя его, образ, одинаково сложившийся за годы общения у всех этих столь несхожих между собой людей…
3Что же делал тем временем человек, нравственные суждения которого столь авторитетны, а стихи так жизненно необходимы близким? У него ведь были планы, как мы помним.
Да, и великолепные! Прежде всего он собирался устроить фабрику, работающую на вольнонаемном труде. Цели достигались при этом, как он мыслил, довольно разные и существенные. В человеке от вольного труда куда быстрее, полагал он, должна вырабатываться уважающая себя и, следовательно, вольнолюбивая личность. Кроме того, пример новых социальных отношений явится благостным для России экспериментом, по пути которого пойдут постепенно и другие владельцы крепостных душ. И еще – начитавшись обильно Сен-Симона и Фурье, в вольном труде видел Огарев обещание совершенно новой нравственности.
А тем временем – что для нашего повествования существенно – в имении у него жила женщина, роман с которой был столь краток, а вел себя Огарев (этот авторитет нравственности) столь безжалостно и решительно, что имя ее лучше не упоминать. Очень средняя – но писательница, без состояния – но графиня, увядающая – но красавица. Приехала к нему эта женщина вместе с детьми и гувернанткой, намереваясь, по всей видимости, обосноваться в Старом Акшене надолго.
Уже казалось Огареву, что позабыл он мучительно-сладкое стеснение сердца, с каким сиживал за столом у Тучковых, и хриплые песни, что пел, вскачь гоня от них лошадь, тоже забыл и не затруднясь выполнит решение: своей жизнью, пропащей и неудачливой, молодую жизнь не губить. Только ноты напоминали, да так напоминали, что к осени он убрал их. Но, к сожалению, пьесы, игравшиеся слишком часто, помнил наизусть.
И вот однажды прискакал посыльный мальчишка с лаконичной запиской Тучкова, извещавшей о приезде, и не свидеться было просто неудобно. Женщина, ни о чем не подозревая, попросилась поехать с ним.
Полчаса прошло после встречи, и еще шли несвязные разговоры, общая беседа не клеилась, и отчуждение полугодовой разлуки полностью не растаяло, не было прежней простоты, а спутница Огарева, улучив минуту, вдруг раздраженным шепотом сказала ему, что младшая дочь хозяина любит его как кошка и напрасно он дома не предупредил ее об этом. Огарев не помнил, что ответил, как не помнил он и весь тот день, потому что вот таким странным образом вдруг узнать, что тоже любим, – такого даже в книгах читать ему не доводилось.
А потом были письма с посыльными, очень много с обеих сторон писем, были сцены, для подобной ситуации вполне естественные. Женщина с детьми уехала, и с эгоистической безжалостной радостью провожал ее Огарев, ни смущения, ни вины не чувствуя. Одно из писем к Натали очень ясно передавало, какое и от чего освобождение восторженно переживал Огарев:
«Я думаю, единственная женщина, с которой я мог бы жить под одной крышей, – вы, потому что у нас есть одинаковое уважение к чужой свободе, уважение ко всякому разумному эгоизму, и совсем нет этой неприятной мелочности, отягощающей человека заботами и преследующей его привязанностью, которая пытается завладеть всем его существом без всякого уважения к человеческой личности».
Свидания, объяснения, клятвы, слезы, радости, поцелуи, близость, снова письма, и отец, как это водится исстари, обо всем узнал последним.
Только об одном Тучков сразу же попросил Огарева! чтобы венчались немедленно. Но это оказывалось возможным лишь при условии, что Мария Львовна даст согласие на развод. Она ответила категорическим отказом.
В это время Мария Львовна жила с Воробьевым в Париже, где общалась довольно часто с Герценами, еще покуда не решившими окончательно, где им жить и на что решаться. Наталья Александровна писала Огареву, что только здесь узнала Марию Львовну заново – и эта женщина стала ей снова симпатична. С оговорками, но симпатична: «Бездна хорошего в этой натуре, бездна – и что сделала с ней жизнь… Я люблю ее, и нельзя ее не любить, но мучительно ее знать».
В это время Мария Львовна уже глухо пила. Вся экспрессия ее личности, вся былая экзальтация приняла характер крайней и нетерпимой необузданности. Слабовольный и тиховатый Сократ Воробьев любил ее, но любил по-своему, не более, чем одаренное живое приложение к своей жизни в те краткие перерывы, что не занимался живописью (был он уже академиком, преуспевал, работал помногу и с увлечением). Когда на просьбу Огарева дать развод она ответила отказом так же, как и на уговоры Герценов, те попросили поговорить с ней самого сожителя ее. Воробьев согласился, но обнадеживал не слишком: Мария Львовна сызмальства была слабо управляемой личностью. Наталья Александровна писала с отчаянием:
«Александр сделал все, что может, то есть Александр и я, но ты знай, Огарев, что Мария Львовна последнее время вела себя невыразимым образом отвратительно: трезвого часа не было; Александр ей заметил это, она рассердилась и возненавидела его и меня, перестала к нам ходить и стала нас бранить; это – погибшее, но не милое создание».
Заступничество Воробьева тоже, как он и ожидал, провалилось. Через несколько дней Герцен писал Огареву: «Никакой нет надежды, решительно нет… Мозг ее расстроен окончательно; неудовлетворенное самолюбие принимает различные формы, иногда весьма благородные, наивные даже, но остается все самолюбием; к тому же ни минуты трезвой, она кричит о своей любви к тебе, но не сделает ради нее ничего. Мне больно писать тебе это, но не время нежничать; надо, чтобы ты знал то, что есть, для того, чтобы знать, как действовать».
Попытались воздействовать через общих друзей, снова безуспешно, и ясно стало, что развода Мария Львовна не даст.
«Мне не только было больно и тяжело за вас, – писала Наталья Александровна, – но я была страшным образом оскорблена за человека. Нельзя предположить возможности подобной жестокости, низости и безумия. Маска спала, и эгоизм, один жгучий страшный эгоизм явился во всей форме своей. Не только осторожно, но быстро, как можно быстрее надо действовать. Верь мне и слушайся непременно, непременно. Мне грустно, больно и страшно. Мщение найдет везде дорогу и средство повредить».
Опасения, звучащие в этих письмах, были не напрасны, а призывы действовать с осторожностью и быстрее – разумны донельзя. В России тщательно оберегались в то время устои семейной нравственности: двоеженство могли покарать с жестокостью. Соблюдение семейной морали становилось особенно существенным в годы, когда наползала отовсюду зараза социалистических учений (из Франции главным образом, но и во всей Европе этого хватало). А всем уже доподлинно известно было, что разрушение святости семейных уз – одно из главных положений любой разновидности этой обольстительной пагубы. Стремление выстроить по ранжиру и упорядочить жизнь российскую непременно и явственно упиралось в прочность семейного очага. Ибо прежде всего в этой области, где человек был предоставлен самому себе, следовало предельно, ограничить его свободу, чтобы и поползновений не было расширить ее на иные сферы жизни. Нехитрая эта казарменная психология определяла полную нетерпимость к любым вольностям в семейных переменах.
4Они приехали в Петербург все трое: Тучков с дочерью и Огарев. Было начало сорок девятого года.
Несколько дней всего потратил Огарев, чтобы выяснить окончательно и наверняка: дело с разводом уладить можно только через судебный процесс. Должны быть предъявлены свидетельства (люди выступят или пришлют показания письменные) той многолетней и давней измены Марии Львовны, о которой знали, в сущности, все. И тут Огарев мучительно ощутил невозможность даже во имя новой любви и долга перед отцом Натали и своим другом начать то выворачивание наружу грязного белья, которое требовалось для неукоснительных инстанций. И Тучков-отец понял его прекрасно, хоть и не было сказано между ними ни единого слова. Понял по лицу, по взгляду беспомощному и хмуро попросил о тайном незаконном венчании. Нашли старика-священника, согласившегося за большие деньги совершить обряд без необходимых документов (очень уж хотел старик обеспечить сироту-племянницу), но тут воспротивилась Натали. Она к тому времени разузнала, что в случае, если все откроется, Огарева ожидает непременная кара, и заявила, что ни за что на такое не согласится. И отец опять уступил.
Странные это были месяцы для Натали. Она взрослела от своих переживаний. Взбалмошная, восторженная девица на глазах становилась взрослой женщиной, мудрой и прозорливой благодаря своей любви. Огарева обожала она всей душой, никого вокруг не видела, только ощущала иногда остро и болезненно ту огромную разницу, что была между ним и толпой приятелей, ежедневно являвшихся к ним в дом. Спроси ее, она не смогла бы ответить, в чем именно различие состояло, да и подумав пристально, отнесла бы ощущение это за счет своей любви к Огареву. Но разница была, была! Приходили такие же легкомысленные, такие же мягкие и такие же добрые люди, были среди них талантливее и ярче (куда как!), но такого отпечатка личности сложившейся, своеобычной и чужеродной климату российскому (не от географии, а от психологии климату) не видела она среди гостей. И оттого постоянно и непрерывно боялась за Огарева. Многие, как и он, обсуждали стоявшую на дворе погоду, но слова и мысли их были неуловимо не такие, неопасные для делателей погоды слова и мысли. Потому и напряглась она внутренне, когда один из новых знакомцев стал расхваливать кружок какого-то Петрашевского, куда сам был вхож, и усердно зазывал Огарева. Собирались в этом кружке только мужчины, за что у присутствующих дам рассказчик попросил прощения.
Он рассказывал, как там всегда интересно и оживленно, как прекрасно и отважно мыслит и говорит хозяин, как читаются замечательные трактаты – оригинальные или переводные.
– Так завтра едем? – спросил он, не сомневаясь в ответе.
Огарев никогда не спрашивал у Натали, нет ли у нее на следующий день каких-нибудь связанных с ним планов. Он держался с ней мягко и заботливо, не скрывал влюбленной преданности, но границу, за которой безраздельно принадлежал себе одному, давал чувствовать явно и ясно.
Но сейчас Огарев покосился на нее – машинально или почувствовав что-то – и, увидев ее лицо, мягко отказался. Эта обманчивая мягкость многих вводила в заблуждение: казалось, надо лишь чуточку нажать, и он уступит, так податливо его сопротивление. А потом переставали настаивать, недоумевая вслух или молча. Сейчас произошло то же самое. А она, то с благодарностью на Огарева глядя, то чуть насмешливо – на уговорщиков, подумала вдруг с любовной радостью, что поняла сейчас в нем замечательно важную черту, разделявшую пропастью столичных друзей и его. Они готовы пуститься в рискованное знакомство или приключение, но отважиться на что-то действительно серьезное не могли и потому весь пыл сполна отдавали щекочуще безопасной суете. До поры, конечно, безопасной. А Огарев мог на все сразу махнуть рукой, мог решиться в один момент, и тогда уж даже слезы ее не переломили бы его решимость. И отчего-то, вопреки самолюбию и приятному женскому ощущению власти над любимым, эта мысль, пришедшая ей в голову, была невыразимо сладостна. Именно эта внутренняя готовность как угодно повернуть свою жизнь и позволяла Огареву спокойно и усмешливо отказываться там, где приятелям это казалось постыдным.
А через неделю стало известно, что в Петербурге одновременно были арестованы на своих квартирах все члены кружка Петрашевского и сам он конечно же тоже. Огарев молча поцеловал Натали ладонь.
Они уехали из Петербурга незамедлительно – в панической атмосфере страха, слухов и всеобщей подозрительности оставаться было неразумно. За городом из кареты отца Натали пересела в коляску Огарева, куда с вечера уложили ее вещи. Они отправились в Одессу, надеясь без паспортов уплыть тайком на каком-нибудь английском пароходе.
Но ничего не получилось. Страх был всеобщий, повсеместный, заразительный. Капитан английского грузового судна, которому предложили за двух пассажиров крупную сумму, сказал, что Россия – уникальная, единственная в своем роде экзотическая страна, где запуганность ее обитателей передается, как по воздуху, даже вольным заезжим чужеземцам. И отказался наотрез.
Все лето прожили они в Крыму. Бродили по каменистым руслам пересохших от зноя речушек, пили кислое вино, читали и любили друг друга. Возвращаться не хотелось. Не только потому, что было им хорошо вместе, но главным образом от предчувствий, что навалится на них по возвращении необходимость решать многое множество проблем. А они свою неготовность ощущали явственно и обоюдно. И медлили, медлили, как напроказившие дети, и вернулись только осенью. Не знал еще Огарев, что вот-вот предстоит ему услышать второй звонок, возвещающий – после пятнадцатилетнего перерыва, – что спокойно ему в России не жить.








