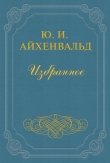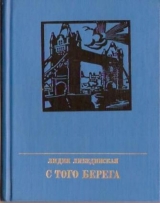
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц)
«Дело о лицах, певших в Москве пасквильные стихи», началось, как и прочие многие, с добровольного подлого доноса. А потом рассматривала его, долго разбирая, высокая, специально назначенная комиссия из людей в чинах, летах и орденах. Но подлинной сути дела – смешного и пустячного – не могут скрыть пухлые и внушительные папки следственного дознания. Конечно, приятно и завлекательно, когда первые же столкновения героя с властями предержащими обнаруживают и обнажают его взрослость, зрелость и умудренность. Тогда к чему раздумывать, как менялся он на протяжении жизни? Но если подлинные заслуги, да и самая зрелость далеко впереди, и забудешь о них, листая толстое следственное дело, все становится на свои места, смешное и глупое выплывает наружу: чисто охранительное мероприятие! А сам герой, как и все его приятели, – зеленый, как апрельский листок, веселый, загульный и проказливый мальчишка. Пусть он уже занимается несколько лет историей и философией и находят у него при обыске переводы и планы статей и всяческие заметки и конспекты. А переписка с друзьями до того глубокомысленна, что пугает следователей, и они просят темные места ее пояснить. На самом деле причина всех бед – бесшабашная юношеская пьянка, за которой последовали провокация и донос. И естественно, что на пьянке этой пелись песни, коим легкая непристойность придавала дополнительную привлекательность, а крамола вся-то и состояла в том, что касались непристойности эти (привлекательность увеличивая) особ настолько высоких, что о них в таком тоне даже и помышлять не полагалось.
Один из авторов фривольных и отчасти дерзновенных песен (списки их по рукам широко ходили) – некий запойный весельчак Соколовский – был уже на примете. В частности, когда началось дело, в папку следствия был положен рапорт, что еще полгода назад неких Соколовского и Огарева видели у подъезда Малого театра – они стояли, обнявшись, и горланили «Марсельезу». Это в Москве-то тридцать третьего года! И вот снова в доносе имя Огарева…
Огарев был арестован в ночь на девятое июля, после обыска очень длительного с изъятием огромного множества бумаг и писем. Через три дня, правда, его выпустили на поруки родственников, но бумаги и письма постепенно читались и разбирались, и двадцатого он был взят снова, а на следующий день арестовали и Герцена.
Около полугода провели они в одиночном заключении. Огарев – в Петровских казармах, в самом центре Москвы, под неумолчный шум ее дневной и ночной жизни. Герцен – на окраине, в Крутицах. Изредка вывозили на допросы. Вопросы предъявлялись письменно, замечательно прозрачного содержания. Вслед за вопросами обычного ознакомительно-осведомительного порядка (кто такой, где служите, были ли под присягой, с кем в родстве и знакомстве, с кем в общении и переписке и о чем, кстати, эта переписка, в штрафах, под судом или следствием не бывали ли) шли вопросы точные и конкретные:
«Пункт десятый. Не принадлежите ли, или прежде не принадлежали ли к каким-либо тайным обществам; не знаете ли существования где-либо подобных обществ, где они, под каким наименованием, кто начальствующие в оных и члены, в чем заключается цель их и какие предположены средства к достижению ее?»
«Пункт одиннадцатый. Не занимаетесь ли вы сочинениями и переводами с иностранных языков, каких авторов, не переводили ли чего-либо запрещенного; равно и в сочинениях своих не излагали ли чего противного правилам христианской религии и государственным постановлениям? Кто внушал вам подобные мысли и с кем разделяли оные?»
«Пункт тринадцатый. Не получали ли сами от кого подобных сочинений или переводов?»
Вопросы составлены с прелестной обнаженностью: члены высокой комиссии убеждены, что нельзя человеку думающему не быть членом одного из тайных обществ, коих в России, вероятно, множество. Но какого именно? – вот что, собственно, их интересует. Не сочинять или по крайности не переводить крамолу – невозможно. Так же как невозможно не получать ее для чтения, а оттого важно, кто внушил и разделил столь дерзкие и опасные мысли. В дознании молодого образованного дворянина той поры вопросы эти настолько сами собой разумелись, вытекая из психологического климата времени, что человеку, который был схвачен за пение двух-трех нехитрых песен, казались вполне естественными. А на самом деле неестественность их проявляется вполне и ярко, если сопоставить их, к примеру, с допросом какого-нибудь мастерового, тоже певшего вполпьяна непристойные песни воровского содержания. Тот – другое дело, тому просто по шее надавал бы ближайший будочник или на худой конец первый же квартальный. Но если все-таки представить себе тщательное его допрашивание? Как бы он сам отнесся к вопросам, не имеет ли намерений ограбить дом генерал-губернатора столицы или не собрана ли им компания для разбоя на дорогах губернского значения и убийства правительственных фельдъегерей? И кто, кстати, члены этой шайки? Где проживают и кто сего зачинщики?
Можно не продолжать вопросы, никому бы в голову не пришедшие. Потому что всегда негласная обусловленность есть и в задаваемых преступнику вопросах, и в его ответах. Самая вероятность выясняемых событий или поступков обусловливает вопросы и ответы. Из вопросных пунктов очевидно, что вероятность выясняемого была достаточно высокой – и для спрашивающих, и для отвечающих. Это просвечивает с наглядностью и в следующих прекрасных вопросах:
«Пункт четырнадцатый. Не случалось ли вам в Москве или вне оной быть у кого-либо в таких беседах пли сообществах, где бы происходили вольные и даже дерзкие против правительства разговоры; в чем они заключались, кто в них участвовал, не было ли кем вслух читано подобных сочинений или пето таких же песен?»
«Пункт пятнадцатый. Не случалось ли вам письменно выражать мысли свои, или изустно с кем-либо рассуждать об образе правления в Российском государстве, сравнивать его с правлениями других государств, и как вы в сем случае изъяснялись, и какие слышали от других о том суждения?»
Это пункт предельно больной. Общеизвестно, что после походов четырнадцатого года, после Сенатской площади и всего, что последовало за этим, после подавленной Польши и страшного бунта в Новгородских военных поселениях – повсюду только и говорили что о российском неблагоустройстве. Потому еще два вопроса аккуратно уточняют предыдущий.
«Пункт шестнадцатый. Ежели вы касались суждениями своими государственного порядка, в России существующего, то как изъяснялись об оном, и в особенности о неравенстве состояний?»
«Пункт семнадцатый. Не входили ли в состав суждений ваших изъяснения о сделании каких-либо перемен в порядке государственном и как о том было между вами говорено, или не было ли даже кем из известных вам лиц о предмете сем писано?»
Тяжеловесный, неуклюжий слог. А в вопросах что-то хватающее за шиворот. Ответы двадцатилетнего Огарева – это те же заданные ему вопросы, только изложенные в форме отрицательной. Оттого-то в записке о результатах расследования мягкий, меланхолический, всем навстречу распахнутый и ни в чем покуда не твердый Огарев будет характеризован неожиданно и зловеще: «В показаниях своих замечен упорным и скрытным фанатиком».
Состав следственной комиссии переменился в августе – посетивший Москву царь выразил недовольство медленностью ее работы. Сразу меняются и вопросы: уже не столько о пасквильных стишках идет речь, сколько о переписке двух друзей.
Их и выделили вне разрядов, на которые разделили остальных по убывающей степени вины. (Кара первым трем была достойной времени – более всего боялись сочинителей песен: в Шлиссельбург на неопределенный срок. Один из них через три года умер там, тогда двух других помиловали ссылкой. Жизни обоих, впрочем, оборвались почти немедленно.) О внеразрядных же, подлинная вина которых выяснилась лишь в процессе следствия, глубокомысленно и прекрасно написал председатель комиссии князь Голицын (неизвестно только, сам ли писал, ибо русскому предпочитал французский). И слова эти нельзя не привести, ибо логика проявлена изумительная: «Двое этих юношей вредоносны, ибо… образованны и способны». Впрочем, превосходен и стиль:
«Хотя не видно в них настоящего замысла к изменению государственного порядка и суждения их, не имеющие еще существенно никаких вредных последствий, в прямом значении не что иное суть, как одни мечты пылкого воображения, возбужденные при незрелости рассудка чтением новейших книг, которыми молодые люди нередко завлекаются в заблуждения, но за всем тем имеют вид умствований непозволительных как потому, что укоренясь временем, могут образовать расположение ума, готового к противным порядку предприятиям, так и потому, что люди с такими способностями и образованием, какие имеют означенные в сем разряде лица, удобно могут обольщать ими других».
Голицын полагал далее, что полугода ареста и последующей ссылки в отдаленную северную губернию вполне достаточно для охлаждения сих пылких умов.
Огарев тем временем сидит в заточении, где немыслимо и несообразно счастлив: он – мученик за свободное слово, непрерывно сочиняются стихи, а от родственников еда и вино поступают в таких количествах, что хватает на всех караульных.
3Так случилось в судьбе нашего героя, что спустя ровно двадцать лет после времени, о котором мы только что говорили, он подробно обсуждал свою жизнь с человеком, знакомство с которым было довольно давним, однако прервавшимся столь же внезапно, как и началось. А вот вдруг они встретились опять, в пятьдесят пятом году, когда Огарев приехал в Петербург ненадолго и пропадал все вечера у знакомых и полузнакомых людей, с наслаждением окунувшись в толки, разговоры и пересуды, шедшие той зимой по всем гостиным в связи с восшествием на престол нового самодержца.
К пожилому кутиле Кущинскому, некогда еще по Москве знакомому, Огарев приехал в тот вечер очень поздно. Часть гостей уже сидела за картами, дамы в гостиной кого-то негромко и явно затаенно обсуждали, – во всяком случае, замолчали все, пока Огарев целовал руку хозяйке и приветливо улыбался остальным. Некоторые мужчины курили в кабинете хозяина, и Огарев, остановившись в дверях, услышал лишь конец общего разговора – конец, положенный энергичным и насмешливым монологом неизвестного ему, до некрасивости высоколобого мужчины его лет. Бледность лица выдавала в ораторе затворника и подчеркивала совершенно самостоятельную жизнь глаз – ярких, зеленовато-серых, стремительных, меняющих выражение и оттенок.
Очевидно, перед тем, как Огарев появился в кабинете хозяина, Кущинский посетовал на какие-то невысокие качества русского человека. Бледный, зеленоглазый человек с густой шапкой спутанных волос, быстрый и энергичный, заговорил негромко и с едва ощутимым сарказмом.
– Русского человека надо всенепременно сечь, – начал он, усмешливо кривя рот. – Уже потому хотя бы, что за всю свою историю русский человек просто не знает времени, когда бы отсутствовали побои и наказания. Всегда и при любом правлении, было ли это время татарского нашествия или собирания земли русской, Алексея ли Михайловича, тишайшего царя, или период смуты, о Грозном я уж не говорю, Петровские ли преобразования, или бироновщина, или Екатерининские блестящие времена, русского человека нещадно драли. Если виноват – в наказание, чтобы впредь неповадно было. Если невиновен – в назидание, чтобы знал, что ожидает, если преступишь. А ежели и вовсе чист, как голубь, – в поощрение, чтобы скромность свою соблюдал и повинность порядку. Что же мы теперь наблюдаем, господа? Собираются вроде бы отменить телесные наказания. Шатается, значит, извечный порядок и с непременностью влечет за собой шатание нравов. Кому ото шатание в поведении своем воплотить? Уж конечно же не старшему поколению. Старшие, они поротой своей задницей умны и памятливы. А молодые, сопляки несеченые, – те, естественно, голову поднимают и хорохорятся – не для них, мол, российская обычайность. Вот тут-то и должна высунуться и оказать себя рука порядка. А в руке этой что ж – пряник прикажете держать или, упаси господи, конституцию на английский манер? Розга в ней должна быть, свежая и аккуратная лоза, заботливой рукой в пучок увязанная. И все прекратится сразу – брожение в умах и зуд сердечный! Согласитесь?!
В комнате после издевательского монолога воцарилось неловкое молчание, с легкой примесью обиды за симпатичного всем, недалекого, однако незлого и доброжелательного хозяина дома. Но он сам, добряк и миротворец, пробурчал примирительно и без обиды:
– Эк вы меня исхлестали, Иван Петрович, парадоксами своими и красноречием. Провокируете, не щадите старика.
– Извините, ради бога, погорячился, – широко и очень добро улыбаясь, ответил Иван Петрович. Огареву от двери он был виден в анфас, так что сразу заметил он широту и подкупающую искренность его улыбки. – Плохое сегодня настроение, скиньте на него, батенька, ладно? Вчера просадил довольно много в карты, а послезавтра – срок, и нечем, признаться, отдавать. Кто мне даст, господа, тысячу на два месяца? – обратился он к присутствующим.
– Ну вот я-то вам теперь не дам в отместку, – сказал старик Кущинский тоном, не оставлявшим сомнений в том, что конечно же даст, и притом с живейшим удовольствием.
– Возьмите у меня, пожалуйста, – сказал от двери Огарев.
Все оглянулись на него, приветливо закивав. Он со всеми уже виделся сегодня днем, так что с места никто не двинулся. Незнакомец очень прямо посмотрел на него и чуть надменно откликнулся:
– Сердечно благодарю, только я ведь не имею чести знать вас?
– Разве это помешает вам вернуть долг вовремя? – поинтересовался Огарев.
Все засмеялись.
– Вы – Огарев! – сказал вдруг человек радостно.
– Да, но…
– Грязная гостиница в центре Берлина, название не помню, весна сорок шестого, – продолжал высоколобый человек.
– Хворостин! – воскликнул Огарев. – Я вас так хотел разыскать!
– Ну, мне в этой ситуации уже неудобно говорить, что и я очень рад вас видеть, – сдержанно засмеялся Хворостин.
Так они встретились вторично, и несколько бесед с этим человеком запомнились Огареву на всю жизнь. Ибо так же, как тогда в берлинской гостинице, он почувствовал такое к себе участие и такую доброжелательную заинтересованность, что готовно и с любовью раскрылся, как бывало у него только с Герценом. Хворостин, впрочем, ответил ему тем же. О том случае речь еще зайдет, ибо мы постараемся и впредь следовать хронологическому порядку, от которого отвлеклись сейчас из-за необходимости рассмотреть кое-что в судьбе героя спустя двадцать лет после событий, описанных нами ранее.
4Холостяцкая квартира поручика в отставке Ивана Петровича Хворостина явно носила следы любви хозяина к пребыванию либо вне дома, либо исключительно в кабинете. Множество книг стояло и валялось всюду, и видно было, что читались они часто и постоянно; просторный, большой диван пролежан так, что садиться на него было чуть неудобно, – казалось, хозяин только-только встал с него и вот-вот опять уляжется прочно и надолго. Кабинет прокурен был насквозь, сами книги, кажется, источали сизоватый дым. Два старинных портрета висели в узком простенке между дверью и сплошной линией книжных шкафов, прерывающейся лишь двумя окнами и резным высоким шкафчиком-поставцом. Бюро, стоявшее к окну боком, уступало полтора окна дивану, глубокое мягкое кресло одиноко стояло посреди комнаты, и Хворостин, среднего роста и возраста быстрый, поджарый шатен, то беседовал с гостем, сидя за бюро, то ходил по комнате, неторопливо огибая кресло и наклоняясь к самому лицу собеседника, чтобы подчеркнуть сказанное. От него попахивало табаком и веяло бешеной бесплодной энергией, подавляемой обдуманно и старательно. Собеседнику его было чуть за сорок, но он уже полноват по природе своей, явно медлителен, меланхоличен по характеру, держался спокойно – особенно это заметно становилось рядом с Хворостиным, для которого меланхолия и флегма – желанная маска и любимая роль, однако вполне обуздать себя ему явно не удавалось.
На дворе стояла ранняя весна, но широкий сноп солнечного света с плясавшими в нем бесчисленными пылинками, казался совершенно неуместным в этой комнате, наглухо и нарочито отгороженной и укрытой от всего, что совершалось во внешнем мире. Впрочем, слои дыма одомашнивали и укрощали этот солнечный пляшущий поток.
– Посмотрите, – говорил Хворостин, – вся российская гниль вылезла сейчас наружу, и та кровь, что пролилась во время Крымской кампании, несомненною причиной имеет царствование неудобозабываемого…
– Поговаривают, что он отравился, – полувопросительно перебил собеседник.
– Это нам сейчас неважно, – отмахнулся Хворостин пренебрежительно. – Я ведь о другом говорю. Я – о том, что при всей своей любви к России мы с вами вот уже битый час разговариваем о собственных судьбах, чрезвычайно собственными личностями увлеклись и в собственные переживания погружены с головой. Это вам не кажется странным?.. Нет, погодите, не перебивайте, – продолжал он, ответа от собеседника, уже раскрывшего было рот, не ожидая. – Это совершенно естественно и нормально. Во-первых, потому, что на Россию, погибающую сейчас под Севастополем, мы уже давно махнули рукой.
– Полноте, – недоуменно возразил собеседник.
– Я преувеличиваю, согласен, – быстро заговорил Хворостин. – Ладно, я не буду заострять ситуацию и согласен оставить за вами ту боль и то унижение, что вы разделяете сейчас со всеми, кто мыслит и России искренне предан.
– О чем вы все-таки? – спросил собеседник, хмурясь. – Я действительно вас не понимаю.
– Хорошо, я прелюдии брошу и обозначу все прямо – более, скажем, прямо, чем хотел бы. Извольте, вот вам констатация простая и анатомически ясная: вы в России человек чужой и лишний, России вы не только не нужны, но в каком-то смысле вредоносны. Я хотел издалека, вы возражали. Так вот, получите голую истину, а я продолжу далее.
– Это совершенно очевидно, только что из этого?
– Не нужны потому, друг мой, и уж это позвольте зафиксировать невзирая на банальность факта, именно потому, что родились человеком одаренным и развились, естественно, в личность.
– Это уже Пушкин сказал, – вяло усмехнулся собеседник, – что догадал его черт родиться в России с умом и талантом. Уж простите мою нескромность в ассоциациях.
– Русский человек, родившийся и ставший личностью, – назидательно сказал Хворостин, – может ею невозбранно оставаться, если научается этим свойством не злоупотреблять. Согласны?
– Полностью, – сказал Огарев. – Прекрасно сказано.
– А вы свою личность с настойчивостью и упорством хотите обязательно воплотить и выявить. Только тут-то вас и поджидают проблемы куда более тяжкие по сравнению… ну хотя бы с моими.
Огарев недоуменно поднял брови. Хворостин был возбужден п, говоря, смотрел чуть в сторону.
– Вырастая и оборачиваясь личностью, человек всегда и неизменно, соразмерив себя с окружающим его человечеством, прежде всего приходит в ужас и задает себе – в формах разных и сугубо личных – гамлетовский вопрос: быть или не быть?
Хворостин встал и прошелся вдоль дивана медленно, после чего, скользнув по нему взглядом, сел и огладил пальцами узорчатую ковровую обивку.
– В России, – продолжал он вкрадчиво, – силою обстоятельств исторических многие люди позволили себе ответить на этот вопрос отрицательно. В частности, ваш покорный слуга.
Тут он полуприлег на диван, бережно себе под локоть подсунув пухлую вышитую подушку, и Огарев вдруг сообразил, что это уже не монолог, а представление и что все действия веселого от мудрости, а внутренне печального и изломанного человека обдуманны и нарочиты.
– Ибо гамлетовское «не быть» вовсе не означает нежелание жить и желание смерти в тесном смысле этого точного слова. Означает оно просто нежелание существовать среди сброда, в котором волею судьбы оказался. Нежелание участвовать в жизни этого сброда, в его суете, в его помыслах и его взаимоотношениях. То есть решимость устраниться и уйти в жизнь замкнутую, сугубо частную или вообще вышнему служению посвященную. Разве отъезд в деревню молодого человека, полного сил и разума, отъезд на прозябание и гниение медленное наедине с самим собой не реализация этого «не быть» на российский манер?
Огарев уже все понял и просиял – необычные трактовки привычного были ему всегда привлекательны. И, воспользовавшись паузой, он спросил быстро:
– Значит, отставка сравнительно молодого и надежды подающего поручика с последующим возлежанием на диване, чтением, картами и одиночеством – такая же решимость не быть?
Хворостин сказал медленно и удовлетворенно, с подушки не привставая, но голову чуть приподняв:
– Несомненно. Только речь сейчас не обо мне, а о вас. Обо мне единственная только прибавка, чтобы вам ясней было и положение наше несколько уравнялось, – «не быть» иногда довольно мучительно. И примиряет с этим ощутимым, надо вам признаться, гниением только живое представление себе того, каковы муки решившегося все же быть.
– А у Данта – помните? – медленно протянул Огарев. – Мучаются те, кто ни добра, ни зла не делал и ни во что свои силы не обращал.
– Плевать мне на пиитические пророчества, – недовольно возразил Хворостин. – Вас философствовать тянет, в абстракции и готовые формы, а я вам конкретности обсуждать предлагаю. Дант ваш, если хотите, живи он в России, иначе бы расписал свою атеистическую комедию. Атеистическую – потому что нет сугубее материализма, чем царство божие и ад представлять себе на бытовой манер. А не делать ни добра, ни зла – в России, быть может, более героическая позиция, чем любая из этих двух. Не всегда, разумеется.
– За ваше душевное здоровье и умственную сохранность вашу, – Огарев поднял рюмку, с любовной улыбкой обращаясь к Хворостину. – Превосходную и необычную мысль вы, мпе сообщили, признаться. Никогда не задумывался над возможностями такой трактовки.
– Благодарю вас. Ваше здоровье, – Хворостин дотянулся до своей рюмки, и только один глаз его был сейчас виден Огареву – смеющийся и хитро прищуренный. – Ваше, ибо я вам сейчас нагорожу картинку ситуации кошмарной и безвыходной. Да притом еще не умозрительную картинку, из убогого моего воображения изошедшую, а некую совершенно реальную – из жизни нашего общего знакомого, дворянина и поэта, философа и заводчика, гуляки и вольнодумца Николая Платоновича Огарева. Позволите?
– Забавно, – засмеялся Огарев негромким своим, но очень глубоким смехом, и сразу видно стало, что он не одним лицом смеется, не одними глазами или голосом, а весь сейчас во власти смеха. Тело его обмякло и все лицо излучало удовольствие и размягченность. – Валяйте, батенька. Разрешаю вам заведомо интимности, вольности и нескромность. Персона моя при мне обсуждается редко, так что не отказывайте себе ни в чем.
Хворостин сел прямо и подался вперед лобастой своей головой со спутанной, неухоженной шевелюрой. Глаза его посерьезнели и сошлись на переносице собеседника.
– Печальная это будет история, – медленно сказал он. – Вы уж извините меня.