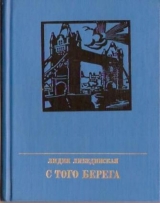
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Глава четвертая
1Очень смутно было на душе у Огарева, и никто не в силах был сейчас улучшить его настроение и самочувствие. Более того: и прошедшие, вместе с Герценом проведенные годы казались сейчас никчемными и пустыми. Он подолгу играл на рояле помнившиеся на память пьесы, молчал часами, от разговоров и встреч уклонялся так открыто и неприязненно, что его очень скоро оставили в покое даже те из эмигрантов, что хотели бы его участия в разных печатных предприятиях.
Он, верно, и сам вскорости пришел бы в себя и вернулось бы ощущение не напрасно прожитых лет – ощущение, без которого жить человеку очень трудно. Он взял бы себя в руки и сам, перебирая в одинокие эти дни свою жизнь заново, но ему помогло еще одно письмо. Оно пришло неожиданно, утром, с оказией. Уже по почерку на конверте Огарев узнал адресата. После перерыва в пятнадцать лет писал ему вдруг человек, с которым так странно и быстро сблизился он в последнюю свою зиму в России. Он и раньше разыскивал Хворостина, посылал ему записки, просил о себе напомнить, тот молчал, и Огарев замолк тоже. Только совсем не забыл этого человека. Руки Огарева дрожали, когда он разрезал конверт, и благодарность за то, что так вовремя вспомнил о нем Хворостин, вспыхнула в нем еще до того, как он прочитал три листочка и почувствовал, отложив их, что выздоровел. Хворостин и писал, как говорил:
«Дорогой Николай Платонович, я сегодня снова поймал себя на том, что много думаю о Вас и опять завидую Вам, потому и решился написать. У нас обоих осталось уже мало времени, что же касается меня, то и вовсе, очевидно, его не осталось, ибо жить мне изрядно надоело, а в таком состоянии Бог не может не послать смерть, будучи всеведущ и милосерден. Впрочем, я всегда сомневался в том и другом. Не могу, во всяком случае, не поговорить именно с Вами напоследок, ибо чувствую за собой странную, Вам неведомую вину. Дело в том, что за время нашего краткого сближения – дружбой, как Вы понимаете, называть это никак нельзя, а теперь-то уже ясно, что мы более никогда не увидимся, так что и не проверить это нам никак, – так вот за время нашего тогдашнего сближения я Вас очень для себя неожиданно полюбил. Оттого и вину свою перед Вами ощущал с преувеличенной остротой. Состоит она, как это сейчас ни смешно, в том, что я все время казался себе много умнее Вас. Нет, не то чтобы я преувеличивал собственные умственные способности, но просто Ваши казались мне тусклее и жестче, что ли, моих. Оттого, быть может, и тон общения нашего был с моей стороны несколько несоответствен собеседнику. Ничего не понимая в поэзии, да и не любя ее совсем, признаться, я воспринимал Вас лишь по тем граням, которые мог оценивать и с которыми имел касание. Мне были понятны – и смешны немного – все Ваши метания той поры, отчего и несколько подловатое – ибо затаенное – чувство собственного превосходства никогда не оставляло меня в беседах, где Вы были, по обыкновению своему, искренни, распахнуты и добросердечны. После я следил за судьбой Вашей с удивлением, иронией, снова удивлением, скоро перешедшим в смутное до поры, но потом все более отчетливое одобрение и даже восхищение Вами. Кажется, я косноязычен, да притом эпистолярный жанр не был никогда моим любимым средством выражать отношения и мысли, но уж нечего теперь пенять, начатое я договорю до конца. Склонный приискать Вам наиболее схожий литературный образ (слабые люди, мы, как слабые врачи, очень торопимся ярлыком диагноза прикрыть нашу неспособность полностью понять болезнь – человека в данном случае), я, конечно же, не сдвинулся далее Дон-Кихота. Ну а, ярлык этот навесив, я уже и другие Ваши поступки отождествлял, ибо так было мне, конечно, легче, то с попыткой освобождения разбойников, то с бессмертной битвой с ветряными мельницами, то с прочими эпизодами этой великой книги. Лишь поймав себя на зависти к Вам однажды, осознав с недоумением некоторым, что уж Дон-Кихоту я бы точно не стал завидовать, хотя постоянному внутреннему ощущению счастья борьбы за истину, мистическую пусть, и справедливость, пусть иллюзорную, можно было бы позавидовать, – осознав свою зависть эту, принялся я думать о Вас без заведомости и уподоблений. Думать – в этом надо сознаться – с некоторым теперь недоброжелательством, ибо самым своим существованием Вы ощутимо бередили и портили мой надменный отчужденный покой. Отчего и почему именно Вы, я сейчас не берусь Вам излагать, да вряд ли и сумею это сделать. Да к тому же и разговор не об этом. Впрочем, нет, он об этом как раз, но теперь я перейду к Вам. Очень важно сразу здесь оговориться, что ни в коем случае не беру я на себя смелость обсуждать правильность или неверность (да и с какой точки зрения? Пользы России? Пользы человечества? Гуманизма в общем? И в чем польза, если спорен смысл жизни вообще?) всех деяний и писаний Ваших. Это все рассудит история, очень нескоро, вряд ли объективно, да притом наверняка не умея ухватить то тончайшее и неизмеримое, что приносит человек своей эпохе и помимо своих явных дел. Нет, нет, нет, я говорю о другом. Думаю, что высокая значимость Ваша (я не льщу Вам, я обсуждаю) исключительно и всецело состоит в сотворении себя самого, в поддержании и незыблемости той личности, кою Вы в себе развили и воспитали. В постоянном следовании теми путями, кои Вы считали справедливыми, гармоничными Вашей совести и душе. Можно ведь, согласитесь, по-разному спасаться в этой юдоли зла, от него уклоняясь или ввязываясь. Нам обоим неприязненно смешон был тогда еще путь спасения в побеге из мира. Путь поста, молитвы и покаяния. Далее идут мирские пути. Самый легкий, как мне кажется (или казалось) выбрал я. Помните, я говорил Вам, что сегодня, в наше время, просто неучастие в жизни, просто неприумножение зла – есть уже достаточное добро. Я сейчас уже не думаю так, оттого я и пишу именно Вам. Думаю, что зло – это течение, столь же неодолимое, как течение самой жизни, и не сопротивляющийся – не спасается, ибо виновен в непротивлении. Впрочем, это снова обо мне. Далее – путей уже множество. Большинство из них – различные компромиссы. Правота здесь выясняется в старости: где-то они плыли и поддавались, где-то они решались и оспаривали – взвешивать соотношение в каждой жизни одоления и попустительства я оставляю Страшному Суду. Странный и необычный путь выбрали, согласитесь, Вы. Ежечасно, невзирая на обстоятельства, следовать велению внутреннего голоса Вашего, ни на какие шепотки благоразумия не поддаваясь. Оттого Вы и теряли столько, оттого Вы столько и проигрывали – или я неправильно трактую Вашу жизнь, прошу меня тогда извинить, – оттого я и завидую Вам. Думаю, что Вы многих раздражали, Вы оказывались молчаливым упреком их исканиям и попыткам совместить и верность, и успех, думаю, что Вы даже юродивым изредка выглядели со стороны.
Написал я это все вчера и оставил, чтобы сегодня утром трезвым взглядом оценить сумбурность написанного. Прочитал, и, как видите, не поправил ни единого слова. Но не потому, что доволен высказанным, а единственно только потому, что бессилен выразиться ясней. Думаю, что Вы выиграли свою жизненную игру, и почел своим непременным долгом написать Вам об этом, как ощущаю. Крепко жму Вату руку и теперь уже прощаюсь с Вами навсегда, ибо, когда (и если) мы вольемся по смерти в некую предвечную бесконечность, все равно уже будем это не мы, и поговорить нам уже никак не удастся. Искренне Ваш – Иван Хворостин».
2Именно в это время и постигло бывшего кавалерийского подполковника Постникова, ныне опять петербургского сыщика Романна, то непостижимое наказание свыше, о котором мы уже говорили. Это была тоска – глухая, настойчивая, мучительная. Но не безотчетная – нет, он совершенно ясно понимал, откуда она, отчего и как от нее избавиться. Ему вновь хотелось в Женеву. Он и сам бы себе не смог объяснить внятно и убедительно, почему его опять с невероятной силой тянуло к этим людям, коих только что он так блистательно обманул и переиграл. Воспоминания молодости, оживившись в нем для удачности дела, не хотели, может быть, теперь затихать? Или разъезжать по Европе понравилось? Или в роль издателя он не внешне вошел, а душой, покосившейся вдруг на бумагах, желтых и выцветших? Неизвестно. Только так ему остро и неотложно захотелось вновь обратно, что хоть границу тайно переходи. Душно показалось дома, затхло, одиноко и безнадежно. Обволакивали скука и тоска такой силы, что не знал, что с собой поделать. Мелкими, пресными и отвратительными выглядели новые поручения. Та пружина азарта, что свободно развернулась в нем в Женеве, ни за что не хотела ужиматься теперь до масштабов нынешней привычной работы. И тогда он принялся донимать начальство рапортами о необходимости новой командировки. Убедительные высказывая доводы: будет скандал, если хватятся исчезнувшего Постникова, а бумаг, привезенных им, предостаточно, чтобы все-таки издать совершенно невинный второй том из собрания Долгорукова. Совершенно, он опять подчеркивал, невинный и безопасный с точки зрения крамолы. Даже материальной выгодой соблазнял, наивец, начальство. Но оно не клевало ни на один из выдвигаемых аргументов. Даже на самый сильный: что уже навсегда бесполезен будет их агент за границей, если последует его разоблачение. И опять не откликалось начальство. И в тоске, в бессилии и гневе проклинал Романн-Постников близорукость и тупость их, и на что отважился бы, неизвестно, – может быть, и до крайности бы дошел, но решил, уже докладов пять подав, поговорить с Филиппеусом доверительно, пользуясь его к себе расположением. Он понимал прекрасно цену этого расположения, знал, что не помедлит Константин Федорович и секунды, выдавая его с головой в случае какой опаски для себя лично, а хотелось все же попытаться. И, уже идя к нему, вдруг сообразил тоскливо, что желание такое настоятельное – не побегом ли оно пахнёт на проницательного его начальника, ну да будь что будет. Но судьба, растравившая азартного Романна, позаботилась теперь и об утолении его. В коридоре еще выяснил он, встретив Филиппеуса, что объявлен розыск уголовного преступника Нечаева, убежавшего за границу по совершении убийства. Скоро будет процесс его сообщников, а розыском самого главаря, доверительно сказал Филиппеус, нам тем более старательно выпадет заниматься, что государь собирается на воды, по слухам, так что к лету все должно быть проверено и обеспечено. И ушел куда-то, убежал по неотложным делам, а на столе своем, вернувшись несколько часов спустя, нашел уже рапорт Карла Романна с предложением выследить Нечаева, пользуясь заведенными в Женеве связями. Тут уж препятствий никаких возникнуть не могло. Торжествующий, помолодевший, подтянутый уезжал из Петербурга через неделю подполковник в отставке Постников.
Этот год, проведенный за границей (возвращался в Петербург раза два, но уже только на время, по делу), прожил в каком-то странном полусне, ибо сам не знал толком, с кем он теперь душой и против кого играет в действительности. Он проводил часы с Огаревым, он одалживал Огареву деньги (аккуратно за казенный счет их относя), познакомился и подружился очень тесно с Бакуниным (этому не одалживать было невозможно – Третье отделение оплачивало и эти счета), он возил в Россию тайные письма Бакунина к братьям с просьбой о помощи (чертыхаясь и усмехаясь, лично клеил на них марки Филиппеус), а обратно и деньги привозил. Он исправно писал отчеты начальству, и вранья в них было немного, ибо и впрямь уже трудно было найти Нечаева, прятался он и скрывался даже от своих. Сообщил, что было важно и весомо, о полнейшей возможности ехать монарху к водам, ибо сам Бакунин считает, что одиночный террор бессмыслен, надо истребить весь царский род исключительно целиком и вместе. Он собрал, подготовил к выпуску и издал второй том из бумаг покойного Долгорукова – все расходы оплатила казна. Это было единственное, очевидно, историко-архивное бесцензурное издание, подаренное читателю силами Третьего отделения.
А следов Нечаева нигде не было. Постников проехался зря. И, еще несколько попыток розыска предприняв, будучи человеком честным, сообщил, что и ниточек не предвидится. Был отозван немедленно в Петербург. Думал он, послушно возвращаясь, что уже, быть может, утолил свою жажду несколько, что приживется, остынет. Может быть, пора одуматься, может быть. И, вернувшись лишь, почувствовал: не прошло. Что-то лишнее вдохнул он, что витало вокруг этих людей, чересчур близко его подпустивших. Так стремительно, так бесповоротно, безнадежно и прочно очутился он опять в Петербурге, что внезапно ощутил, спохватившись, как сглупил, что покорно вернулся. Ощутил себя пойманным зверем и ничуть не удивился острой нарастающей боли. Чуть за сорок от разрыва сердца умирают далеко не часто, и поэтому долго после похорон его, запершись у себя в кабинете, напряженно и сосредоточенно размышлял Филиппеус о той незримой драме, что совершалась в непонятной душе сотрудника.
3Вот здесь, пожалуй, и надо кончить нашу книгу. Огарев пережил Герцена лишь на семь лет. Жил он некоторое время в Женеве, потом переехал в Лондон. Появилась новая эмиграция, новые люди, они очень хотели познакомиться со знаменитым изгнанником, ибо выросли на чтении «Колокола» и «Полярной звезды» и первые свои шаги в освободительном российском движении совершали, размножая статьи Огарева и укрепляя свою решимость и одушевленность его стихами-песнями. Он охотно общался с ними, обсуждал их идеи и проблемы, с радостью видел благодарность и преданность, и неизменно теперь и постоянно ощущал свою чуждость и отстраненность. Чувствовали ее и собеседники и постепенно от него отходили. Только некоторые продолжали с ним общение, а потом переписку, по уже из иных, чисто тактических соображений, о преемственности своей заботясь или укрепляя свой авторитет. Он не вмешивался ни в чьи дела и советов никому не навязывал. Единственное, что делал до самой смерти, – ревностно следил за всем, что писалось о Герцене. И когда не так что-нибудь упоминалось и даже в крохотной мелочи искажалась память о друге, он писал, настаивал, добивался. О нем же самом тогда писали еще мало: он как ранее жил, так и сейчас оставался вторым, товарищем, спутником, соавтором, соиздателем, соратником. Но всегда и неизменно вторым. И это очень, как и прежде, устраивало его.
Да, второй, но кто знает, разгорелась бы так ярко звезда первого, если бы не было с ним рядом друга, еще там, в Староконюшенной и на Воробьевых, а потом тут, в Лондоне?..
Дети Герцена выплачивали ему пенсию – небольшая, она порой кончалась до срока, и тогда, не желая их беспокоить, он вежливо напоминал своим старым должникам о нужде. И они, как всегда, не откликались.
С Натали, своей бывшей женой, он уже не виделся более. Она приехала к ним однажды, как всегда, раздраженно-взвинченная, стала его за что-то упрекать, разговор перешел на Мэри, и она плохо отозвалась о ней. Мэри не было в это время в комнате, и Огарев позвал ее, но Наталья Алексеевна повторила обвинения. Огарев спокойным голосом перевел Мэри все. Он всегда так делал, если при ней говорили по-русски, и не почел необходимым сделать исключение теперь. И Мэри попросила Наталью Алексеевну покинуть их дом. Огарев молчал, когда она уходила. Это вся его былая жизнь уходила. Но он взял себя в руки и выдержал до конца. Мэри заплакала немедленно по уходе Натальи Алексеевны, стала просить прощения и готова была бежать вслед, но Огарев остановил и успокоил ее. «Все правильно, все справедливо, Мэри», – сказал он. А потом играл весь вечер. Те же пьесы, что когда-то в Старом Акшене.
Умирал Огарев в сознании, ясно понимая, что конец. Усмехнулся, что, может быть, увидит Сашу, и напомнил Мэри о двух русских медяках, припасенных им давно уже на этот случай. Медяки эти, согласно его просьбе, Мэри и положила на его сомкнувшиеся глаза. После смерти с лица его спала внезапно старческая одутловатость, оно помолодело, и всегдашняя мягкость доброты проступила резче и ярче, и яснее обозначилась твердость.
Девяносто лет спустя его прах вернули в Россию.








