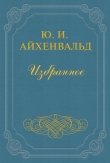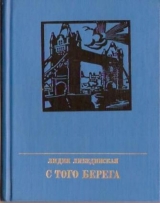
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Унизительно-тягостные потянулись годы у Липранди. Пригрел его было прежний министр, хотя жалованье носило характер милостыни, а потом и умер, вовсе осиротив Липранди. Он все еще не чувствовал себя стариком и безумно хотел служить. Никуда его, никуда не брали. Началась война, он и туда попросился, – где, как не в Крымской кампании, сказаться незаурядному его опыту. Но и здесь от услуг его отказались под туманно благовидным предлогом. Выходило, что он не нужен никому.
И еще, что подбавляло масла в огонь уязвленного самолюбия: оставался Липранди по-прежнему мишенью для острот. Передавали, что известный острослов (хоть и разваливающийся старик, а язык по-прежнему, как бритва), услыхав однажды о Липранди, сказал кому-то: «А, это тот Липранди, которого выгнали за избыток усердия?» За такое и на дуэль не вызовешь.
Правда, вспомнили о нем однажды. Было это перед самой коронацией нового самодержца. Разнеслись внезапно темные слухи о смутном будто бы настроении народа в Москве. Готовятся, мол, кричать что-то, выступления собираются учинять с просьбами, жалобами и прочим, что совсем на таком празднике ни к чему. Не готовить ли батареи и картечь? И чего ожидать вообще? Отчего английский и австрийский посланники удалили из своих домов всю русскую прислугу? Чем несвязней и неопределенней были слухи, тем опаснее и достовернее они выглядели. Что-то готовилось к коронации, что-то глухо бродило и созревало.
А на самом деле было вот что. Группа начальствующих охранителей решила, как это часто делается (настолько часто, что и в литературе многократно описано), чтобы повысить свое влияние, закрепить репутацию, имитировать некую клубящуюся опасность, которую они своей бдительностью предотвратят. Тут и вспомнили о старом Липранди. Во-первых, он на все смотрел, как известно, с черной точки, преувеличивая угрозу и значение. Во-вторых, ему ретивость проявить тоже весьма с руки. Ну а главное – кто осмелится утверждать, что ничего нет, если вдруг появится нечто? Успокоителю тогда несдобровать. Так что со всех точек зрения именно Липранди здесь подвести не мог: а то, что ничего на коронации не произойдет, легко объяснилось бы вовремя и замечательно принятыми мерами. Награды, благодарности, репутации.
Липранди поехал в Москву. Промахнулись устроители лишь в одном: слишком честен был Иван Петрович Липранди, заскорузло и безнадежно честен. И никакой государственно-разумной гибкости не проявил, безнадежно и навсегда упуская последний, спасительный шанс. Вздором оказались все слухи, что и донес он исправно и обстоятельно. И всю замечательную паутину, на которой столько качалось сладкого, заветного и позвякивающего, дерзко и глупо порвал старик. И, конечно, прав оказался, спокойно и воодушевленно прошла коронация. Но раньше это вменилось бы в заслугу предусмотрительности, а теперь – не историческую же обстановку в стране награждать орденами и денежными премиями. Плакали-пропали редкостные возможности. Кто виноват? Опять Липранди. Надо сказать, ему потом намекнули, какие ожидания нарушил, но он и ухом не повел. Каменный, устаревший тип.
А как, между прочим, он волновался, беря на себя ответственность полную за все, что могло произойти по его недосмотру или случайно. Но теперь и это было в прошлом. Долго-долго, безнадежно-безнадежно тянулись пасмурные тоскливые дни.
Глава третья
1Десять лет не видели они друг друга. Десять лет. Письма, как бы ни были часты и подробны, никогда не заменяли им общения. Да и что могло заменить ту искру, которая возникала в каждом, когда рядом был другой. Герцен в присутствии Огарева становился умнее, словно разум подстегивался, и грани его ярче сверкали в том спокойном, ровном свете доброжелательства, понимания и созвучия, которым постоянно был изнутри озарен Огарев. И Огарев менялся от близости Герцена. Натали заметила это почти мгновенно, с некоторой ревностью, хотя перемена была явно к лучшему: собраннее, тверже и внутренне интересней стал Огарев. Тот сплав поэтичности и человеческой доброкачественности, которым отличались его речь и вся манера разговора и поведения, стал отчетливее и кристальней. Они так устали оба за первые два часа несвязных вопросов и ответов, объятий, хлопаний по плечу и даже слез, что после обеда отправились спать, конфузливо и насмешливо сославшись на свое стариковство.
Натали осталась посидеть с детьми, изредка недоуменно прислушиваясь к томительному внутреннему беспокойству, будто обещавшему что-то невнятное, но тревожное – перемены куда более значительные, чем ожидали они, едучи сюда. С утра, когда, приехав в Лондон, отправились они по старому адресу в пригород, а там им дали новый, и снова в пригороде, только на противоположном конце города, – все это время к радости и ожиданию добавлялся у Натали слабый привкус: предощущение, что жизнь их усложнится.
Откуда это возникло, сказать не могла, обсуждать с Огаревым не хотела, да и неразговорчив он был с утра. И Натали чувствовала – это не то выключенное блаженное молчание, когда созревала и пела в нем очередная строчка. Нет, тягостное, темное молчание висело вокруг хмурого его лица и ушедших в себя открытых и невидящих глаз. Много времени спустя он сказал ей, что и у него в то утро были невеселые мысли и предчувствия не из светлых.
Но потом, когда наконец приехали, и их долго не хотел пускать привратник Герцена (он же повар, мажордом и все прочее), и вдруг сверху, услышав русские голоса, легко сбежал сам Герцен в мягкой домашней курточке, отлегло от сердца у обоих, заменившись суматошной радостью долгожданной встречи. Правда, на время отлегло…
Поздно вечером, когда дети уже спали и ушла гувернантка, они остались втроем. Герцен заговорил горячо и быстро, и ясно стало, как не хватало ему вот этого – выговориться перед близкими людьми. Он то метался по комнате, то грузно усаживался в кресло. Огарев сидел неподвижно и прямо на вертящемся табурете, изредка роняя руки на клавиши открытого фортепиано. Натали со своего дивана у стены изредка взглядывала на Огарева, видя, как отражается на его лице все услышанное. Но больше смотрела она на без умолку говорившего Герцена. Его лицо перекашивалось то гримасой гнева, то усмешкой; казалось, ни одна мышца не оставалась в покое. Глаза, проницательные и мудрые, вспыхивали, светились, тускнели. Пережитое им было поистине мучительно и страшно, хоть и находил он в себе сейчас, по прошествии нескольких лет, силы и шутить и иронизировать. Впрочем, и начал он с шутки.
– Знаешь ли ты, – сказал он Огареву, – что большая доля моих несчастий обязана тебе своим началом?
– Конечно, знаю, – сказал Огарев. – Просто уверен! Только какая именно?
– А рекомендательную записку к Георгу Гервегу, письмо русского поэта к немецкому кто мне прислал в конверте из-под Пензы? – спросил Герцен.
– Ну говори, Саша, говори, – медленно сказал Огарев, не улыбнувшись. – Я ведь отчасти знаю о происшедшем.
Впрочем, Герцен и сам хотел рассказать как можно подробней и полнее историю своей семейной драмы. Рассказ приносит порой облегчение, оттого и бывает человек так счастлив и успокоен после исповеди.
Георг Гервег, немецкий поэт-романтик, писал горячие, возвышенные стихи о величии души, о героизме и силе духа, о справедливости и самоотвержении. Сам же был человеком слабым, мелким и эгоистичным. В личной жизни скорее несчастлив, чем привычно и успокоенно равнодушен. Друзей подлинных никогда не имел, а делил человечество на врагов, дураков и почитателей. К Герцену, однако, привязался всеми силами души. Он даже поселился у Герценов, мечтая пожизненно находиться возле них. Он восторгался каждым словом и всякой шуткой Герцена, уверял его в своей преданности, распинался в незыблемых чувствах привязанности, почитания и любви.
– Кратчайшая к тебе тропинка, – угрюмо заметил Огарев.
Герцен ничуть не обиделся.
– Я был очень одинок, – откликнулся он спокойно. – А после Франции, после расстрелов, которые я слышал, и крови, которую я видел, после того, как понял, что такое озверевший обыватель, мне, брат, так плохо стало, что впору в петлю лезть. И это во Франции, Ник, в Париже! Вы все далеко. И вдруг – живая душа. Он, подлец, образован донельзя, с удивительной гибкостью ума и суждений. Мы, русские, не умеем так, ты знаешь. У него цивилизация в крови сидит. Впрочем, со всеми ее миазмами. А в общем-то ты, конечно, прав: лесть, восторг, фимиам. Да-а-а…
Герцен снова зашагал по огромному своему кабинету, где они сидели втроем. Голос звучал глухо и хмуро, словно заново переживал он обман, унижение и боль. Видно, время не до конца исцелило его рану, и только теперь почувствовал он, как спадает с его плеч непомерная тяжесть.
Гервег увлекся женой Герцена. А она таких до сих пор не встречала. Наташа привыкла к твердости и покровительству, к мужественной иронии, к сдержанной силе, к уверенному внутреннему спокойствию, что сказывались у Герцена в поступках, словах, повадках и отношениях.
Будучи натурой жертвенной, Натали жаждала принести себя в жертву, а Герцен в этом не нуждался. Ей не приходилось сталкиваться со слабостью, капризами, жалобами и поисками сочувствия. Со слезами, кокетством, почти дамскими прихотливыми переменами настроений, взрывами признаний и откровений. И голова ее закружилась: ей казалось, что настал ее час – жертвовать собой. А Герцен находился в смятении, отчужден, мучился крахом былых надежд о западном пути для России, искал приложения силам, работал, стиснув зубы, уезжал, приезжал – ему было не до нее. И непозволительно запустил, просмотрел, как разворачивалось за его спиной обдуманное подлое обольщение.
– Ну просто знакомую, ну любовницу, даже невесту друга, – говорил он задумчиво, глядя на Огарева. – Но завлекать и совращать жену друга – предел низости. Ник, согласись, предел! А ведь он клялся, даже в эти дни клялся мне, подлец, в вечной дружбе до гроба.
Огарев молчал. Но Герцену и не нужен был ответ. Он продолжал рассказывать, тщательно и безжалостно припоминая подробности. Долгий разговор с женой, ее признание, растерянность, слезы и мучительное, изматывающее влечение, не проходившее, как под гипнозом. А потом объяснение с Гервегом, мелкое и трусливое поведение этого воинственного романтика, цепь подлостей, угрозы самоубийства, теперь кажущиеся смешными. Разрыв с Гервегом, отъезд и новые письма, и новые сплетни и подлости. Пощечина, данная Гервегу другом Герцена, и медленное, очень медленное зарубцовывание сердечной раны.
Внезапно он отвлекался от рассказа об этих тяжких годах и переходил к Вольной русской типографии – гордости своей и предмету новых мучений. Он организовал ее три года назад, вскоре после того, как приехал в Лондон. Ему казалось тогда, что жизнь кончена, что не оправиться уже от ударов судьбы. Он стал черпать силы в воспоминаниях – начал писать книгу, пытаясь спокойно разобраться в пережитом. Это было начало душевного перелома, выхода из отчаяния. Его жизнеутверждающая натура требовала деятельности. Типография стала выходом, приложением сил, бурливших в нем, помогла верить, что не напрасна была юношеская клятва. Организовать ее помогли польские изгнанники. В Париже купили русский шрифт, отлитый некогда для Петербургской академии наук и не выкупленный, нашли помещение, станок, наборщика. Все делалось в складчину. Герцен и сам был в состоянии оплатить все постановочные расходы, но эмигранты с такой радостью приняли участие, что грех отказываться. Он написал к открытию типографии первое воззвание, и поляки взялись отпечатать его и по своим каналам переправить в Россию, чтобы друзья в Москве и Петербурге знали: можно писать, открыты двери вольному слову. Можно издать, наконец, списки запрещенных стихов, у многих хранимые тщательно и любовно. Можно издавать статьи, брошюры, книги. Можно высказаться, подумать сообща, цензуры более нет! Старый польский изгнанник заплакал, увидев первый оттиск. «Боже мой, боже мой, – сказал он, – до чего я дожил! Вольная русская типография в Лондоне! Сколько дурных воспоминаний стирает с моей души этот клочок бумаги, запачканный голландской сажей!»
И вот здесь-то поджидал его новый и совершенно неожиданный удар: Россия молчала. Ни слова, ни звука не доносилось из Москвы и Петербурга. Страх и рабство слишком глубоко въелись в кровь застольных крикунов, чьи вольномысленные речи звучали по гостиным и кабинетам. Казалось, дайте им гласную трибуну, и они перевернут судьбу Российской империи. Более того, сквозь молчание доносились упреки. Обращение Герцена через печать (где не назывались имена) было расценено как донос, навлекающий на головы его знакомых сугубую опасность. Разразилась Крымская война, а Герцен, видите ли, зовет печататься в Лондоне! И то, что враги его открыто именовали изменой, друзья облекли в куда более изощренную и ядовитую форму. Нельзя было, по их мнению, из естественного чувства патриотизма обсуждать свое отечество, выносить сор из избы и клеймить удушливость родного климата в то время, как идет война. С этим не поспорить, можно только задыхаться от удивления, оскорбления, обиды. Герцен был ошеломлен. Как он вынес все это, как не опустились у него руки, он и сам не понимал. Этот удар в спину от вчерашних единомышленников был тяжелым и неожиданным потрясением. Он писал тогда: «Пусть же будет всему миру известно, что в половине девятнадцатого столетия безумец, веривший и любивший Россию, завел типографию для русских, предложил им печатать даже даром, потерял свои деньги и ничего не напечатал, кроме своих ненужных статей». Герцен отказался от планов сотрудника своего Энгельсона воспользоваться английскими средствами для забрасывания в Россию вольных изданий. Уныние, унижение, гнев, растерянность, твердость. Все, отпечатанное им, лежало мертвым грузом – годы лежало! – на книгоиздательском складе, а он продолжал издавать написанное им и упрямо верил, что прав.
– Попреки, – вдруг медленно сказал Огарев, меланхолически ударив по клавише, словно призывая к вниманию, – попреки, что ж, это я, брат, и сам, если хочешь знать, в легкой степени по отношению к тебе испытал.
– Ты? – отрывисто спросил Герцен, круживший по; комнате и застывший немедленно. – Ты-то как же?
– Очень ведь естественно это, и тебе отсюда не понять, – ответил Огарев охотно и добродушно. – А подумал бы, каково им в Москве приходится, понял бы их сполна.
Огарев взял аккорд и неторопливо продолжал:
– Тебя одобрить – значило принять участие, откликнуться, послать что есть. А перехватят? На таможне, на почте, где-нибудь по случаю? И прости-прощай вся налаженная жизнь, включая сладчайшее гражданское негодование и скорбь по российским несовершенствам. Тут и подворачивается, оправдывая внутреннее раздражение, мысль спасительная и благостная: а патриотично ли это – вскрывать язвы родной страны в лагере заклятого врага перед его злорадствующими очами? Ну и так далее. Уж если это чувство даже во мне смутно шевелилось, когда я в своей пензенской глуши сидел, то что же говорить о москвичах и петербуржцах? Нельзя на радость иностранцам ворошить наше грязное белье, грех это перед матерью-отчизной. Просто как плюнуть.
– В меня, – сказал Герцен, стоя неподвижно посреди комнаты.
– А не будоражь, – насмешливо кивнул Огарев. – Не напоминай, что рабы, что апатия, лень, безразличие, равнодушие, благополучие, застольное витийство – нас не тронь, и мы не тронем. А ты тоже – печататься! А если по слогу узнают? Или черновик найдут? А как оказию перехватят? Патриотизма нету в вас, Герцен, любви к отечеству! Врагу на радость вы в военное время посреди вражеской страны мать свою порочить осмеливаетесь. Стыдитесь!
– Это мне понятно, – Герцен мрачно и энергически тряхнул головой. – Умом понятно. Но неужели не ясно: я сражаюсь с Николаем в защиту России.
– А чувство, – продолжал Огарев, – это когда дома живешь и знаешь, что к тебе в любой момент на санках голубой курьер подкатит. Пожалуйте, комиссия собралась, заседать начнет через неделю, а пока мы с обыском. Уж извините, очень интересуемся вашей связью с изгнанником из отечества, государственным преступником Искандером.
– Мерзко это, брат, – угрюмо сказал Герцен.
– Понять – простить, – откликнулся Огарев.
– Это верно: хуже, когда непонятно, – сказал Герцен, вновь мрачнея от воспоминаний. И заговорил о смерти сына Коли и матери. Мать, которую он всю жизнь горячо любил и которой многими чертами был обязан, плыла к ним в Ниццу с Колей и его воспитателем. Мальчик этот, глухонемой от рождения, был всеобщей болью и любовью. В значительной степени из-за него уехали Герцены из России, чтобы если хоть и не вылечить глухоту, то хотя бы научить его понимать других и говорить немного. На родине таких врачей не было.
Уже дом был украшен к их возвращению и корабль причалил, когда приехавший на пристань Герцен узнал, что это другой корабль – подобравший тех немногих, кто уцелел от кораблекрушения. Ни матери, ни сына, ни воспитателя среди спасшихся не было. Ночью мчался Герцен, чтобы разыскать хотя бы их тела. Ходил несколько часов по моргу, перед ним открывали одну за другой крышки гробов, аккуратно поставленных в ряд, и полицейский комиссар спрашивал, не узнает ли он близких. Но их не было и здесь.
Это был последний удар, который добил Наташу. Они ждали ребенка, она простудилась, начался затяжной плеврит. Как она кашляла! Родился сын, Владимир, – так назвали его в честь их венчального города! Но силы таяли с каждым часом. Она умерла у него на руках, а следом за ней умер новорожденный. Так и похоронили их в одном гробу там, в Ницце, на высокой горе. Словно сама судьба мстила цепью трагедий, раздраженная человеческой самостоятельностью.
Об утратах Герцен рассказывал со спокойствием человека, пережившего их настолько болезненно и глубоко, что видно было: сейчас раны уже не болели, а остались лишь полости и провалы в памяти и в душе. Не болящие, не саднящие – отрезанные. Без всякого перехода говорил о детях, что остались: надо учить родному языку, нельзя доверить воспитание иностранцам. Счастье, что приехала Натали, перед смертью Наташа говорила, что на нее только надеется и уповает. А на Огарева он сам надеялся, своим приездом они вернули ему жизнь.
– Просто вернули жизнь. Спасибо, – сказал он однажды.
Это было сказано посреди разговора, одного из тех бесчисленных, что вели они непрерывно дней пять кряду. Уже не упомнить было, когда что рассказывалось, когда какие планы строились, а когда просто перебирали знакомых, кто в какую сторону переменился. Выходило, что в лучшую – никто. Стремительное гниение охватывает человеческую душу, когда она перестает сопротивляться растлевающему, разлагающему течению затхлой жизни. Что-то новое началось сразу же после смерти Николая, но многих уже и эта перемена погоды не могла вывести из апатии.
Только вот пятый день разговора Огарев запомнил навсегда. Тоже, конечно, не весь день, а лишь конец его, точнее, ночь, глубокую ночь. Усталые, расходились они по своим комнатам. Герцен уже ушел, Огарев еще молча курил и собирался что-то сказать, но сказала его жена, все эти дни и ночи промолчавшая на своем диване:
– Знаешь, Ник, а мне безумно жаль Искандера. Он такой талантливый, сильный – и такой беззащитный в то же время, уязвимый, проницаемый! Правда?
И ушла, не дожидаясь ответа, потому что не сказала ничего особенного, да и, собственно, ничего не спрашивала. Так, поделилась ощущением. А Огарев сидел, как ударенный, не мог двинуться с места, и курил, снова и снова отгоняя неотвязно наплывшее воспоминание. Так сказала однажды ему Марья Львовна после их знакомства с художником Воробьевым.
Часть вторая
Зову живых
Глава первая
1Странное дело: Иван Петрович Липранди последнее время начал жадно читать крамольную литературу. Притом стараясь не пропустить ни самой малой новинки. В особенности лондонские издания. Наслаждение, которое он испытывал, объяснялось явственным созвучием его собственных теперешних взглядов на положение дел в России (вовсе не блестящее положение) и взглядов тех безвестных, которые описывали его в деталях. А злорадство он испытывал оттого (старческое, негромкое, чуть конфузливое), что полагал все неприятности и затруднения страны исключительно следствием неприятия его проектов о живительной и всеобъемлющей организации.
Совсем недавно он опять подал наверх две записки, составленные по желанию и частной просьбе двух весьма высоких адресатов: одну – «О состоянии умов в Санкт-Петербурге», вторую – «Об элементах, подготовляющих политические перевороты в государстве». Его благодарили, туманно обещали, что опытность и проницательность его не останутся без применения, после чего опять наступили молчание и пустота. То всеобщее брожение умов, которым заражена была сейчас столица, доносилось до Липранди гулом и рокотом, напоминающим звуки моря, как они чудятся списанному на берег моряку. Но никто, никто не решался взять снова на борт государственной ладьи человека, который единственный, должно быть, сейчас ощущал в себе полную способность разобраться в дарящем хаосе. Сперва ему до головокружения страшным показалось созвучие его собственного мировоззрения с тем, что писала эмигрантская печать. Но потом он привык, успокоился, объяснил себе, что созвучие это кажущееся, просто средства оздоровить страну видят они – и отщепенцы и Липранди – почти одинаково. Например, про царствование Николая в «Полярной звезде» очень справедливо писалось: «Окруженный доносчиками, двумя-тремя полициями, он знал всякое либеральное четверостишие, писанное каким-нибудь студентом, всякий неосторожный тост, произнесенный каким-нибудь молодым человеком, но не имел средства узнать истину, добраться до правды во всем остальном». Вполне, вполне справедливо. Даже о количестве бесполезных полиций. Не хватало просто еще одной, и Липранди точно знал, какой именно, чтобы царь все же знал истину. Из того же второго номера «Полярной звезды», из статьи «Русские вопросы», подписанной псевдонимом «Р. Ч.», что означало, должно быть, «Русский человек», он даже выписал для себя понравившийся ему абзац. В статье этой выражалась уверенность, что скоро новый император непременно освободит крестьян. Безымянный «Р. Ч.» писал, что их «нельзя не освободить, не подвергнув государство финансовому разорению, или дикой пугачевщине, или тому и другому разом». А вот дальнейшее, что писалось, чрезвычайно понравилось Липранди:
«Страшно мне за тебя, моя Россия! Юное правительство, как бы ни было благонамеренно, окружено людьми старыми, для которых личные выгоды значат государственный порядок… Да, если за вопрос освобождения возьмутся люди николаевского периода, они решат его скверно, не беспокоясь о последствиях, решат его со свойственным им корыстолюбием, лицемерием и ловкостью квартального надзирателя, в пользу государственных воров – и только! Для нового вина надо мехи новые: старая истина!»
Безусловно, был согласен с этим Липранди: необходимо, крайне необходимо переменить продажных и трусливых холопов. Что же касается чисто возрастного критерия, то здесь автор просто увлекся, разумеется. Разве в возрасте, в летах дело? Мировоззрение, энергия и преданность службе – вот он, один-единственный настоящий критерий. Действующий пока совершенно наоборот – именно полезным людям заграждающий дорогу к службе. Освобождение крестьян? Разумеется, это назревший вопрос. Только никакой самый глубокий и всесторонний проект не заменит совокупности тех сведений, которые принесли бы наверх, обусловив безупречное созвучие реальности этому проекту, люди, воспитанные по идее Липранди, незримые глаза и уши правительства, до последнего дна проникающие щупальца всеведущей власти. Правильно пишет автор этой лондонской статьи: всюду грабят и воруют нещадно, подкупы и взятки разъедают души и учреждения. А над честными – смеются в глаза, называют их то либералами, то недоумками. Тут, конечно, перегибает автор, он считает, что гласность исправит все это на корню, и чертит пренаивно свои рецепты: «Позвольте наконец честным людям, без опасения заточения и ссылки, изобличать изустно и печатно все административные и служебные мошенничества и всех административных и судебных мошенников». Ах ты, святая простота! Да ведь с ними жить потом! Ну изобличишь, а завтра? Что от тебя останется завтра, изобличитель? Нет и еще раз нет. Изобличать следует непременно, только людям, кои так в безвестности и останутся.
Третий номер «Полярной звезды» Иван Петрович сразу начал читать с продолжения «Русских вопросов». Эхе-хе, явно ведь неглупый человек этот «Р. Ч.», а журнальный писака все же сказывается: бьется и бьется его мысль о цензуру, будто в ней главное зло. Спору нет, Карфаген этот должен быть разрушен, только разве в нем весь корень и механизм? А теперь начнем с начала книжку, вопиющая и приятная дерзностность которой уже в самой обложке с этими пятью повешенными. Первая же статья – разбор манифеста, выпущенного государем к коронации. Дерзкие эти писаки из Лондона пишут о нем так спокойно, будто разбирают ученическое сочинение: осуждают поначалу литературную тяжеловесность и даже уличают в слабой грамотности высочайший документ. Наглецы! Впрочем, обоснование весьма логичное:
«Мне скажут, что это маловажно. Нет! не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов. Это значит, что оно дозволяет писать законы, которые для целого народа должны быть ясны как дважды два – людям, не только не знающим отечественного языка, но даже не имеющим смысла человеческого. Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности».
Чуть ниже вновь согласно дрогнуло больное сердце обиженного Липранди, ибо вновь мягко-мягко вокруг незаживающей его раны прошлось перо эмигранта: «Жалко! Жалко! Неужели и опять Россией будет управлять безграмотная бездарность, смешная для иностранцев и тягостная для отечества?»
Да, да, да – именно: безграмотная бездарность! Кто это написал, интересно?
Липранди заглянул в конец: там вместо подписи стояли тоже лишь буквы, уже не начальные только, а конечное: – ий и твердое окончание какого-то утаенного слова мужского рода. Например… Тут проницательный Липранди спокойно и безошибочно догадался, почему никакой разницы в стиле не ощутил, перейдя от последней статьи сборника к первой. Один и тот же человек их писал. Называющий себя – да, конечно, – называющий себя: русский человек. Отсюда и «Р. Ч.» под последней статьей, и буквы под первой. Однако же негусто у Искандера с авторами, если он разнообразит их только разными видами подписи. Липранди им не обвести вокруг пальца. Впрочем, человек-то дельный. Любая страница – претензии вполне разумны. Вот о пошлине на заграничные паспорта, например: «Если бы правительство положило пошлины на людей, отправляющихся из Вятки в Воронеж, – не правда ли оно само за себя устыдилось бы? А ведь пошлина на заграничные паспорты ничуть не справедливее и не разумнее». Усмехнувшись – вполне согласен, – Липранди отлистнул несколько страниц назад и засмеялся снова, наткнувшись на точную констатацию: «Мы вообще народ страшно благодарный! Мы так привыкли, что нас душат, что когда на минуту позволят привздохнуть, то уже нам это кажется огромной милостью».
Отсюда Липранди принялся читать все подряд. Прощались в царском манифесте кое-какие недоимки и долги – автор и тут прозорливо отметил, что прощается российскому населению, скорее всего, то, что взыскать невозможно.
Обсуждалась амнистия преступникам различного рода: уголовным была оказана милость большая, политическим – почти ничтожная и почти всегда запоздалая, ибо «когда политический преступник был обвинен, вероятно он уже был не дитя, а после такого долгого наказания правительство может быть уверено, что прощает старика незадолго до смерти».
Здесь словно электрическим током пронизало Ивана Петровича Липранди. Он вскочил с места, скинув подложенную подушку, и взволнованно заходил по кабинету, тяжело припадая на раненную когда-то ногу. А прочитал он суждение о том, что зря и несправедливо не прощены пострадавшие по делу Петрашевского. Дело пустячное, раздутое специально неким Липранди, некогда членом тайного общества, а затем шпионом. Невеликодушно было не пожалеть жертвы «происков какого-нибудь подслуживающегося шпионишки».
Быстро взяв себя в руки, уняв негодование и ярость и наскоро просмотрев окончание статьи, начатой им в таком благодушии (нет, больше про него не было), Липранди снова сел к столу и после очень короткого раздумья принялся писать письмо в Лондон. Проницательно почуяв, что автор обеих статей – один и тот же человек, даже укороченный псевдоним угадав совершенно точно (Огарев действительно подписывал статьи «Русский человек», до поры не раскрывая своего имени), Липранди, естественно, не мог знать, что спустя семь лет снова столкнулся с человеком, которого чуть было не обрек на каторгу. Потому и обращался он прямо к Герцену, протестуя против того, что прочел в коротком абзаце. Письмо выходило старческое, беззубое и вялое – ничего уже от дуэльной точности и остроты былого Липранди не было и в помине. Объяснял он свое письмо тем, что дети его могут когда-нибудь прочесть эти слова об отце, и потому считал долгом своим объясниться. Во-первых, писал он, вина Петрашевского и его сообщников потому уже не подлежит никакому сомнению, что ее признал высочайше утвержденный суд. «Не принадлежа к числу тех, которые осуждают свободу мысли, я однако же убежден, что даже благонамеренная в сущности цель (хотя бы и ошибочная по последствиям), коль скоро она ищет себе исхода не законным путем и самоотвержением истинного патриота, по тайными дорогами, сопровождаясь возбуждением волнений, недовольства путем преувеличения существующих недостатков; наконец соединяясь с проектом насильственного переворота, весьма редко обходящегося без пролития крови – в государственном смысле есть уже преступление, требующее со стороны правительства решительных мер по предупреждению страшного зла».
Вы ведь не так думали еще недавно, Иван Петрович? Вспомните, вы не собирались арестовывать этот кружок – вы собирались вдумчиво изучать его. А теперь, оправдывая собственный вчерашний день, вы просто врете, утверждая, что никогда не были членом тайного общества. Ну, зачем же в таком письме? А вот вы начинаете ругать Герцена, обвиняя его в том, что он продался иностранцам, коли смеет, в безопасности сидя, мать-отчизну ругать для ихнего развлечения. Еще недавно вы бы сами над словами таковыми посмеялись. А теперь вот уже просто плохо пахнут ваши слова, ибо здесь вам такт ваш всегдашний изменяет: пишете вы, что вряд ли сам Герцен стал счастливее, бросив родину свою и отдавшись весь злословию, потерявши – за возможность родину обсуждать – все самое дорогое и близкое, что привязывает человека к отечеству. Или вы рассчитываете, что письмо ваше будет напечатано и за преданность вашу, за усердие и верноподданную наивность вам опять предоставят возможность служить?