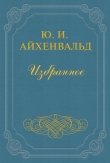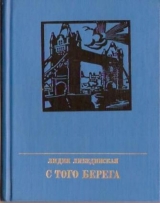
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
Ранней весной тридцать пятого года Огареву был объявлен приговор, оказавшийся не только неожиданно мягким, но просто-таки мягчайшим и снисходительным – вроде легкого не то наказующего, не то упреждающего шлепка. Впредь до особого распоряжения он отправлялся в Пензу, в родной его город, где отец Огарева был уважаем и влиятелен до предела, а сам он знал с детства всех и каждого.
По апрельским то размытым, то тряским дорогам ехал он с сопровождающим жандармом и почти никакой радости не ощущал ни от свободы, ни от весны, ни от молодости. Целые дни отрешенно и молчаливо хмурился в углу казенной неудобной колымаги, и на душе его было так же хмуро – обескураженность чередовалась с недоумением. Он пострадать хотел, он мечтал о наказании суровом и грозном, он все восемь месяцев тюрьмы (пролетевшие легко и незаметно) писал стихи о мученическом венце, желая быть покаранным, что означало бы: свободолюбие принято и оценено всерьез. А его, как жалкого щенка, схватили за шиворот, потрясли и выслали под надзор отца. Двадцатидвухлетний ниспровергатель ощущал душащее негодование и унизительную бессмысленность существования.
Молодость, впрочем, брала свое, и к концу дороги он куда веселее стал глядеть на белый свет, прекрасный в своем весеннем великолепии. Снова зароились в его голове высокие и одухотворенные планы, и к Пензе он подъезжал уже с нетерпением засесть за некую всеобъемлющую и доселе невиданную философскую систему, которая выведет необходимость всеобщей свободы и равенства из самого устройства вселенной и человека. Кроме того, задуманы были несколько поэм, роман и музыкальные композиции, которые сочинял раньше, импровизируя, а теперь будет отделывать тщательно и углубленно. В Пензу въезжал уже снова тот меланхолически-веселый Огарев, которого обожали друзья за постоянное негромкое вдохновение, дававшее любой компании благородный и высокий настрой.
А между тем, покуда он ехал и обдумывал, как построить свою дальнейшую жизнь, отец его, человек очень умный и проницательный, а от давней болезни (несколько лет уже был полуразбит апоплексическим ударом) еще и с обострившимся желанием иметь возле себя горячо любимого сына, принимал собственные меры.
Огарев, рано лишившийся матери, которую не знал совсем (умерла она вскоре после его рождения), отца очень любил и был с ним близок. Но отец понимал прекрасно, что одного этого сыну недостаточно. Поэтому приехавшего юношу окружила немедленно целая толпа молодых родственников и родственниц, жаждавшая вовлечь его, и вполне в этом преуспевшая, в нехитрые свои, но непрерывные увеселения.
Тут пришла пора обратиться к письмам, ибо та эпистолярная эпоха в изобилии снабдила потомков материалами, щедро и глубоко осведомляющими о делах и переживаниях самых разных людей, которым вовсе невдомек было, что самые мелкие детали их жизни окажутся жгуче интересными последующим поколениям. Писали, чтобы поддержать отношения, чтобы осведомиться или сообщить, со скуки, по любви, родству или дружбе, писали, чтобы просто излиться на клочке бумаги, когда не было никого рядом, чтоб излиться ему устно. Почтовые ехали небыстро, но торопливость вовсе не была в духе времени. Порою с большим удовольствием доверяли медленной оказии, более надежной, если боялись прочтения писем чиновными глазами тех историков (по выражению Герцена), которые изучали самую новейшую историю по письмам, еще не дошедшим до адресата.
Огарев переписывался со многими, с Герценом же они написали друг другу несколько томов писем. Поверяли письмам все. Герцен писал другу о своей первой влюбленности (догадайся, кто из сестер, позавидуй, непременно одобри), Огарев только Герцену доверил ответ на самый важный для него тогда, еще неясный самому вопрос: поэт ли он? Герцен отвечал восторженно: ты поэт, поэт истинный, и Огарев благодарил растроганно, добавляя: «Я не могу еще взять именно те звуки, которые слышатся душе моей». (А душе в это время слышались звуки, напоминающие любимого Шиллера.) Но однако: «…имею какое-то самоощущение, что я поэт; положим я еще пишу дрянно, но этот огонь в душе, эта полнота чувств дает мне надежду…», чуть было угасшую по приезде, ибо «меня закабалили обстоятельства. Вообрази, что я почти ничего не делаю по невозможности. Есть человек, которого я люблю, и этот человек урод в нравственном отношении… Я сказал ему: я поэт, а он назвал меня безумным, он назвал бреднями то, чем дышу я. Нет! сил недостает терпеть».
И в другом письме – опять и снова о том же самом: «Я не высвободился из-под опеки родительской… Но поди сюда сам и взгляни на этого старика, семь лет влачащего жалкое, болезненное существование, и если б я вздумал освободиться из-под опеки его любви, не забудь: любви, то ты скажешь мне: бессовестный!»
И продолжалось, тянулось, длилось это состояние обдуманной и осознанной обреченной покорности всем предписаниям любящего отца: веселиться, быть, как все, одуматься и пустые бредни оставить.
Затасканный новыми знакомыми (отец неустанно созывает гостей или отправляет сына на провинциальные увеселения под предлогом, что нельзя и неудобно обижать пренебрежением стародавних приятелей и дальнюю, но родню), погруженный в водоворот бессмысленного оживленного общения, Огарев снова и снова вспоминает в письмах – с любовью и нежностью – месяцы, проведенные в тюрьме. «Время ареста! счастливое время! Сколько мыслей толпилось в голове, как высок, благороден был я! А теперь все пустеет, ум тупеет, душа холодна, мысль хочет повидаться с умом, а ей говорят: дома нет».
Далее следуют строки, впервые в переписке друзей обнажающие стародавний сокровенный замысел: «Мое намерение неизменно. Едешь ты или нет? Неужели наши пути различны!»
Но проходит полгода после приезда, и Огарев уже горячо влюблен.
6– Следует вам доверительно напомнить, – говорил Хворостин усмешливо, – что тогда, двадцать лет назад, был наш Николай Огарев упоительно, фантастически женолюбив.
Огарев засмеялся негромко, и лицо его все целиком расцвело и мягко засветилось от смеха. Он хотел сказать что-то, но промолчал и только плотнее вдавился в кресло.
– Отвечали ему всегда взаимностью, – продолжал между тем Хворостин, куда-то в пространство сквозь переносицу собеседника улыбаясь тому, что он видел там, – и это не удивительно вовсе, ибо красавец, поэт, романтик, умница, немыслимой доброты и отзывчивости, вечно восторжен и приподнят, но возбужденности мягкой, меланхолической, неназойливой, да еще тратится, не считая, хоть отец подачками не балует. Но и последнее отдавал с завидной легкостью. И притом с такой любовью ко всем встречным, с таким бескорыстным и распахнутым доброжелательством, которое женщины не могут не оценить. Да еще душевное изящество чрезвычайное, врожденный такт…
– Очень уж лестно, право, мне даже слушать неудобно, – снова засмеялся Огарев.
– Нет, нет, это правда, и это чрезвычайно важно, – очень серьезно сказал Хворостин. – Потому что все дальнейшее вытекает из этих качеств ваших прямо и непосредственно.
– Слушаю вас, – негромко откликнулся Огарев.
– Избранница – красоты достаточной, молода, пылка, стройна, чрезвычайно сообразительна, что для женщины едва ли не главное достояние ума, нежна и романтически одинока в своем полусиротском положении в доме у дяди губернатора. Губернатор же Панчулидзев – фигура типичная для России – самодур, всевластный взяточник, казнокрад, ловок, умен и со связями и при всем при том меломан, обожает свой огромный и превосходный крепостной оркестр, не чужд и прочих духовных развлечений, что делам и расправам не только не мешает, но даже неким странным образом способствует. Все так, не правда ли?
– Совершенно так, – горячо подтвердил Огарев. – Превосходная и точная характеристика. У него, не помню, рассказывал ли вам, самым доверенным лицом по скользким делам был чиновник, записанный покойником.
Хворостин засмеялся вопросительно, лицо его порозовело и взгляд возвратился в комнату.
– Да, да, да, – сказал Огарев, тоже улыбнувшись, – чиновник этот крупно украл что-то, подлежал суду, спасти его не удавалось, и тогда Панчулидзев в справке показал его умершим. Даже вдове пенсию исхлопотал. И тот еще много лет служил преданно и послушно. С полуслова угадывали друг друга. Ну, каков подлец, а? Меня от омерзения поводило, когда я их видел вместе.
– Простите мне, что я не к месту, – сказал вдруг Хворостин назидательно, – но заметка моя нам еще пригодится. Обратите, пожалуйста, внимание, что негодование ваше против этой замечательной служебной хитрости свидетельствует о некой, что ли, незрелости вашей в отношении любезного отечества. Тут раскладка простая и логика математическая: сердимся мы и гневаемся, удивляемся и негодуем только в отношении тех, кому сочувствуем, с кем узами любви и близости связаны. В отношении же поступков лиц, совершенно нам чужих, мы только констатируем преспокойно: ах, сукин сын, подлец, снова свое лицо показал. С отстраненным, без волнения, пониманием, что поступок или действие – вполне в образе совершившего их…
– Я понял вас, – тон сейчас у Огарева был заинтересованно серьезен. – А вы, наблюдая российские мерзости, неколебимо спокойны, так вас надо понимать?
Хворостин пожал плечами, нахмурил лоб, сморщился. Потом улыбнулся одними губами, по-прежнему пристально глядя сквозь собеседника, отчего улыбка выглядела как мгновенно прошедшая волна запрятанной боли.
– Спокоен, – сказал он. – А иначе не получится – не быть. Иначе ввязываться надо… – Слишком я здесь все люблю, – глухо добавил он через секунду.
– Я не прошу прощенья, что сокровенную струну затронул, – сказал Огарев спокойно и внимательно. – Мы ведь с вами пытаемся докопаться до взаимной сути. Но вот вы решили не быть, пестуете в себе отчуждение некое, высокую отстраненность, стараетесь все понять, ничем не возмутиться и даже ничего не осуждать из своего прекрасного отчужденного далека. Бегство в своем роде замечательное, и, добра вам желая, желаю вам освободиться уж тогда и от той пуповины, коя вас еще с Россией крепко-накрепко вопреки вашим умозрениям связывает.
– Обязательно освобожусь, – твердо кивнул Хворостин лобастой головой, – потому что иначе здесь жить нельзя, иначе уезжать надо. Сенатская нескоро повторится, да и тогда на поражение обречена.
– А в ненасильственные перемены русской истории вы не верите? – спросил Огарев.
– С чего бы? Рабство у всех внутри, положение вещей кажется столь же естественным, как факт, что сосны растут на земле, а кувшинки – в заводях, – возразил Хворостин уверенно. – Потому я и говорю, что в России человек, становящийся личностью, должен очень быстро выбирать, покуда идеалам своим привержен…
– Пока свободою горим, – сказал Огарев, подчеркивая пушкинское «пока».
– Разумеется, – отмахнулся Хворостин. – Потому ведь я и заговорил о жизни вашей, что отчетливо вижу, как вы убежать пытались, делая промежуточные выборы.
– Ну, ну, ну, – сказал Огарев.
Огареву потом часто казалось, что несколько недель подряд – во все время их внезапно вспыхнувшей дружбы – шел один и тот же значительный, несвязный и жгуче важный для обоих разговор. Проницательный и печальный человек этот, неожиданно и ненадолго появившийся в его жизни на сорок третьем ее году, знал о его прошлом, казалось, все самое главное и существенное. Факты и случаи, самим же Огаревым наспех рассказанные, выстраивались в его изложении в стройную и печально закономерную цепь. Сам Огарев никогда над ними не задумывался, жил – и все тут. Но судьба его просматривалась, оказывается, явно и ярко, в случайном сочетании поступков.
7Итак, он влюбился очень скоро. Полюбил неистово, самозабвенно, страстно. Сохранилось множество его писем к Марии Львовне Рославлевой – восторженных, аффектированных, упоенных. Она, впрочем, отвечала ему тем же.
Странное и непонятное нам сегодня чувство, разделявшееся всем их кружком, – чувство своей исторической предназначенности, предопределенности и высокой посвященности всей жизни (для двоих – сбывшееся в полной мере чувство) – наполняет письма к любимой. И оно вовсе не казалось ей смешным в двадцатитрехлетнем поэте, так и не закончившем университет, ничем еще не проявившем и не заявившем себя.
Он сообщает о своей любви Герцену, заверяя, что преданность избраннице сердца ничуть и нисколько не повлияет на их дружбу. И Герцен, вечно ироничный и насмешливый – в устном, личном общении, – издалека пишет ему столь же восторженно и приподнято:
«Дружба наша – лестница к совершенству, и мы дойдем до него. Дружба и любовь – ограда душам нашим – ограда, постановленная самим Господом; ничто нечистое, ничто низкое не переступало ее – и пылинка да не коснется нас вовеки! О, сколько дано нам, сколько мы можем!»
Опять и везде это ощущение предназначенности своей, высокой предопределенности жребия. Откуда оно? От молодой восторженности? От талантливости, действительно присущей и подсказывающей, что рожден неспроста? Или от готовности к действиям значительным и высоким?
Наверно и от того, и от другого, и от третьего. Восторженная приподнятость и аффектация вообще присущи письмам той поры. У Огарева черты эти иногда доходят до предела, и тогда читать его письма становится неловко – словно влез ненароком в сокровенные чувства и мысли, и стыдно рациональности и холодности своей, чуждости его восторгам и сантиментам. Сдержанность нашего века, коей мы так гордимся, что несколько бравируем ею при чтении этих писем, представляется вялостью и анемией, а порой – и циничностью мерзковатой рассудочности.
Вот, впрочем, отрывки из них:
«Я знал блаженство на земле, которого не променяю даже на блаженство рая, за которое я могу забыть все страдания моих ближних, – все, повторяю, – блаженство, за которое я был бы готов отдать будущность, если бы она была несовместима с ним; это блаженство, Мария, – наша любовь… Будем бережно лелеять этот цветок, нездешний цветок, чья родина – небо. Мария, у меня навертываются слезы на глазах…»
«Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Гордись ею! Наша любовь, Мария, это страж нашей добродетели на всю жизнь. Наша любовь, Мария, это залог нашего счастья. Наша любовь, Мария, это самоотречение, истина, вера в наших душах. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я пророк, ибо чувствую, что Бог, живущий во мне, предначертывает мне мою участь и радуется моей любви к тебе…»
Он вспоминает в этих письмах свою еще вчерашнюю романтическую решимость быть аскетом, чтобы в полную силу «послужить обновлению человечества». Далеки теперь эти юношеские мечты. Ныне ему столь же искренне представляется возможность совместить любовь и служение:
«Тогда во мне жила тысяча противоречий: леность и деятельность, жажда наслаждений и моральная сила; я хотел любить и боялся любить. В это время мы встретились. Я полюбил тебя, и я хотел удалиться, чтобы мое присутствие не повлекло несчастья на твою голову. Я хотел этим наложить на себя двойное отречение: остаться на предначертанной дороге и никогда не смущать твоего покоя своей любовью. Но эгоизм любви одержал победу – я не мог устоять. О, как я тебя люблю, мой друг! Знаешь ли ты, что моя любовь к тебе безгранична?.. Чем более я узнавал тебя, тем сильнее любил. Наконец, – была ли то сделка с совестью или искренний крик души, – я сказал себе: столь прекрасная душа должна быть соучастницей великого назначения, – она будет моей женой!
Но однажды я сказал тебе: моя жизнь будет бурна, хотите ли сопутствовать мне? И ты ответила мне: «Думаете ли вы, что у меня не хватит силы выдержать?»
О, Мария, что я почувствовал в ту минуту, невозможно передать; это было счастие благодарности, любовь, доходящая до религиозности; я чувствовал, как вздымается моя грудь, и я мог только сказать тебе: «Благодарю!» Если б можно было, я бросился бы тебе на шею и плакал бы, как ребенок, и был бы счастлив, как бог. Мне казалось, что ты примкнула ко мне, что и ты посвящаешь себя святому делу…»
Экзальтированность писем этих (а ответные – ничуть не ниже по накалу) затруднительна для человека. Непременно она должна смениться либо обыденностью мирной привычки, либо разрывом, тем более мучительным, чем нерасторжимей казалась близость и слиянность душ.
К первому – приземленной будничной близости – заведомо не способны ни Огарев, ни Мария Львовна (отчего-то всюду в мемуарах и письмах так и пишется она с отчеством – не потому ли, что держалась так, словно была старше мужа?). Впереди несколько лет мучительных ссор и разногласий, попытки отнять его у друзей, легкомысленная измена, безжалостное долгое злоупотребление его добротой, щедростью и чувством ответственности, развитым до болезненности. Это, впрочем, будет потом, не сразу, а пока – восторг и полное единство душ и плоти.
Только все, что совершится далее, – вовсе не развитие банальнейшего сюжета: пылкий наивный юноша пригрел у сердца холодную, расчетливую змею – вовсе нет. Мария Львовна Рославлева – девица столь же восторженная, столь же увлеченная, романтическая. Она искренне верит в свою страсть и в свое желание выйти замуж за молодого ссыльного поэта, сына миллионера, кстати – не только по безграничной любви, но и во имя полной разделенности взглядов и устремлений. Потом она с тем же пылом и экзальтацией ударится сначала в светскую жизнь, потом в роман с художником, в быт богемы и, наконец, в запой. И еще много лет после разрыва будет ей Огарев писать письма – заботливые, нежные, вразумляющие.
И отца ее, почтенного обнищавшего саратовского помещика Рославлева, будет Огарев безропотно содержать – кстати, не по наследству ли от отца получила характер Мария Львовна? Промотался и протратился Рославлев на безумной страсти к охоте, весь азарт безудержной натуры вложив в нее. Содержал лучшую в губернии свору собак, псарей, егерей и доезжачих в таком количестве, что любой выезд его на охоту напоминал более всего, как писал один знакомый, «средневековое переселение городов». Пропадал по нескольку месяцев, забирался далеко в чужие губернии. Покуда хватило состояния – трех тысяч крепостных душ.
А потом, живя на пенсию зятя, проводил он время тоже вполне примечательно: запивал недели на две. Уходил в каретный сарай, изобильно запасшись водкой, садился в поломанный тарантас, выпивал первую подорожную, кричал воображаемому кучеру: «Пошел в Пензу, сукин сын!» – и засыпал хмельным блаженным сном. Пробудившись, называл безошибочно следующую перекладную станцию по дороге в Пензу и беседовал вслух с ее смотрителем – знал он их всех поименно, так что явственно представлял себе каждого собеседника. Расспрашивал о семье, о делах, о детях, сам себе отвечал, выпивал понемногу с воображаемым очередным смотрителем и ехал дальше. С холостыми знакомыми беседовал о своих любимых борзых Порхае и Залетае, давным-давно проданных. Так в каретном сарае проводил он недели две, после чего возвращался в дом, чрезвычайно освеженный путешествием.
Словом, вполне идиллически доживал остаток дней – со вкусом и бескорыстием. Бескорыстие запойного старичка было столь велико, что он и минуты не колебался, когда его попросили сделать донос на единственного кормильца, бывшего зятя – Огарева.
Впрочем, это все потом, потом, а пока – друзьям идут восторженные письма: «Эта уверенность, что есть человек, который никогда не усомнится во мне, в каких бы обстоятельствах я ни был, эта уверенность – мое сокровище».
О своей вере в мужа (ощущение предназначенности заразительно и передалось ей) поспешила Мария Львовна сообщить и его ближайшему другу. Разговоров о Герцене и их дружбе было столько, что она торопится до очного знакомства заручиться полным его расположением. Она пишет Герцену письмо, где с легкостью и, как бы невзначай, переходя с русского на немецкий и французский, заверяет, что идеалы и привязанности любимого мужа – святы, неприкосновенны и полностью разделяются ею. Письмо взбалмошное, кокетливое, экзальтированное, выспренное, но Мария Львовна – подлинная женщина по способности проникаться чувствами и настроем близких:
«Будь я красива, тогда был бы обман, тогда еще могла бы быть опасность. Но жена вашего друга безобразна. Теперь вы спокойнее, друг? Что же могло свести и связать нас? Он был дик, я с мужчиной всегда горда. Почти нечаянно вырвавшиеся истины. Правда, Любовь, Вера, самоотвержение, вечность были стихии, в коих я жила с тех пор, что люди и привычка стали задувать во мне огонь воображения и охлаждать несносную резвость. Но простодушие во мне осталось, и она, и сердце доброе и неутомимое… – принесены мною общему другу в приданое; прибавьте еще любовь беспредельную… Выходя замуж, я понимала, какая мне предстоит будущность, но когда однажды постигнешь эту чистую душу, которая только и радуется, что радостями ближнего, то вами овладевает любовь, и чувствуешь в себе способности врачевать ее тоску. Я вообще нетерпеливого характера, а ныне я соперничаю с ним в терпении и ухаживании за его отцом… Успокойтесь же насчет его спутницы, которая нисколько не тщеславна, не легкомысленна, любит добродетель для нее самой, уважает ваши характеры, господа, и не уступит вам никогда в твердости, доброте, человеколюбии… Вот почему я была в состоянии скоро угадать моего друга и теперь принадлежу вам. Жизнь для меня привлекательна только с этой точки зрения – все прочее есть ничто. Если я вас несколько успокоила, то письмо мое было не напрасно. Еще одно слово. Огарев принадлежит великому делу еще более, чем мне, а своим друзьям столько же, сколько и своей возлюбленной. После всего этого не протянете ли вы мне свою руку?»
Разумеется! Двадцатичетырехлетний Герцен приходит в полный восторг и более не беспокоится, что потерял друга и соратника ради неведомой уездной жеманницы. Он пересылает это письмо своей невесте и удовлетворенно пишет, что наконец «решилось ужасное сомнение, кто она, избранная им. Нет, обыкновенная женщина не может написать так к незнакомому, она достойна его».
Но как же дело, предназначение, призвание? Покуда о нем напоминает лишь сменившая первые восторги близости неодолимая и смутная тоска – и впоследствии частый спутник Огарева, предвестие и побудитель многих перемен в его жизни. Это было ощущение напрасности своего до сих пор бесплодного существования, это была «тоска темного сознания, что я свою жизнь пускаю по ошибочной колее».
Умирает отец, осчастливленный и успокоенный женитьбой сына, и приходит пора решаться на какие-то поступки. Еще год назад элегантно и просто губернатор принял от него взятку в пять тысяч рублей. Неотложная надобность, на короткий срок, взаймы и, само собой разумеется, без отдачи. В благодарность рапорт на высочайшее имя о безупречном поведении и ревностной службе (числился он с самого приезда по какому-то неведомому присутствию), ходатайство о разрешении съездить ссыльному Огареву на Кавказ в целях лечения больной супруги. Разрешение получено, они едут вместе на Кавказ, но там на водах Огарев встречает ссыльного декабриста Одоевского и под влиянием многочасовых бесед с ним впадает в религиозный экстаз. Он ничем, ничуть не поступился тогда из своих былых устремлений, просто форма их изменилась несколько: «С умилением читал Фому Кемпийского, стоял часы на коленях перед распятием и молился о ниспослании страдальческого венца» – но за что же? во имя чего? – «за русскую свободу». Вот тогда и возникает, очевидно, прошедшая сквозь всю его жизнь легенда, что характера он был крайне слабого (сам он эту версию поддерживал), что внушаем был до невероятия и что первый встречный неодолимое на него оказывал влияние, формируя образ мыслей его на любой и всяческий лад. А написав или высказав такое об Огареве, немедленно лишь одним вопросом задавались – отчего же он так влиял тогда сам – на того же, к примеру, твердого и целеустремленного Герцена? Впрочем, эта кажущаяся чисто женственная податливость его натуры обсуждена будет еще не раз. А пока важна событийная канва: на Кавказе он узнал, что отец при смерти, тут же бросил все и помчался в Пензу. Отец умер у него на руках, и появился в России странный и небывалый, кажется, до сих пор миллионер: поэт, философ, ссыльный вольнодумец, чуть растерянный, добрейший человек двадцати пяти лет от роду.
Пензенский губернатор, горячо выразив свое сочувствие, намекнул сдержанно и деловито, что пришло, кажется, самое время ходатайствовать о полном прощении и о служебном переводе в Москву. Лично он, губернатор Панчулидзев, хоть сейчас готов послать столь убедительное ходатайство, что конечно же отказа не будет. Но пока, к несчастью, нету досуга, ибо занят неотложнейшим личным делом по уплате срочного долга за новые музыкальные инструменты для всего оркестра и еще иные траты. Долг сравнительно небольшой, каких-то несчастных пять тысяч рублей, столько же, кстати, сколько я вам уже должен, милейший Николай Платонович. Не забыл, уж будьте уверены, просто обстоятельства покуда к лучшему не поворачивают. Можете выручить? Великодушие ваше просто-таки вне всякой похвалы. В таком случае я могу оставить это попечение и заняться исключительно изготовлением вашего документа. Уверен, что, к великому сожалению, вы недолго уже будете с супругой украшать наши музыкальные вечера.
Но на всякий случай отправилась и Мария Львовна хлопотать в столице через влиятельных знакомых. Огарев на короткое время один остался, оглушенный смертью отца, ошарашенный свалившейся свободой, придавленный неотложной уже необходимостью решать и выбирать самому.
Что же вы сделаете перво-наперво, Николай Платонович Огарев? Это ведь очень показательно для человека – что он делает перво-нанерво, когда ему вдруг выпадает выбирать. Может быть, это даже важнее того, что он в это время думает.
Николай Платонович Огарев прежде всего напрочь и вполне осознанно подрезал корни своего пожизненного материального благополучия. Он немедленно принялся за оформление отпуска на безоговорочную волю (да притом еще с отдачей им всей земли) почти двух тысяч крепостных.
Увенчались между тем успехом и хлопоты Марии Львовны в Петербурге, и предстательство многочисленной родни. С Огарева сняли наказание за юношеские грехи, и оба они переехали в столицу. Мария Львовна очарована суетой и блеском, заводит роскошную квартиру, выезд, дает обеды и музыкальные вечера. Между ними впервые пролегает трещинка, вот-вот готовая расползтись, ибо Огареву претит суета жены. Но тут они получают разрешение выехать вдвоем на лечение за границу, и их совместная жизнь быстро-быстро прекращается на модном итальянском курорте, где Мария Львовна столь же аффектированно и страстно, как полюбила Огарева, теперь бросает его, сойдясь с русским художником Сократом Воробьевым. В жизни героя нашего наступает новый этап: странствий, мучительного мужания, поисков себя и судьбы и обсуждения в переписке с другом одной очень их давней мысли.