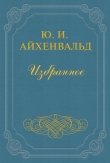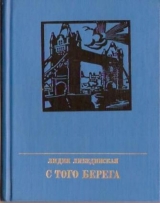
Текст книги "С того берега"
Автор книги: Лидия Либединская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Семи лет Сергей Нечаев уже помогал своему отцу, откупившемуся на волю крестьянину села Иванова, рисовать вывески и малярничать. Года два они ездили и ходили по губернии, ибо других подручных отец отыскать не мог – шла Крымская война. Характера он был нетерпимого – сына сек за малейшую провинность, выбирая лозу неторопливо и со вкусом приборматывая что-то. Потом девятилетнего Сергея отдали рассыльным на текстильную фабрику. Память о здешних подзатыльниках сохранил он на всю жизнь. Вырастал с непреходящим чувством, свойственным приблудной дворовой собаке, поселившейся у недобрых хозяев, от всех постоянно ждал пинка, ругани, поношений. На недолгое время засветила вдруг надежда стать иным: в их деревню приехал откуда-то, то ли из Москвы, то ли из Петербурга, молодой человек, называвший себя писателем и открывший что-то вроде бесплатной школы для ребятишек. Поучил их полгода азбуке и счету, их сердчишки распалил рассказами об иной жизни, а потом круто запил и уехал. Смышленого Сергея выделял, оттого было вдвойне тяжело прощание. Безжалостно оборвалась первая и последняя, может быть, привязанность. Никому в дальнейшем он уже не доверял настолько, чтоб расслабиться до любви и преданности. Выучился понемногу сам, вознамерился городскую жизнь повидать, думал сдать экзамен за гимназию. Мать снабдила на дорогу едой, а подвез знакомый отца. Больше он родных не видел и о них никогда не вспоминал. Для сестры только сделал исключение.
Все не получилось, как хотел. В Москве экзаменов не выдержал, а добравшись с трудом до Петербурга, вновь не смог потянуть за полный курс, сдал только на звание частного учителя. Стал преподавать в церковноприходской начальной школе-училище, скоро перешел в другое – в Сергиевский приход. Показалось отчего-то забавным (сам Сергей), да и должность была на грош повыше: и учитель вроде, и начальник-заведующий. Тут и выписал на хозяйство сестру, тишайшее, будто раз и навсегда испуганное создание. После, кстати, оказалась вполне нормальной женщиной – это брат ее так держал, что боялась слово произнести. Чрезвычайно был с учениками строг и резок, – впрочем, наниматели очень это одобряли. Когда занимался или говорил что-нибудь, сестра с молчаливым обожанием смотрела ему в рот, не шевелясь; он же, монолог прервав, досадливо обзывал ее первым подвернувшимся словом. И еще в плохом настроении срывал зло на вечно пьяном училищном старике-уборщике (он же сторож, истопник и швейцар). Старик до того дошел, что даже жаловаться однажды осмелился, безуспешно, разумеется, и последний раз.
Бедность была безнадежная, безысходная, отупляющая. Мучительно и неизбывно ощущал в себе чудовищную энергию, словно свернулась до отказа внутри и давила изнутри пружина.
Экипажи проносились день и ночь, громко и возбужденно переговаривались нарядно одетые люди, весело и насыщенно протекала мимо проходящая жизнь. Из окон вылетали смех, музыка, свет. Мир был устроен так загадочно и странно, что в нем находились место и удача всем. Кроме Сергея Нечаева. Ибо он понимал удачу и место как нечто (что именно, сказать до поры не мог), распустившее бы в нем его пружину.
День, когда он вдруг понял, непреложно и явственно, что Россия нуждается в переделке, был, несомненно, самым счастливым днем в его жизни. Сразу все становилось на места, обретало смысл, назначение и цену. Ненавистный мир, вызывающий раздражение и злобу, стоил пожара и перестройки.
И, как это бывает одно к одному, как раз студенческие волнения. Сходки то на одной, то на другой квартире. Волнения сразу в трех институтах. Нехитрый и несложный вопрос: о необходимости иметь кассы взаимопомощи для бедствующих студентов, о неотложности заведения столовых на общественных началах и таких же доступных библиотек. И о том, наконец, – тема всегдашняя и давняя в России, – чтобы сами сходки были официально разрешены.
Ожил и взбудоражился Сергей Нечаев. Бегал, организовывал, договаривался, устраивал, связывал, обеспечивал, знакомил и оповещал. Волновался, настаивал и спорил. Но его не очень-то слушали. Нужны были имя, авантажность, авторитет.
И разнесся внезапно слух: арестован Сергей Нечаев. Как, тот маленький, быстрый и настырный? Да, да, да. Тот невзрачный, неказистый и суетливый. Арестован один-единственный он.
О Нечаеве заговорили все. Фигура его вырастала на глазах, обретая неодолимую притягательность.
Похищение! Тайное жандармское похищение! Лучшего для славы и не придумаешь. Это усугубляло таинственность и ореол. Между прочим, на справке о его исчезновении, сохранившейся в Третьем отделении, осталась легкомысленная чья-то пометка: «Личность его едва ли заслуживает внимания…»
После он рассказывал и писал, что сидел в насквозь обледенелых тайных казематах Петропавловской крепости, где замерзал так, что ему ножом разжимали зубы, чтобы влить перед допросом водки для разогрева. Будто бы надел чью-то офицерскую шинель – бежал. Рассказ раз от разу обрастал подробностями, становился все полнее и правдоподобней. Особенно после разговоров с молодыми эмигрантами, которые нюхивали уже Петропавловку.
На самом деле он был это время в Москве, откуда съездил ненадолго в Одессу, чтобы, вернувшись, рассказать в Москве о новом побеге из-под ареста. Он строил теперь свою биографию продуманно и любовно – чтобы жить в ней и из нее, заметной, выходить к людям. И немедленно у него появился рабски преданный, обреченно послушливый приятель, покорный, ничего не спрашивающий, заведомый соучастник в чем угодно. У него-то и взяв на время паспорт, Сергей Нечаев очутился в Швейцарии. Прежде всего он разыскал Бакунина, легендарного неуемного бунтаря.
Бакунин сам очень часто врал – совершенно искренне, по-ребячески врал, выдавая желаемое за действительное. И в свою очередь охотно, готовно, с радостью верил во все, во что хотел поверить. Молодой Нечаев сразу понравился ему огненной, непреклонной и необузданной энергией, а еще более привел его в восторг тем, что рассказал. Наконец-то сбывалась самая заветная, почти безнадежная бакунинская мечта: из глубины России явился посланец огромной и подготовленной организации. Комитетом «Народной расправы» назывался центр этой безупречно законспирированной, разветвленной студенческой организации. А она сама – обществом «Народная расправа». Общество готово к выступлению по первому слову этого безоглядно решительного юнца. Адресов сочувствующих было у него несколько сот. Все мечты пятидесятипятилетнего Бакунина сбывались, воплощенные в этом щуплом фанатике с горячечными глазами. Он и впрямь поверил ему. И, уж во всяком случае, сразу полюбил.
У Бакунина никогда не было своих детей, и впервые ощущает он острое и сладкое чувство отцовства. Он называет Нечаева не по имени, а тигренком или юным дикарем. И с утра до ночи они занимаются подготовкой русского взрыва. Пишутся прокламации и воззвания. Очень быстро высокообразованный Бакунин обнаруживает ничтожную образованность своего любимца, полное отсутствие литературного дара, узость идеи, мировоззрения. Но недостатки эти только сильней привязывают стареющего Бакунина к искрящемуся фанатику взрыва. Первое же воззвание, адресованное студентам и написанное Нечаевым, тщательно редактирует Бакунин, любовно объясняя мечущемуся по комнате тигренку, как надо сильнее строить фразу. Большинство остальных прокламаций и призывов напишет он сам – даже те, что подписывать станет Нечаев, а еще и Огарева привлечет.
Оживает до прежнего своего темперамента грузный, рыхлый Бакунин. Он теперь тот же, что был на баррикадах в Дрездене, и вся его былая решимость и безоглядность выливаются, как в угаре, страшными и безответственными призывами. Очень точно вскоре напишет Герцен Огареву, тщетно пытаясь хоть его предостеречь от этого угара: «Бакунин тяготит массой, юной страстью, бестолковой мудростью. Нечаев, как абсент, крепко бьет в голову. И то же делает безмерно тихая, тихая – и платонически террористическая жилка, в которой ты себя поддерживаешь».
Только уже поздно останавливать Огарева. Нечаев сумел и в нем пробудить надежды. А вдруг этот юноша воплотит все, что не смог воплотить сам? Огарев пишет одно из воззваний к студентам; впрочем, оно умеренно в выражениях, просто он призывает их сплотиться, ибо все упование возможной российской свободы теперь ложится на них. Имя Огарева – далеко не пустой звук, в России поют его песни, читают его стихи, статьи переписывают и перепечатывают, и не зовет он бросать учебу и бунтовать немедленно, а предлагает лишь задуматься, – не пора ли вернуть народу свой долг? К тем, кто не хочет это делать, нет у него нареканий и упрека. Чувствуется школа Герцена: свобода – дело совести каждого. А в листовке, писанной Бакуниным, те, кто не хочет выступить немедленно, умеренные и рассудительные, обливаются ярой ненавистью. Бакунин истово и яростно верит, что слова его наконец-то станут делом. Выкуривает десятки папирос Бакунин, из угла в угол бегает безостановочно Нечаев, и множится, множится поток слов, ставших надолго и прочно позором и стыдом русского революционного движения. Весь талант Бакунина – литературный, ораторский, полемический – вскипает, как на огне, от раскаленной озаренности щуплого взрывателя-ненавистника. Даже древние слова Гиппократа, относящиеся к исцелению страждущих, делаются многозначительным эпиграфом к прокламации, призывающей к разрушению, – слова о том, что огонь – последнее и самое целительное средство.
Оба призывают огонь на Россию. А для пущей удачливости предприятия советуют соединяться с разбойниками.
А во имя чего? Одного и того же самого: «Мы должны отдаться безраздельно разрушению, постоянному, безостановочному, неослабному, пока не останется ничего из существующих общественных форм».
Что же делает Николай Огарев посреди счастливого угарного безумия этих двух, как половинки, слившихся людей? Кажется, немного завидует Бакунину, что Нечаев с ним куда более доверителен, чем с Огаревым. И у него, у Огарева, тоже никогда не было собственных детей, чтобы ощутить свое воплощение и продолжение. И его, Огарева, остро гложет болезненное чувство напрасности и бесплодности вдруг потекшего мимо времени, одиночества среди молодой эмиграции, своей чужеродности непонятным и непочтительным юнцам, ссорящимся вокруг и интригующим от безделья и пустоты. Мечется по Европе Герцен, покоя себе нигде не находя, снедаемый тою же самой тоской. С брезгливостью отвернувшись от Нечаева, он и Огарева предостерегает от него. Настаивает в письмах, уговаривает, сменяет насмешку увещеванием, удивляется и негодует.
Все напрасно. Закусил удила Огарев, и последняя, быть может, надежда светится в его взгляде, когда он разговаривает с Нечаевым. Огарев устраивает печатание всего, что пишут Нечаев с Бакуниным. Ибо издавна нет у Бакунина денег, жив он долгами и тем, что перепадает случайно. Да и у Огарева уже денег нет. Но Герцен, тот не может ему отказать, – как и прежде, вся рассудочность Герцена смолкает, когда настаивает на чем-нибудь единственный его пожизненный друг. А настаивать было на чем. До сих пор еще существовал много лет сберегаемый капитал, им обоим равно принадлежащий.
Десять лет назад это было. Вдруг приехал в Лондон странный молодой человек. Он прислал Герцену записку, прося о свидании, а когда встретились, долго застенчиво Молчал. Это был некий Павел Бахметев, ныне тем более знаменитый, что ничего не известно никому о дальнейшей его после Лондона судьбе. Был он душевно вполне здоров, но его одержимость одной-единственной идеей наверняка заставила бы задуматься какого-нибудь психиатра. Особенно западного, никогда не видевшего русских юношей той поры. А Бахметев, тот Россию оставлял, собираясь на Маркизских островах (по иным версиям – в Новой Зеландии) основать колонию, живущую на началах социализма. Начитался он вволю всяких утопических книг (в гимназии Чернышевский одно время был его учителем, и видались они перед отъездом, и Рахметов из «Что делать?» – это преображенный Павел Бахметев), побродил по России, примериваясь, и решил, что дома мечта не сладится. Был он неловкий, неумелый, но решительности ему не занимать. Продал наследственное имение и подался на Маркизские острова, по дороге навестив Лондон. Сразу о деле он не сказал, сперва аккуратно выспросил Герцена, тот объяснил, что печатный их станок – вовсе не коммерческое предприятие, а затеян ради вольного слова. Очевидно, Бахметев именно это от Герцена и хотел услышать, ибо тут же предложил оставить на нужды типографии капитал в двадцать тысяч рублей. Вполутора больше увозил он для учреждения колонии. Герцен от денег сразу отказался, снова продолжая уговаривать молодого человека не совершать задуманную глупость и заведомым самоутопизмом (каламбур этот из смеси утопленника и утописта показался ему очень убедительным) не кончать свою жизнь, которая еще может пригодиться России. То же самое почти слово в слово очень сердечно повторил ему вечером Огарев, но Бахметев остался неколебим. И настаивал чуть не со слезами, чтобы они эти деньги у него взяли, – так ему душевно будет легче. Дав Бахметеву от имени двоих расписку в получении денег, Герцен и Огарев сговорились, что лет десять подождут расходовать их: если одумается, повзрослеет и вернется, пригодятся ему. Они обнялись на прощанье… Был убит, очевидно, по дороге. Ибо туго набитый бельишком и любимыми книгами студенческий хилый чемодан не вместил обмененного ему в Лондонском банке золота, и он просто завернул его в небольшой шейный платок – так мочалку домой из бани носят, если недалеко дом, – и от всех увещеваний и предостережений отмахнулся рукой небрежно. Бесследно и навсегда пропал Бахметев. Обреченная чистота и решимость этого канувшего в небытие человека сильно и не случайно тревожила сто лет спустя историков. Но узнать ничего не удалось.
Срок хранения этих денег истекал, давно было ясно, что они востребованы не будут. Многие знали об их наличии, многие зарились на них, предъявляли претензии. Не раз предлагалось поставить на них новую типографию в Европе, помочь молодой эмиграции, затеять еще один журнал или газету. Герцен был непреклонен и тверд, тем более что опирался на неизменную поддержку Огарева. Последняя сильная атака была выдержана от Бакунина. То он собирался заслать куда-то своих агентов («Не надо, – спокойно говорил Герцен, – совершенно их посылать незачем»), то затеять пропагандистское предприятие, то еще, еще и еще. Появилось даже понятие, точно высказанное Герценом: «убакунивание» любых сумм, попадавших в его неугомонные руки. Капитал был оставлен Бахметевым под расписку двух, и оба полагали себя ответственными за него. Вот почему Герцен, когда Огарев потребовал от него половину, на которую имел право, помрачнел, но сопротивляться не стал. Так появились у Нечаева и Бакунина деньги на печатание своих призывов.
Герцен колесит по Европе: Берн, Ницца, Люцерн, Париж, Флоренция – есть и другие города, аккуратно обозначенные на конвертах его частых писем. Недоумевающих, вопрошающих, злых. И – растерянных, тоскливых, сумрачных. Все плохо, все трудно. Непонятно, как жить дальше в этой разваливающейся на глазах семье, где внутри ни любви, ни приязни, только раздражение и тягостные обязательства. И неясно, что делать дальше, – кажется, исчерпала себя Вольная печать в том виде, как понимал ее Герцен. Огарев нашел себе занятие, но оно, чем дальше, тем больше тревожит Герцена; если к молодой эмиграции он испытывал только неприязнь и понимал невозможность найти контакт, то к Нечаеву чувствует омерзение. И душевную боль оттого, что Огарев словно ослеп.
Глава третья
1Бакунин, хоть на час да появлявшийся ежедневно, вдруг на три дня исчез, и Огарев уже собрался было к нему, но тут они пришли с Нечаевым. Бакунин, как всегда потный, возбужденный и громогласный, Нечаев хмурый и сосредоточенный. Огарев с утра плохо себя чувствовал, болела сломанная еще в прошлом году нога, он сидел неподвижно, старчески опершись обеими руками о набалдашник палки, радуясь, что не надо никуда идти. Он думал о старости и смерти, недоумевая, почему в пятьдесят шесть уже шевелятся такие мысли, и никак не мог отвлечься от неотвязной утренней сумрачности. Впрочем, Бакунину никогда не было дела до настроений собеседника, в этом отношении он был неподражаем, как и во всем остальном. Сразу же усевшись к торцу длинного стола, принялся набивать себе папиросы, чтобы потом дымить, прикуривая одну от другой, и, похохатывая, стал говорить, как устал с утра до ночи писать и разговаривать с тигренком об одном и том же, ибо никаких иных тем этот юный дикарь не признает. Нечаев молча бегал из угла в угол, не выпуская из рук принесенную с собой папку.
– Ну, кого ты видел за это время? – спросил Бакунин Огарева.
Мэри принесла чай и сразу вышла. С Бакуниным, которого она не любила и боялась, она вела себя отчужденно и церемонно. Он даже не взглянул на нее, а Нечаев смотрел на нее пристально все время, пока была она в комнате, и даже вслед посмотрел.
– Видел я кого?.. – медленно заговорил Огарев, но тут Нечаев коротко и отрывисто перебил:
– Давайте, господа, работать, лето уже на дворе, пора.
Огарев покорно замолчал.
– Вот так, брат, он меня и держит, как наемника, – захохотал с удовольствием Бакунин. – Давай, давай, тигренок, читай. Мы тут набросали с ним общие правила для революционера. Катехизис. Пока, собственно, тезисы и идеи. После он разовьет, а я пройдусь набело, и хотим обкатать это на тебе, Платоныч. Не возражаешь? И держись, брат, ты еще такого не слыхивал.
Нечаев это время стоял к ним спиной, у окна и вдруг звонко по-мальчишески чихнул. Снова захохотал Бакунин.
– Хилый вы народ, сегодняшние, – сказал он самодовольно. – Я вот, когда на офицера обучался, так здоров был, что проклинал свое здоровье. Дай, думаю однажды, простужусь: воспаление, к примеру, легких схвачу, что ли. Выпил, натурально, чаю с полведра, с малиной, весь вспотел, запарился, сразу разделся до пояса, вышел и улегся на снег спиной. Полчаса полежал – невмоготу больше, прохватило насквозь. Оделся, вернулся в комнаты, лег спать. Ну, думаю, наутро температура, жар, озноб, спишусь по болезни. Черта с два! Даже насморка не получил. Ладно, ладно, тигренок, – заторопился он, – давай, я отвлекся.
– Здоровье у таких, как вы, – оно за счет народа, который от голода и лишений рос хилым и не мог развиваться физически, – сказал Нечаев враждебно, но не обиженно.
– Врешь, брат, – опять засмеялся Бакунин, закуривая первую папиросу. – А бурлаки откуда брались, а разбойники и силачи сельские? Ты, брат, собственную комплекцию не обобщай, я ведь не хотел тебя обидеть. А обидел – прости, пожалуйста, это ненароком вышло.
– А меня нельзя обидеть. Невозможно, – холодно сказал Нечаев. – Будем читать?
– Ну конечно, – виновато и заискивающе сказал Бакунин. На памяти Огарева он ни с кем никогда так не разговаривал.
«Что ж, – подумал Огарев, – воплощение всех надежд, последнее, может быть, воплощение!»
Вот ведь чем был для них этот собранный в кулак мальчишка.
– Катехизис революционера, – начал Нечаев, присев к столу и раскрыв папку, но глядя куда-то в сторону, тускло и монотонно. – Делится на четыре части. Часть первая – отношение революционера к самому себе.
– Ну, это выработано классически, – самодовольно вставил Бакунин, окутываясь клубом дыма.
– Я читаю, – сказал Нечаев и уткнулся в папку. Голос его стал выше и резче: – Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единой мыслью, единой страстью – революцией.
Второе. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира. Он для него враг беспощадный.
– Для этого мира, то есть, – сказал Бакунин, – тут бы точнее надо.
Нечаев не поднял головы, продолжая:
– …и если бы он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.
Третье. Революционер презирает всякое доктринерство и отказывается от мировой науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку – науку разрушения. Он изучает денно и нощно живую науку – людей, характер, положения и все условия настоящего – общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна – наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
– Сделай-ка отметку, тигренок, – благодушно пыхнул дымом Бакунин. – Надо вставить, что физику, химию и медицину изучать можно, чтобы все уметь делать самому.
– Что? – спросил Огарев, но, сообразив, кивнул головой несколько раз.
Нечаев быстро взглянул на него, делая на листе пометку, и Огарев вдруг подумал, что мальчишка этот, взявшийся за практику революции, должен наверняка презирать их обоих – теоретиков, словесников, ничего руками. не умеющих делать. Вспомнил свои давние эксперименты по химии – господи, как был молод тогда! Что-то прослушал, кажется.
– Шестое. – Голос Нечаева налит был необычайной силой. Явственно было видно, слышно и ощущалось переживаемое им наслаждение. Ярость и восторг заражающе витали в воздухе и уже отражались на лице Бакунина, бросившего папиросу. Голос наполнял комнату: – Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Нечаев замолчал и судорожно вдохнул воздух. Тощий кадык его дернулся вверх к горлу и опять осел на неловко повязанном галстуке.
– И здесь будет правка, – озабоченно сказал Бакунин. – Сделай метку, тигренок.
– Дальше идет отношение революционера к товарищам по революции, – остывшим голосом сказал Нечаев. – Это еще вовсе не разработано пока. Основная мысль состоит в том, что мера дружбы с человеком и мера преданности ему зависит от степени его полезности для революционного дела.
– Ну, однако же, – возразил Огарев, но замолчал, ибо Нечаев продолжал, глядя мимо него куда-то в стену.
– Разделение долито быть по категориям. Посвящать во все дела и планы следует совсем не всех. Под рукой у каждого борца высшей категории должно быть некоторое количество категории низшей. Он рассматривает их как революционный капитал, отданный в его распоряжение, и тратит, как находит нужным. Но и на себя он смотрит как на капитал революции, поэтому, если попал в переделку, то выручать его будут или не будут, взвесив предварительно пользу его и расход необходимых сил.
– С этим я никогда не соглашусь и даже спорить полагаю излишним, – сказал Огарев, мягко улыбаясь. Эту его застенчивую улыбку превосходно знал Герцен и никогда уже не настаивал на своем, если она появлялась.
Бакунин изучением собеседников никогда в жизни не занимался, почему и вмешался суетливо и настойчиво:
– Ты не прав, ты зря уперся, Платоныч. Это должен быть рыцарский, или, если хочешь, монашеский орден, и с подвижничеством, которое диктует катехизис, молодые согласятся с восторгом. Им нужна и сладостная жертвенность.
– Может быть, но я не молод и не вправе никого к ней обязывать. И давайте почитаем дальше, я, ей-богу, даже спорить не стану.
– Да и ни к чему спорить, – сказал Нечаев, так внимательно и спокойно смотревший на Огарева, что тот вдруг понял, похолодев, что вот он, Огарев, уже и не стоит никакой траты на него революционных сил и времени. И от этого вдруг очень хорошо и бодро себя почувствовал – исчезли куда-то боли, туман, расслабленность. Наступила полная трезвая утренняя ясность, и не знал Нечаев (вот бы Герцен счастлив был), как сейчас близок Огарев к тому, чтобы сбросить с себя обаяние этого остроглазого юнца. Он распрямился, оторвавши руки от набалдашника, улыбнулся широко и поощрительно и сказал, что готов действительно сперва выслушать все до конца.
Нечаев вытащил из папки лист бумаги, мелко-мелко исписанный с двух сторон, и встал, молча пройдясь с ним по комнате. Остановился, заглянул в него и заговорил тускло, не вошедшим еще в пафос голосом. Впрочем, после двух-трех фраз голос его снова налился звучностью, металлом и чарующей, гипнотизирующей убежденностью:
– Далее идет отношение революционера к обществу. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Все и вся должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в обществе родственные, дружеские или любовные отношения, он не революционер, если они могут остановить его руку. Он не может и не должен останавливаться перед истреблением всего, что может помешать ходу всеочищающего разрушения…
– А если это шедевры архитектуры или живописи, случайно оказавшиеся в поле схватки? – вдруг перебил Огарев.
Нечаев, будто споткнувшись, недоуменно смотрел на него затуманенными глазами. Бакунин снова гулко расхохотался и на глазах помолодел от какого-то воспоминания.
– В Дрездене же, в Дрездене в сорок девятом у меня такое было, – заговорил он радостно. – Я им предлагаю, немцам, педантам этим: выставьте вы на крепостную стену рафаэлевскую мадонну, а к осаждающему начальству пошлите кого-нибудь сказать: мол, стрельба ваша – картине гибель. Как пить дать, уверен был, что прекратят хоть на время обстрел. Немцы все-таки дисциплинированные. Нашим бы я ни за что не предложил: изрешетили бы за милую душу.
И опять захохотал громко. Нечаев молчал.
– Правда, не послушались они совета, – сказал Бакунин, успокаиваясь. – А вопрос твой, Платоныч, бессмысленный, извини меня, старика. Тут людей жалеть не приходится, а ты о каких-то каменных дурачествах подлого прошлого. Их даже, если не помешают, следует так разрушить, чтобы никакой и памяти не осталось об эксплуатации обманутых и рабов.
– Ну-ну, – сказал Огарев неопределенно.
Нечаев продолжал, словно запнулся на запятой: отвлечения его не интересовали. Огареву показалось даже, что он просто не слышал их разговора, пережидая вынужденный перерыв. Теперь он уже читал по рукописи:
– С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду: во все высшие и средние классы, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний.
Нечаев захлопнул папку, помедлил секунду, встал и заходил из угла в угол, огибая выступ стола. Огарев смотрел на него, не отводя глаз.
– Население будет разделено по спискам на пять категорий, на пять, – говорил Нечаев размеренно, медленнее шагая из угла в угол и подбирая выражение для мыслей хоть и выношенных, но еще в слова не отлитых. – Это по порядку их вредности делу очищающего разрушения. С тем чтобы первые номера были убраны со сцены ранее последующих. И единственный принцип при составлении списков…
– Проскрипции, – сказал Бакунин негромко. Нечаев не обернулся к нему.
– …это польза, которая принесется народному делу от смерти того или иного человека. Первая категория – это те, чья внезапная и насильственная смерть потрясет, как гальваническим током, всю страну и правительство, наводя на него страх и лишая его умных и энергичных деятелей.
Он говорил, и лицо его горело ровным пламенем, и походка, повороты тела, осанка обрели невыразимую кошачью грацию, под стать ровному и звучному голосу. Записать сейчас, и правка бы не понадобилась, отчего-то подумал Огарев и мотнул головой, отгоняя эту мысль, как муху, чтобы не мешала слушать.
– Вторая категория – список тех, кто совершает поступки зверские, помогая своими действиями и распоряжениями довести народ до неотвратимого бунта. Этим жизнь временно даруется ради невольной помощи делу.
Нечаев замер на секунду, потом словно пируэт сделал, чтобы распахнуть на миг свою папку, и опять пошел, пошел упруго и безостановочно.
– Третья категория – это все остальные высокопоставленные скоты, те, кто пользуются по своему положению, хоть и лишены ума и энергии, связями, влиянием, силою, богатством, известностью. Их надо опутать, прибрать к рукам, вызнать слабости и грязные тайны, так скомпрометировать их, чтоб они, как рабы, как веревочные куклы…
И опять перестал Огарев его слышать, голова закружилась, и все поплыло перед глазами. Он оперся на палку, стиснул зубы и уже только в себя вслушивался, – кажется, назревал припадок. А он не мог, не мог, не мог свалиться перед мальчишкой. Нет, не мог, не мог, не мог. Радужные круги плыли по стене возле окна, сходясь почти концентрически, сужаясь и исчезая в разных местах, чтобы вновь широкие пошли следом. Когда они соберутся вместе, в один фокус, он упадет, и сделается припадок. Но нельзя это, никак нельзя. Надо болью, можно болью отвлечься. И медленно, медленно, аккуратно, аккуратно стал Огарев придвигать поближе к суковатой палке сломанную в прошлом году ногу. Он очень хорошо помнил, где еще было больно дотрагиваться.
– …Этих будто бы революционеров мы толкнем вперед, в обязательства, выступления и поступки. Результатом будет бесследная гибель большинства и революционное созревание оставшихся немногих…
Боль пронзила ослепительная, острая, облегчающая. На степе кругов как не бывало, а нараставшее, поглощавшее забытье сменилось теплыми каплями пота по всему телу, слабостью и головокружением. Хорошо бы воды сейчас. Хорошо бы. Только не сказать, не слушается пока язык. Ну да ладно, отсижусь, бог даст. Главное теперь позади.
– …Товарищество будет всеми силами способствовать развитию и усугублению тех бед и тех зол, которые должны вывести наконец народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию…
Что-то еще проговорил Нечаев отчетливо и патетически, заглянул еще раз в папку и замолчал. Молчал и Бакунин, глядя на Огарева. Кажется, Бакунин видел и понимал его бледность – скажет что-нибудь сейчас, не удержится. И лучше, значит, говорить самому. А я уже в силах сам?
– Я хотел бы все это прочитать глазами, – сказал Огарев медленно, с трудом ворочая вспухшим, сухим языком.
– Это еще не обработано, как видите, и потом на чтение нет времени, – ответил Нечаев.
– Сегодня же это все будет сделано, – сказал Бакунин. – Мы читали тебе главные наброски. Ну завтра, по крайней мере. Времени вовсе не остается.