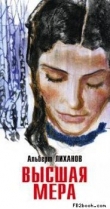Текст книги "Высшая мера"
Автор книги: Лев Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
устарелых навыков. К будущему году я совершенно реорганизую заводы. А в двадцать девятом году
“Франклин” будет стоить дороже Пакарда и Ройса. Майльс предлагал мне свой проект раскраски кузова и колес.
И, знаете ли, я убедился в том, что он мне не нужен. Художники мне не нужны, я буду учиться у природы.
Ричель остановился и, подготовив эффект, продолжал:
– Я остановился на попугае.
Донцов перестал есть. Его раздражали почти невидимые. быстрые и ловкие руки лакеев, неслышно
наливающие вино в бокалы и неслышно меняющие приборы. Немые, как бы несуществующие свидетели этой
встречи раздражали его.
– Я остановился на попугаях, – с увлечением маниака продолжал Ричель, – именно на бразильских
попугаях и некоторых видах ящериц. Вы имеете некоторое представление о расцветке попугаев и ящериц? Или
расцветке колибри? Именно такие тона надо сочетать в окраске кузова и колес. В Лондоне, на нашем стенде, мы
выставили нашу модель 1928 года…
Лакеи привозили и увозили серебряные блюда. Маленькие столики откатывались в сторону, и на их место
из темноты выдвигались другие. Перед Ричелем стыла на тарелке жидкая, серая кашица. Он опустил глаза в
тарелку и скептически рассматривал ее, прищурив глаза.
Этому человеку принадлежала половина мировой выплавки железа и стали.
– Слушайте, мистер Ричель, – громко выговорил Донцов, – давайте поговорим о деле. Вы знакомы с
единственным вопросом, который меня интересует.
– Очень немного, очень немного, – сказал Ричель, отодвигая тарелку с серой кашицей, – то есть я
знаю то, что читал в “Hutte” и в наших справочниках. К моему стыду Россия меня мало интересовала, однако, я
могу вам перечислить ваши заводы на Урале и Кривом Роге, процент серы, содержащийся в коксе Донецкого и
Кузнецкого бассейнов, анализы чугуна Брянского и других заводов.
Цифры и названия он произносил быстро, не задумываясь, упершись глазами в скатерть, точно читая с
невидимых диаграмм и таблиц.
Донцов встал. Он не мог говорить сидя. Его смущала скатерть, хрусталь и цветы. Он сделал несколько
больших шагов и сразу почувствовал себя тверже и, не глядя на Ричеля, заговорил в пространство – во
враждебную, настороженную темноту.
– С вашей точки зрения вы правы, мистер Ричель, правы, когда говорите о количестве выплавленного
нами чугуна и ничтожной доле его, приходящейся на душу населения нашего Союза. Я знаю ваши цифры и с
завистью думаю о них Я знаю анализ Коннесвильского кокса и ваши Питсбургские копи, но вы забываете о
наших резервах. Наши копи идут по поверхности земли, мы еще не проникли в недра, мы не израсходовали
тысячной доли наших богатств Вы, один из первых дельцов Америки, имеете представление о русских и России
по книгам ваших соотечественников, по запискам ваших секретарей. Другие ее знают по пьесам Толстого, по
книгам Достоевского, по музыке и танцам и театру, которые идут из России. Но прежней России нет. Прежних
русских нет. Мы вытащили новых людей из гущи, из ста тридцати миллионов. Нет кающихся дворян, нет
камаринских мужиков и темных мастеровых. Впрочем, вы этого не поймете. Ваши секретари дали вам как будто
точные сведения, и вы уверены в нашей слабости. Однако же вы знаете, сколько мы восстановили доменных
печей, вы знаете, как растет выплавка чугуна. Все это вы можете увидеть своими глазами через неделю на
Урале и в Кривом Роге.
Ричель поднял руку и почти беззвучно сказал:
– Кокс.
– Да, вы правы. Уголь. Уголь и железо. Одно цепляется за другое. Кокс.
– Вы восстанавливаете доменные печи, вы тратите кокс на полуфабрикаты и у вас нехватает его на
выработку фабрикатов. Надо реорганизовать, надо совершенно переоборудовать ваши заводы…
– Верно. Поэтому я и говорю сейчас с вами. Не ради же остендских устриц, чорт их возьми, я здесь!
Донцов расстегнул пиджак и вытер выступивший на лбу пот.
– Вы можете нам помочь. С вами мы сделаем три шага вперед, без вас – один. Но мы не погибнем. Я
знаю вашу биографию, Ричель, я знаю, с чего вы начали сорок лет назад. И мне кажется, что вы сохранили
здравый смысл, несмотря на пять долларов чистого барыша в секунду. Я уверен, что вас интересует это дело,
несмотря на ваш безразличный вид.
– Оно меня интересует.
– Конечно, я уверен, что вы много думаете о том, куда поместить несколько сот свободных миллионов.
Поэтому вы схватились за “Франклин” и думаете о раскраске кузова, о люкс-автомобилях для кокоток и богатых
дураков. Вы взяли все у настоящего и у прошлого, но будущего у вас нет. Вот новое дело. Дело будущего. Дайте
нам машины, и мы будем работать не хуже Питсбурга. Я говорю с вами так, потому что вы не банковская акула
с Уолл-Стрит, а настоящий промышленник. Вы захватили железо и уголь обеих Америк, при чем же тут попугаи
и ящерицы, чорт их возьми?
Они были совершенно одни. Лакеи незаметно ушли в ту самую минуту, когда Донцов встал из-за стола.
Ричель сидел неподвижно, еле заметным движением пальцев подтягивая к себе скатерть. Донцов смотрел в
темноту, в тяжелые, непроницаемые драпировки, и в этой темноте, за плечами старика он как бы видел
огромные пространства изрытой шахтами земли, горы каменного угля, гигантские подъемные краны,
спокойное, слегка загибающееся коптящее пламя плавильных печей, подвесные, двигающиеся в воздухе
вагонетки и заводы, дивизии заводов, армии заводов, теснящие железнодорожное полотно. Вчера ночью,
именно такой он видел Бельгию в окне экспресса, пятнадцать лет назад он видел Питсбург – Пиренеи руды,
Альпы, Гималаи чугуна, железа и стали. И все это было в руках усталого, скучающего старика.
– В сущности мы враги, – наконец выговорил Ричель. – Я люблю примеры из библии. Голиаф и
Давид. И вот Давид приходит к Голиафу и говорит: “Сделай мне пращу, и я когда-нибудь убью тебя из этой
пращи”. Вы меня понимаете?
– Какое мне дело до библии? Какое вам дело до библии? Когда вы разорили тысячи людей, когда вы
организовали Всеобщую Металлургическую Компанию, вы не искали примеров в библии. Мне кажется, что я
вас понял. У вас просто нехватает смелости. Это старость.
Ричель слабо улыбнулся.
– Вы боитесь. Двадцать лет назад у вас хватило бы смелости работать с нами. В сущности, мы должны
бояться вас, Голиафа, а мы зовем вас работать. Я понимаю. Гораздо больше нас вы боитесь финансистов с Уолл-
Стрит, банковских акул, которых вы презираете, затем вы боитесь Пятой авеню и прессы наших кредиторов. И,
знаете ли, Ричель, это – старость. Не гипнотизируйте себя “Франклином” и попугаями. Это – старость.
Донцов посмотрел на часы.
– Вы уходите? – спросил Ричель и встал. – Но, я думаю, мы еще встретимся. Я люблю живых и
здоровых людей.
Донцов спустился в вестибюль. Красивые женщины в пышных мехах заглядывали ему в глаза – может
быть, потому, что его провожал секретарь самого Ричеля, а может быть, и потому, что Донцов был стройным и
складным малым. Он шел и думал о Ричеле, о старом Ричеле с ревматизмом и язвой желудка, и смотрел на
открытые плечи и ноги женщин с любопытством и легким озорством.
Ричель сидел в одной из одиннадцати комнат апартамента и растирал ладонью мертвеющий мизинец. Он
не болтун, русский молодой человек, но он сказал именно то, о чем иногда думал Ричель.
– Помните, Фолл, – вдруг сказал он, – помните, сорок лет назад, когда мы были молоды, в Портланде,
в лесу, мы говорили о смерти. И вы сказали: “Люди придумают что-нибудь к тому времени, когда нам придется
умирать”. Вот прошло сорок лет, и ученые люди ничего не придумали. Мы даем им деньги, много денег, и все-
таки они ничего не выдумали.
– Ничего.
– Старое уходит, – думал вслух Ричель, – в сорок, пятьдесят лет человека режет бритва. Это —
зрелость. Затем лезвие не годится, и это – старость. Надо бросить лезвие.
Между тем, Иван Андреевич Донцов вышел из подъезда отеля “Клэридж”. Шофер такси перегнулся и
открыл дверцу машины, но Донцов покачал головой и пошел направо по Елисейским полям. Он почувствовал
волчий голод, удивился и вспомнил, что ничего не ел, и рассмеялся.
Около Инвалидов есть ресторанчик для шоферов. Там в любое время можно получить телячье филе и
сухое, легкое Анжуйское вино. Донцов повернул влево и, прыгая через две ступеньки, сбежал вниз, в душную и
сухую ночь метрополитэна.
Л Е Д И П Л А М Е Н Ь
Осенью 1926 года Иван Иванович Зайцев выехал на пароходе “Пестель” из Новороссийска в Крым, в
Севастополь. Пять недель Иван Иванович жил у начальника Энской дивизии, Яна Карловича Шерна. Эти пять
недель они провели вместе, частью в лагерях, частью на конском заводе в Северном Кавказе. Горы и воздух,
люди и лошади понравились Зайцеву. Он мог бы прожить у Шерна до осени. У них были грубовато-
приятельские, давние отношения, отношения бывшего командарма и его начальника штаба девятнадцатого и
двадцатого годов. Когда Зайцев сказал, что уезжает в Новороссийск, а оттуда с первым пароходом в
Севастополь, Шерн пожал плечами и протяжно свистнул: “Не видали тебя в Крыму?” Зайцев показал ему
телеграмму. В телеграмме было сказано, что их старый товарищ, по фронту, бывший член революционного
военного совета армии, Яков Егорович Петров, находится в последней стадии туберкулеза и, повидимому,
умирает. Телеграмма была подписана неизвестной Шерну и Зайцеву фамилией, Анна Морозова. Вечером
Зайцев выехал в Новороссийск. Шери проводил его на вокзал. Весь день они промолчали, потому, что сыграли
шесть партий в шахматы. По дороге на вокзал Шерн рассказал Зайцеву смешную историю о четвертой
женитьбе знакомого командира полка Ткаченко и, неожиданно вздохнув, сказал: “Застанешь в живых —
поклонись. Слышишь, поклонись старику”. Шерн уехал задолго до отхода поезда и Зайцев понял, что бывший
командарм не в духе и взволнован. Не останавливаясь в Новороссийске, Зайцев проехал прямо в порт, на
пароход. Пароход отошел в час ночи и всю ночь Зайцев просидел на палубе. Не было свободных коек, затем
Зайцев хорошо спал в вагоне и ему не хотелось спать. Он лежал на скамье верхней палубы, слушал удары винта
и плеск воды за кормой. Внизу бренчали на мандолине и пели “Вниз по матушке по Волге”, но на море была
значительная и строгая тишина и голоса и звон струн рассеивались и пропадали в необъятном пространстве
воды и воздуха. Небо поголубело и в небе, под мигающей серебряной звездой, обозначались мачта, обруч и сеть
проволок радио. Мачта наклонялась вперед и назад, перед рассветом слегка качало. Черно-синие, упругие валы
подкатывались под пароход, уходили на восток, похожие на расплавленный, стынущий металл. Зайцев лежал на
спине, упираясь ногами в белый ящик на палубе и сильно нажимал каблуками на ящик, точно старался ускорить
бег корабля. Поймав себя на этом, он понял, что боится опоздать, боится никогда не услышать знакомый, глухой
голос Якова Егоровича Петрова. В последний раз он видел его на торжественном заседании совета. Двадцать
минут они стояли в курительной комнате, в театральном буфете и Зайцеву показалось, что за последние десять
лет он не заметил никакой перемены в Петрове. Те же седые, вперемежку с черными, пряди редких волос, то же
сухое, обтянутое смугло-желтой кожей лицо, и та же молодая стройность, несмотря на пятьдесят прожитых лет,
лишения и долгую и неизлечимую болезнь. Эта сохраняющаяся у немногих стройность, легкость движений,
страстность и молодая горячность Якова Егоровича сначала обманула Зайцева. Но затем он заметил, что голос
Петрова стал глухим и прерывистым и кашель стал звонким, как звук туго натянутой струны. Яков Петрович
сердился, спорил, ругал бюрократов и головотяпов так же горячо и неугомонно, как десять лет назад ругал
пессимистов и нытиков. Он не докурил папиросы, зажег другую о недокуренную, кто-то окликнул его и, уходя,
он почти весело закричал Зайцеву:
– Позвони в конце недели! Завтра я на Урал! Позвони, слышишь? В конце недели буду…
Дальше Зайцев слышал, как он обещал кому-то принять его и выслушать сегодня в первом часу ночи или
завтра, до поезда в восемь утра.
Тогда был июнь, начало июня. Сейчас – десятое июля кармане пиджака Зайцева лежит телеграмма:
“Яков Егорович безнадежен мнению врачей конец неизбежен ближайшие дни Анна Морозова”.
Почти шесть лет они были рядом, вместе в штабе, на фронте, на собраниях и в бою. Даже теперь, когда
Петров работал в Совете Народного Хозяйства, а Зайцев читал лекции в академии, они встречались раз или два
в месяц и всегда было такое чувство как будто они только что виделись и разговор их начинался именно на том
месте, на котором оборвался в прошлую встречу. Теперь, вместе с горьким предчувствием, Зайцев ощутил
некоторую гордость и радость оттого, что Яков Егорович вспомнил о нем, позвал его и при этом был уверен, что
Зайцев придет к нему, за тысячу верст, также, как приходил к Якову Егоровичу на Воздвиженку в любой час
ночи по внезапному телефонному звонку. Вместе с тем, он был уверен, что Петров вызвал именно его, потому,
что Зайцев был в отпуску и мог располагать собой. Может быть это была раздражающая, немного мелочная
принципиальность, но надо было знать Петрова, чтобы верить, что он искренен, что Петров не хотел и не мог
оторвать человека от дела ни ради себя, ни ради близкого ему человека. Это были врожденные, неотъемлемые,
неотделимые взгляды Петрова. У Петрова это было естественно, искренно, нелицемерно, ему можно было
верить и ему верили.
День, ночь и еще день на корабле. Крымский полуостров, как неграненый драгоценный камень
поднимался из синей эмали моря. Медведь Айю-Дага, припал к серо-синей воде залива. Дальше – почти
прямой угол Ялтинского порта и круглые форты и желтые горы Севастопольского рейда. Пароход долго
подтягивали к пристани и еще дольше опускали сходни и, когда Зайцев сошел на плоские, вытертые тысячами
ног плиты набережной, он почувствовал холод вблизи сердца и явную, физически ощутимую боль дурного
предчувствия.
На море – штиль и цвет моря был серебристо-голубой, редкий для этого моря цвет Адриатики и
Неаполитанского залива. В двусветном зале бывшей виллы табачного фабриканта, окна были открыты с обеих
сторон настежь, но не было даже легкого сквозняка. Воздух был неподвижен и только слегка дрожал над
нагретым резным камнем крыльца и лестницы. Неподвижные, острые листья пальм и миртовые ветви казались
нарисованным театральным занавесом. В середине залы, в раме темно-алых гвоздик стоял гроб и знамена
острыми углами повисли над черно-седыми прядями волос и острым, серо-желтым профилем Якова Егоровича
Петрова.
Зайцев сидел на скамье в саду и смотрел вниз, на сияющий нестерпимым для глаз сиянием песок, на
девичьи загорелые ноги в сандалиях и слушал сидящую рядом с ним девушку:
– Послали мы с Яков Егорычем телеграмму. Он малость заснул, а я пошла к себе, а меня тут же и
позвала докторша. Сидит на постели и держится за грудь. “Я думаю, Ася, напрасно мы послали”, – это он о
телеграмме. “Человек отдыхает и пусть”. Я только рот раскрыла, а докторша мне мигает: “не надо мол
перечить”. Полчаса так сидел и вдруг сильно пошла кровь, горлом. Однако остановили. Ночью я с ним сидела и
слышу, чего-то он редко дышит. Вдохнет воздуху и затихнет, и до сорока можно досчитать пока: еще раз
вдохнет. Потом еще реже стал дышать. Утром открыл один глаз и губами шевелит. Я по губам прочитала:
“Приехали”. Я думала, он про вас спрашивает. “Нет еще, – говорю, – не приехал”. Он только губами повел,
нагнулась: “Станция, – говорит, – приехали” и как будто даже усмехнулся. Однако прожил он еще часов
шесть. Но уже ничего не говорил.
Зайцев поднял голову. Девушка стояла перед ним в выгоревшем на солнце ситцевом сарафане и красной
повязке, вся медная от загара и светло-золотые волосы резко отделялись от медного загара на лбу.
– Вы – родственница?
– Дальняя, – сказала девушка. – Очень дальняя, хотя звала дядей. Вы меня у Якова Егорыча видели.
Забыли, вероятно.
– Забыл. Да, забыл.
– Я пойду, – сказала она, – из города звонили, выехали представители организаций, скоро должны
быть.
И она побежала по лестнице, прыгая через две ступеньки.
– Спросите у завхоза, – крикнула она, наклоняясь через перила, – комната вам в третьем флигеле. Там
и ванна.
Зайцев, не глядя, взял со скамейки чемодан и встал. Но он не сразу пошел во флигель, а остановился у
окна залы.
Яков Егорович лежал в гробу, в раме из темно-алых гвоздик. Позади гроба открылась дверь и вошли
двое. Они принесли лед. Лед. Это было первое острое и жгучее ощущение Зайцева в это утро. Лед. Смерть.
Яков Егорович умер. Якову Егоровичу в гроб положили лед. Яков Петров – огонь, страстность, неугасимое
пламя, черные, с отблеском угля антрацита глаза и лед в дубовом гробу, в продолговатом ящике. Лед и пламень.
Зайцев знал, что еще год назад, как бы в завещание, Яков Петров сказал “сжечь”. И завтра багажный вагон
увезет тело Якова Егоровича в Москву для огненного погребения, а через два дня Яков Петров уйдет в огненное
жерло, во всесжигающее пламя и сам обратится в пламя и пепел…
Рабочий лежит на постели в цветах,
Очки на столе, пятаки на глазах,
Подвязана челюсть, к ладони ладонь,
Сегодня – в лед, а завтра – в огонь.
“Сегодня в лед, а завтра в огонь”, в пламя, в стихию Якова Петрова. За горячность и страстность и
неугасимую молодость любили Якова Егоровича и еще любили за то, что он был замечательный человек из того
класса, который должен владеть миром. Ученый Зайцев, окончивший два факультета и военную академию,
понимал, что именно таким скромным, чистым, верным и пламенным представляли себе революционера-
рабочего несколько ушедших поколений и таким он пришел в мир и ушел из него, называясь Яковом Петровым.
Так думал Зайцев и удивлялся тому, что ему приходили в голову именно эти, использованные, много раз
сказанные слова, которые он так не любил в газетах и надгробных речах.
В гору, в облаке белой пыли, к вилле бывшего табачного фабриканта поднимались четыре грузовика. На
последнем грузовике солнцем и золотом сияли трубы музыкантов. Грузовики остановились у ворот. Из
грузовика на землю прыгали юноши и девушки. Другие принимали цветы и венки из миртов. Затем они
выстроились по четыре в ряд. Иван Иванович Зайцев переоделся в военную форму. За месяц он отвык от нее.
Он взял ее с собой на случай поездки верхом, в горы. Но когда он натянул сапоги, затянул пояс и одернул
гимнастерку, он сразу сросся с этой одеждой, вошел в эту одежду, к которой привык за последние десять лет. На
площадке перед домом стояли люди, приехавшие из города. Музыканты негромко пробовали инструменты.
Двери зала были открыты настежь. Юноша в золотой тюбетейке и с черно-красной повязкой на рукаве
посмотрел на алую эмаль и серебро ордена на груди Зайцева и тихо сказал:
– Почетный караул.
Рядом с Зайцевым стала Ася Морозова и двое в синих блузах – рабочие электрической станции. “Пошли”, —
сказал разводящий, и они вошли в зал. Зайцев подходил справа, и, посмотрев через плечо, увидел черные с
сединой пряди волос, острый желто-серый профиль и сжатые в нить губы Якова Петрова. Выше, он увидел
алую повязку, светло-золотые волосы и синие, печальные и внимательные глаза Морозовой. Он перевел взгляд
на знамена и алые гвоздики, поднял голову, выпрямился и сказал себе “смирно”. Какая-то щекочущая влажность
накипала у него в углах глаз. Он судорожно сжал губы, еще раз сказал себе “смирно”, вытянулся во фронт и
застыл. Торжественно и скорбно запели трубы.
“ П А РАД И З ”
В Берлине, на обратном пути, я снова остановился в пансионе господина Эшенберга на Таунценштрассе.
Пансион Эшенберга мало походил на пансион. В сущности, это – большая, немного запущенная квартира, в
которой до инфляции, повидимому, жили состоятельные люди. После инфляции здесь поселился господин
Эшенберг и сдавал комнаты приезжающим. Господин Эшенберг дал мне два ключа, похожие на ключи от
Варшавы, врученные Паскевичу-Эриванскому. Эшенберг объяснил мне, как обращаться с ключами, чтобы
после девяти часов вечера проникнуть в пансион. Он показал мне комнату с балконом, выходящим на две
улицы. В комнате все выглядело, как четыре месяца назад: монументальная кровать, высокие, пышные, взбитые
подушки и пуховики, зеркальный шкаф и мраморный умывальник, кружевные занавески, этажерки и
швейцарские пейзажи по стенам. Все сияло сравнительной чистотой и умиляло особым уютом, созданным
старенькими, уютными вещами, о которых много заботятся. Господин Эшенберг наружностью походил на
профессора провинциального университета. Седой, гладко выбритый, благодушный старичок обмахивал пыль
щеточкой из перьев, похожей на султан итальянского берсальера. Не знаю, где собственно жил сам господин
Эшенберг, где была его комната, но с шести часов утра он находился рядом с моей комнатой, в том углу
коридора, где поставлена белая садовая мебель. Здесь находился камин и на каминной полке в черной рамке —
портрет молодого человека в военной форме. Над портретом, тоже в черной рамке, висел красивый диплом
королевского прусского казначейства, выданный господину Эшенбергу в благодарность за то, что в 1916 году, в
год войны, он добровольно сдал королевскому казначейству сто золотых марок. В этом же году он отдал
Прусскому королевству и Германской империи своего сына, который погиб под Верденом. По утрам господин
Эшенберг читал газету “Крейц-цейтунг”, “Крестовую газету”. Каждый день он читал ее вслух, вполголоса,
мохнатой, черной круглой собаке, у которой шерсть торчала во все стороны, как мокрые перья. Эта порода
называется “ризеншнауцер”, Мюнхенский ризеншнауцер. Собака имела свирепый вид, но была умна, добра и
благовоспитанна.
– Also, Рекс, – начинает господин Эшенберг, и читает собаке от слова до слова передовую статью, —
also, ты понимаешь, чего они хотят: они хотят погубить Германию.
Трудно сказать, кто именно хотел погубить Германию: ротфронт, коммунисты, а может быть, социал-
демократы, или центр. Ризеншнауцер стучал коротким, твердым хвостом о пол и строго смотрел из-под своей
косматой черной папахи. Господин Эшенберг читал собаке всю газету. Затем он вел долгие беседы с
мюнхенским ризеншнауцером. Собака, конечно, молчала и стучала хвостом, но, как известно, она происходила
из Мюнхена, из католической добродетельной и строгой Баварии и, повидимому, разделяла взгляды господина
Эшенберга и “Крестовой газеты”.
Но господин Эшенберг любил поговорить и с людьми. Он рассказал мне о молодой даме, которая живет в
маленькой комнате. Муж этой дамы – еврей, капельмейстер. Они жили в Румынии, а в Румынии не любят
евреев. Румыны выслали капельмейстера и его жену. Однако, этот капельмейстер, должно быть, очень нужен
румынам, потому что они выписывают его каждое лето в казино, на курорт возле Констанцы. Он дирижирует
оркестром на курорте ровно три месяца, затем его высылают. Когда он уезжает, жена остается здесь, в Берлине,
в пансионе Эшенберга. Очень милая дама, она скучает, ей очень скучно… И господин Эшенберг поднимает
голову, голову провинциального профессора, и глядит на меня как бы с готовностью. Выцветшие голубые глаза
щурятся и подмигивают сквозь стекла очков в золотой оправе. Удивительный и вместе с тем неожиданный
контраст с такой благообразной наружностью. Я молчу, и господин Эшенберг продолжает:
– В комнате, возле кухни, живет пожилая дама с двумя дочерьми. Она – жена профессора. Ее муж
читал лекции в лицее цесаревича Николая в Москве. И вот что случилось, мой друг. Они приехали ко мне
весной из Праги и поселились в самой дорогой комнате – восемнадцать марок с утренним завтраком. Господин
профессор получил французскую визу и уехал на неделю в Париж. Фрау профессорша с дочками осталась
здесь. Профессор обещал выслать им визу в тот же день. Прошел месяц, два и три. Она прожила все деньги,
теперь у нее нет ни гроша. Я сам не богат, вы это знаете, мой друг. Я перевел их в маленькую комнату возле
кухни. Кажется, вы видели их сегодня?..
Я вспоминаю черноволосую, худенькую девочку-подростка, трехлетнюю девочку и седеющую,
подстриженную даму с папироской. Я встретил их в коридоре.
– Я думаю, что он их бросил, – продолжает Эшенберг. – Он совсем им не пишет, а главное – он не
посылает им ни гроша. Я пошел к одному богатому человеку – у него дом на Курфюрстендам. Я объяснил ему
– “профессор бросил жену. Они – русские. Они ваши компатриоты. Помогите же им”. Он ответил: “Мне
надоело”. – “Но дети же не виноваты!”. “Да, – сказал он, – дети не виноваты. Так и быть, для детей я даю
пятнадцать марок в неделю”. И он дает им шестьдесят марок в месяц. Их трое, – разве можно жить в Берлине
втроем на шестьдесят марок в месяц? Они сидят у меня на шее.
И он показывает на затылок, горестно вздыхает и обращается в пространство:
– Что же вы думаете об этом, господин профессор?
Но господин профессор в Париже и не думает, вернее, старается не думать обо всем этом.
– Я сказал ей: “Фрау профессорша, пусть ваша старшая дочь помогает моей Мине работать на кухне. Я
ей буду платить, – немного, но я ей буду платить”. “Моя дочь – не прислуга”, – отвечает она. Очень хорошо,
она не прислуга, но чем это место хуже места на улице, на Фридрихштрассе. Она уже мажет губы и подводит
глаза. Что же ее ждет, мой друг, что ее ждет? – спрашивает господин Эшенберг, по привычке обращаясь к
своей собаке. Собака молчит и стучит хвостом об пол.
Вечером господин Эшенберг надевает черную пару и берет котелок и зонтик. Это очень странно, он
редко выходит из дома. Он замечает мой взгляд и говорит:
– Сегодня мне шестьдесят четыре. Благодарю вас. В сущности, меня не с чем поздравлять. Слава богу, я
сохранил силы и работаю не хуже тридцатилетней Мины. Но сегодня я устроил себе маленький праздник. Я еду
в Луна-парк.
Я тоже беру мою шляпу.
– Минуту, господин Эшенберг. Я еду с вами. Я еще не был в Луна-парке в Берлине.
– Вы не были в Луна-парке! – удивляется он. – Все иностранцы бывают в Луна-парке. Это – третий
Луна-парк в мире. Первый – в Нью-Йорке. Я долго думал над тем, как провести этот день моей жизни, день
моего рождения, но лучше Луна-парка не придумаешь.
Рекс поднимается со своей подушки и идет следом за хозяином.
– На место, Рекс. Спи, Рекс. Это не для тебя, – говорит Эшенберг, и мохнатый мюнхенский пес
поворачивается и обиженно возвращается на подушку у камина.
Мы с Эшенбергом выходим и в коридоре встречаем профессоршу. Она опускает глаза и старается
проскользнуть между мной и хозяином пансиона И хозяин, господин Эшенберг, смотрит на нее строго и
многозначительно.
Мы плывем на империале большого белого автобуса по зеркальной глади Курфюрстендам. Немцы
доводят берлинский асфальт до зеркального сияния, чуть не до прозрачности. Огни домов и реклам и самые
дома кажутся поставленными на зеркало. Полицейские на перекрестках играют оранжевым, красным и зеленым
огнями семафора. Автобус плывет, и мимо нас проплывает готический шпиль Гедехнискирхе. Позади церкви
встает электрический контур и светящийся, как экран кинематографа, кафе Ам Цоо. Дальше плывут одинаковые
шестиэтажные дома с палисадниками, веранды кафе с белой плетеной мебелью, пестрыми абажурами и
цветочными вазами на балюстраде.
Бывший император Германии, Вильгельм второй, – музыкант, драматург, художник – считал себя и
архитектором. На плане, который он утверждал, над крестом Гедехнискирхе Вильгельм сделал карандашей
черту и звездочку – нота бене. Почтительные академики архитекторы поняли эту черту и звездочку буквально
и воздвигли над крестом Гедехнискирхе – стальную мачту и чудовищную золотую звезду на ней. После
революции мачту и звезду сняли.
Курфюрстендам – гостиницы, кафе, кабаре, бирхале и вайнштубе – развертывается по обе стороны
непрерывной, успокаивающей глаз панорамой. От белых квадратиков на каретках таксомоторов рябит в глазах и
все чинно, чисто и благопристойно в машинах, домах и людях Берлин-Вестенс – “W” в этой части города.
Двадцать пять лет назад здесь были огороды, – говорит господин Эшенберг, и неизвестно, жалеет ли он
о прошлом или гордится настоящим.
Мы подъезжаем к Луна-парку. Розовое электрическое зарево дрожит в небе над большим участком земли,
от которого отступили дома. Сотни и тысячи людей оставляют автобусы и трамваи и толпятся у турникетов.
Нельзя понять, где живет и где работает молодой человек в сером пальто и. мягкой зеленой шляпе впереди
меня. Возможно утром он продавал мне запонки в универсальном магазине “КДВ”, а, может быть, я видел его в
собственном Паккарде на Унтер-ден-Линден. Но, очень может быть, он приехал из далекого Нордена, из
рабочих кварталов, и его зеленая шляпа и серое пальто пахнут копотью фабричных труб и бензином, которым
он отчищал свое единственное праздничное платье. Это радужное, расточительное сияние электрических лун
– обманчивое, миражное сияние. Оно скрывает морщинки, и смягчает резкий грим у состарившихся женщин,
оно скрывает вытертое сукно и заштопанные локти бедняков. Мы идем галереей витрин, – это магазины
Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе и Курфюрстендам выставили здесь обувь и зонтики, одетые в шелк
манекены, приборы для маникюра и духи, английские чемоданы и трости, котелки и цилиндры и перчатки, —
все, о чем вожделеют Карлы и Мицци, Лины и Гансы. Мы идем довольно долго вдоль витрин и выходим на
террасу.
– А… – протяжно и глубоко вздыхает господин Эшенберг.
Мы стоим как бы на террасе египетского храма. Широкая лестница ведет вниз, – широкая и
монументальная лестница, выкрашенная в кирпично-коричневый цвет. Все вместе похоже на грандиозную
декорацию из Аиды в обыкновенном оперном театре. Но внизу развертывается неограниченное пространство,
заполненное шатрами, киосками, павильонами, куполами, башенками, шпилями, поддельными утесами,
прудом, похожим на озеро, и искусственным островком среди пруда, и непонятным скелетообразным
сооружением на островке.
Все это залито чуть ли не полуденным светом электрических ламп и глушит и ошарашивает оркестрами,
оркестрионами, рожками, саксофонами, сиренами и гудками.
– Парадиз! – говорит широкоплечая, мальчикообразная девица.
– Парадиз! – повторяет господин Эшенберг и спускается по египетской лестнице так, как если бы мы
спускались в Дантов ад, в чистилище, а не “парадиз” – в рай мальчикообразной девицы.
Господин-обыватель любит быть честно обманутым. Он любит неуклюжие шалости, грубоватые
мистификации Луна-парка, комнаты с фальшивыми дверями, вращающиеся полы, проволочные лабиринты,
горы, которые у нас в России называют “американскими”, а в Америке – “русскими”. По бетонным скалам
вверх и вниз скатываются платформы, проваливаются в темноту, вылетают на свет и, наконец, с сумасшедшей
быстротой сваливаются в пруд, в воду, поднимая саженную волну. Наконец, обыватель любит тайну,