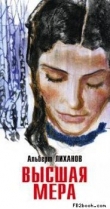Текст книги "Высшая мера"
Автор книги: Лев Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
ним в Париже. Никогда мы не сговоримся.
Она замолчала и затем вдруг сказала печально и тихо:
– Мне их жаль, конечно, вероятно им очень скверно…
– Да, не легко.
– Что ж, пошлем денег. А писать я не буду.
Затем было длительное, неловкое молчание. Печерский кашлянул и посмотрел на Мерца. Мерц молчал.
Вошел черноволосый, похожий на цыгана парень, отпиравший Печерскому дверь.
– Можно?
– Конечно, Митин, – сказала Ксана и обернулась к Печерскому. – Вы надолго в Москву?
– Навсегда! – торопливо заговорил Печерский. – Я вернулся на родину с твердым намерением
работать. Я буду работать. Для меня эта поездка… Я смотрю на эту поездку в Россию, как на искупление. Я как
бы переродился… – Нужно было еще что-то сказать, сказать убедительно и просто, но Печерский не нашел
слов и замолчал.
– Что ж, очень хорошо, – видимо смущаясь сказал Мерц. Его смущали не слова, которые говорил
Печерский, а его повышенный, несколько актерский тон.
– Что ж, хорошо. Татьяна Васильевна просит помочь вам. Чем же я могу вам помочь?
– Вы хотите получить работу? – спросила Ксана.
– Совершенно верно. Я шофер и знаю автомобильное дело,
– Я думаю, вы устроитесь. У нас как раз разгар…
– Совершенно верно. Но ваше имя, Николай Васильевич, ваше, так сказать, содействие… Признаться, я
очень рассчитывал. – И опять Печерский неожиданно замолчал. Мерц посмотрел на него, подождал и сказал:
– Хорошо. Напомни мне, Ксана.
– Долго были заграницей? – спросил цыган.
– Семь лет.
– С двадцатого года. Так. С Врангелем уехали?
“Чекист”, решил Печерский, кашлянул и слабо улыбнулся.
– Знаете, прошлое для меня, как дурман. Как я сожалею… – Печерский оглянулся. Все молчали. – Не
смею больше задерживать. Стало быть разрешите справиться? Покорнейше благодарю. Не извольте
беспокоиться, – невнятно пробормотал он, и, прощаясь, поцеловал холодную, неподатливую руку Александры
Александровны Мерц.
VII
Печерский ушел. Ксана и Мерц почувствовали странное облегчение. Вместе с ним уходили неприятные и
тревожные воспоминания. Митин, как свой человек понял это и хотел заговорить о делах, но Ксана перебила
Митина.
– Какой странный тип… Правда? – она вскрыла конверт. – Это от Лели, “письмо передаст тебе
близкий мне человек”, – прочитала она вслух. Ну теперь понятно “близкий”…
– Что понятно?
– Понятно, почему он называл Лелю по имени, и вообще все понятно.
Мерц поморщился и поправил галстук.
– Ты странно судишь. “Близкий” – значит любовник.
– Неприятно слушать.
– Что с тобой сегодня? – спросила Ксана и отложила письмо.
– Ну ка, в чем дело?.. – сказал Митин и придвинулся к Мерцу. Мерц достал портсигар, постучал
пальцами по портсигару, затем бросил его на стол, вздохнул и покачал головой. Митин и Ксана молча смотрели
на него. Он сказал глухим, внезапно ослабевшим голосом:
– Снимают меня, вот что.
– Как снимают?
– А вот так. Снимают и все тут. Чего у нас не бывает.
Митин рассмеялся и хлопнул себя по колену.
– Да кто вам сказал? Сорока на хвосте принесла? Расскажите толком.
– Что рассказывать? – высоким, срывающимся голосом вдруг заговорил Мерц. – Два с половиной часа
заседали. Кончили с докладом о поездке, утвердили, одобрили, кажется, все чудесно. Степан Петрович
посылает мне записочку. “Останьтесь. Надо потолковать”. Остался после заседания. Он ходит, курит,
расспрашивает об Америке, о Детройте и чорт знает о чем. Я все думаю к чему бы это. В конце концов сказал:
“Знаете ли, Николай Васильевич, как мы вас ценим. Вы один из первых пришли к нам десять лет назад. Ваш
проект принят и одобрен не только нами, но крупнейшими специалистами на Западе. Но не кажется ли вам, что
выполнение проекта, организационные и технические функции придется разграничить. Политическое
значение… Непосредственное руководство… Целесообразнее если бы вы… Если бы вы остались главным
консультантом”. Словом все, что говорится в таких случаях. Ясно – меня убирают и на мое место посадят
какого-нибудь кочегара или водопроводчика вроде Кондрашева.
– Я не совсем понимаю…
– Что там понимать! Дело налажено, подготовлено. Никто в него не верил, все отмахивались. А когда
вышло, когда заговорили в Европе, меня за шиворот и коленом… Четыре года я работал как вол, как каторжный.
Пока дело не развернулось, меня терпели. Теперь видите ли мировой масштаб. Для мирового масштаба я мал,
для мирового масштаба нужен водопроводчик!
– Ну вас к богу, что вы говорите, – сказал Митин.
– Как хотите, так и называйте. Я работал по этому делу здесь и заграницей. Мои друзья, люди с мировой
научной известностью, из уважения ко мне помогали в этом деле. Теперь – хлоп, меня убирают. Все мои
обещания, обязательства летят к чорту. В глазах моих друзей я оказываюсь самозванцем, Хлестаковым,
мальчишкой. Нельзя же так, дорогой мой. Нельзя так обращаться с людьми! Вы строите социализм – верю. Но
не забывайте, что мы строим его вместе, вы и я, что я десять лет с вами. Что ж это такое!.. Сегодня меня
снимают со строительства, завтра меня сократят как делопроизводителя, как машинистку. Но я же сделал что-то
для вас в эти десять лет… Все же это признают…
– Николай Васильевич, вот вы все “я”, мной, меня, мне. Так нельзя. Разберемся… Надо
организованно…
– Позвольте, не знаю снимут вас или нет. Степан Петрович во-первых, дела не решает, не его ума это
дело. Но бывает у нас всякая чепуха. Надо узнать. Пойду и узнаю. Теперь дальше: допустим – снимут…
– Что ж из этого?.. Погодите. Вот вы говорите: “политическое значение”, “ответственность”,
“руководство” и все с усмешечкой. Какие тут смешки. Здесь смешков нет. Бывший водопроводчик, кочегар…
Уж очень злобно вы это говорите. У нас рабоче-крестьянская республика, этого нельзя забывать, об этом надо
напоминать каждый день всему миру и то, что во главе большого дела поставить бывшего кочегара или
водопроводчика – с нашей точки зрения – правильно. Тем более, что за десять лет он многому научился, что
он связан, спаян с этой работой, с производством. Возьмите вашу дорогую Америку. Сколько там больших
инженеров из простых кочегаров.
– Позвольте…
– Вообще, по-моему, пока не о чем разговаривать. Толки да слухи, да пересуды. Вот я пойду и
расспрошу. Прощайте.
Каблуки тяжелых сапог загремели по коридору, затем хлопнула выходная дверь.
Ксана подошла к Мерцу:
– Николай Васильевич…
Он слабо махнул рукой и отвернулся.
VIII
Около семи вечера Печерский подходил к серому, пятиэтажному дому в Сретенском переулке. Парадный
подъезд был заперт. Ход был очевидно со двора, черный ход, но Печерский медлил. У трамвайной остановки на
Трубной ему встретился человек в белом картузе. Человек внимательно посмотрел на него и вдруг, как
показалось, Печерскому, повернул назад. “Слежка”, сразу подумал Печерский, “но почему же так явно?” Нет, не
слежка, случайность. – Человек обознался и пошел прочь. Пустяки. Печерский вошел во двор и разыскал
черный ход, расшатанную, обитую рваной клеенкой. дверь. Черная лестница четырьмя крутыми зигзагами
поднималась вверх. На второй площадке тускло светилась электрическая лампочка. Квартира 16. Не было
пуговки звонка. В двери просверлили отверстие, и пропустили проволоку. Печерский дернул за катушку, за
дверями брякнул звонок и сразу спросили: “Кто?”
– Гражданин Акимов дома?
– Сейчас узнаю.
Сначала было тихо, затем кто-то другой спросил: “Кто спрашивает Акимова?”
– Знакомый. Откройте.
Дверь открылась, но сейчас же загремела цепь. Лысая голова выглянула в щель:
– В чем дело?
– Вы Акимов, – не торопясь начал Печерский. – По-видимому это вы. Мне описали вашу наружность.
– В чем дело? – сказала лысая голова и чуть подалась назад.
Печерский приблизился и произнес раздельно и многозначительно “Де-вят-ка”, и вдруг дверь
захлопнулась. Печерский в недоумении постоял перед дверью.
– Что за чорт! – наконец сказал он, прислушался и постучал.
– Что надо? – глухо спросили за дверью.
– Николай Николаевич, откройте…
Печерский прислушался. Тишина и как бы сдавленное дыхание за дверью. Тогда он сильно постучал.
Дверь опять открылась, образуя щель.
– Уходите, ради бога, уходите – сказала в щель лысая голова.
– Да объясните же чорт вас возьми, в чем дело?..
– Уходите!
– Не уйду, пока не объясните, – почти закричал Печерский. И тогда лысый человек залепетал тихо и
жалостно:
– Умоляю, ради господа бога, уходите… Ради Христа, уходите.
– Вы “Серый?” Вы Акимов? – сжимая челюсти спросил Печерский.
– Ну, я…
– Вы слышали пароль “девятка”. Вы “Серый”?
Цепь загремела и дверь опять закрылась. Печерский в ярости ударил в нее обоими кулаками и стучал до
тех пор, пока дверь не открылась.
– Вы не уйдете? – спросила трясущаяся лысая голова.
– Не уйду, пока вы мне не объясните.
Тогда упала цепочка, дверь открылась и на площадку вышел лысый, желтый старичок в пальто, одетом на
нижнее белье.
– Имейте в виду, – сказал старичок, – я вас к себе не пущу. Вот на площадке поговорим. Что вам
нужно?
– Вы “Серый”? Николай Николаевич Акимов?
– Опять двадцать пять. Ну – я.
– Девятка, – вразумительно и тихо выговорил Печерский, – понимаете д е в я т к а .
– Я уйду, я ей богу уйду…
Послушайте, господин Акимов. Вы понимаете, что вы говорите? В Париже мне дали явку к вам. Я
прихожу, говорю пароль, а вы несете чушь.
– Ну вот, ну вот, – всхлипывая забормотал Акимов. – Ну вот опять… Я просил, я умолял через
знакомых – оставьте меня в покое. Я больной, я слабый старик. Я одной ногой в гробу. У меня астма, у меня
порок сердца. Что ж это в самом деле? Какие-то явки, письма, девятка. Да уйдите вы ради Христа, оставьте
меня ради господа бога в покое. Пожалейте старика. Пожалуйста уйдите, молодой человек. Никаких девяток я
не знаю и знать не хочу. Зачем вы меня губите, за что вы меня под расстрел? Господи, ну что они там в Париже с
ума посходили. Пишут письма симпатическими чернилами, называют лошадиными кличками, людей посылают.
Ради господа бога уйдите!.. Знать ничего не хочу. Уйдите… – он вдруг замолчал и только смотрел на
Печерского выпуклыми, стеклянными глазами.
– Хорошо, – сказал Печерский. – Одно слово. Значит, вы отказываетесь?
– Я же сказал – не хочу. Не вы сидели, а я сидел. Я не о двух головах. Вы меня в гроб вгоните. Вы меня
к стенке. У нас в квартире комсомолка живет. Уходите вы ради господа бога!..
– Да вы. Понимаете – что делаете?
– Опять двадцать пять.
– Вы Акимов, шталмейстер двора его величества, губернский предводитель дворянства. Трус! Гадина!
– Тсс… Ради бога!.. Вы с ума сошли. Ну, пожалейте старика. Скажите им, чтобы не писали, чтобы
оставили в покое…
– Хорошо. Мы примем во внимание. Но как же быть… Я же понадеялся, я назначил у вас встречу…
– Сумасшедший! – тонким голосом закричал Акимов. – Мальчишка! Не смейте давать мой адрес!
Никаких свиданий! Господи, господи, за что?.. Уходите, сию минуту, уходите!
– Пустите меня к себе, – вздрогнув от бешенства прошептал Печерский. – Я подожду. В десять часов
сюда придет одна дама. Сейчас без пяти десять.
Печерский шагнул вперед, но старичок отступил на два шага и вдруг оказался за дверью. Цепь щелкнула
и натянулась.
– Ничего подобного! Где хотите, только не у меня.
– Откройте! – закричал Печерский и схватился за дверь. – Откройте, слышите вы, гадина!
– Я позову милицию! – взвизгнул старичок и Печерский отпустил дверь. Дверь захлопнулась.
Печерский плюнул и сжал кулаки.
– Конспираторы!.. Сукины дети! – закричал он:
Внизу хлопнула дверь и Печерский медленно пошел вниз. Навстречу по лестнице поднималась молодая
женщина. Она старалась рассмотреть номера квартир и почти наткнулась на Печерского.
– Простите, – сказала женщина, – будьте добры сказать, где квартира шестнадцать?..
Однако Печерский молчал и молча глядел на нее.
– Квартира шестнадцать… – смущаясь повторила женщина.
– Наташа! – глухо сказал Печерский.
– Миша!
– Пойдем отсюда. Не здесь. Пойдем.
IX
Был не день и не вечер. Странные, весенние московские сумерки. Они сидели на скамье на Цветном
бульваре. За деревьями мигали огни, слабо дребезжали звонки и перекликались рожки машин. Вспыхивали и
угасала лилово-зеленые молнии набегающих трамваев.
Был такой час, когда на бульваре не было народу. Только один человек сидел на скамье, в стороне от них.
– Ну, вот и свиделись, – сказал Печерский. – Ну, вот свиделись.
– Ты мало изменился, Миша, только похудел. Или мне показалось?
– Да восемь лет… Восемь или девять?
– Восемь. Ну как ты?..
– Да ничего. Ты замужем, Наташа?
– Будто ты не знаешь.
– Что ж он… хороший человек?
– Очень хороший.
– И любит?
– Любит.
Печерский покачал головой и усмехнулся.
– Все-таки странно. При живом муже.
– Я тебе писала. Я тебе много писала. Ты не отвечал.
– Что ж может быть и писала. Я этого брака не признаю.
Наташа вздохнула.
– Как хочешь…
Печерский поднял голову.
– Что?
– Как хочешь. Признавай – не признавай. Миша, ты сам понимаешь…
– Что с вами тут стало в этом сумасшедшем доме! Ну, погодите! Ты думаешь это – навеки? – внезапно
раздражаясь спросил Печерский.
– Что навеки?
– Да вот это все… Совдепы. И твой, с позволения сказать, брак. Прямо удивительно, как быстро вы все
здесь приспособились, мадам Печерская. То есть, пардон не мадам Печерская… Как вас теперь звать, мадам
Шварц, Штунц, Кранц?..
– Шварц.
– Он что, жид?
– Да, еврей.
– Недурно, – слегка покачиваясь сказал Печерский. – Недурно Наталья Николаевна Печерская,
урожденная Лугина, дочь адмирала и господин… Шварц.
– Ах, Миша, Миша…
– Кто он такой? – отрывисто и громко спросил Печерский. – Могу я узнать с кем живет моя жена?
– Ты знаешь. Я сказала.
– Он кто – комиссар?
– Он военный. Военный летчик.
Печерский оттопырил губу и засмеялся.
– Скажите пожалуйста! Пхэ! Летчик. Военный летчик. Шварц и вдруг летчик! Ай-вей!..
Тогда она встала.
– Миша, я лучше уйду.
– Нет! – почти вскрикнул Печерский и схватил ее за руку. Человек на скамейке впереди услышал крик,
привстал и оглянулся. Печерский заметил его и сразу остыл.
– Погоди. Подумай, мне тоже не легко, – совсем тихо сказал он. – Жили мы с тобой пять лет. Жена ты
мне или не жена?
Она ответила робко и вместе с тем твердо.
– Теперь уже не жена, Миша, ты же понимаешь.
– Ах, не жена!.. – и Печерский опять сжал ее руку. Но оглянулся на человека позади и отпустил.
– Миша, я лучше уйду, – сказала Наташа.
– Ладно. Не жена… Зачем пришла?
– Ты же просил, ты писал. Вот я и пришла…
– Я хотел видеть мою жену перед богом и людьми, мою Наташу, – сказал Печерский и подумал, что он
сейчас сказал это совсем как актер.
– Миша, ну погоди. Ну “жена перед богом и людьми Но ведь восемь лет. Восемь лет мы с тобой не
выделись. У меня девочка. У меня – дочка. Я получила твое письмо и сказала мужу, что хочу тебя повидать,
хочу сказать, что между мной и тобой все кончено. Ты сам понимаешь. Ужасно тяжелый и ненужный разговор.
Вот мы видимся в последний раз, в последний раз, – просто и грустно повторила она. – Никогда мы больше
не увидимся. И мне кажется, тебе все равно и ты так же равнодушен, как и я. Правда, Миша?
– Ты так думаешь? – сомневаясь спросил Печерский. – Стало быть правда кончено?
Они молчали и слушали слабый шелест деревьев, звонки и гудки
– Кончено. Может быть, я могу помочь… Может быть, тебе трудно здесь, в Москве, в первое время…
– Ничего мне от вас не нужно, мадам… Шварц, – высокомерно сказал Печерский и подумал: “Слова,
все слова. Моя, как всегда моя”.
– Слушай. Представь себе, если бы мне понадобилось… Ну, скажем, если бы мне грозил… Попросту
говоря, если придется заметать следы. Понимаешь? Могу я рассчитывать на тебя?
– Не понимаю.
– Не понимаешь? Ну, как ты думаешь, зачем я здесь?..
– Не знаю. Многие возвращаются. Вот и ты тоже…
– Возвращается сволочь! – Он задумался, тряхнул головой. – Наташа, ты была моя, моя телом и
душой. Ты на меня молилась. Помнишь?
– Ах. боже мой, – как бы с досадой сказала Наташа.
– Я в тебя еще верю. Слушай. Мне здесь трудно одному. Я одинок. Мне важен каждый свой человек,
каждая душа. Я хожу один как волк в лесу, как волк. Лес полон капканов, из-за каждого пня смерть. Ты
понимаешь? Ты понимаешь о чем я? – значительно и высокомерно повторил он. – Для них я – волк. В случае
беды – помоги. Поняла? Понимаешь, зачем я здесь? Ну я – белый, белогвардеец, белый!.. – почти
воскликнул он. – Поняла?..
Она посмотрела на него со страхом и жалостью:
– Понимаю.
– Поможешь?
Вдруг она заговорила быстро и невнятно.
– Ты же знаешь… Как я могу… У меня ребенок… муж… это нечестно.
– Не можешь?
– Ну, Мишенька. Не нужно. Ничего этого не нужно. Оглянись, поживи здесь, приглядись. Не сердись на
меня, Мишенька… Подумай и не сердись. Жалко тебя, ужасно жалко.
Она встала и оглянулась. Он не смотрел в ее сторону. Тогда она быстро пожала ему руку и ушла, не
оглядываясь и ускоряя шаг.
Печерский вынул портсигар и несколько раз щелкнул зажигалкой. Вспыхивал огонек, он не замечал его,
гасил и опять зажигал. Наконец он закурил и затянулся. – “Моя – конечно моя”, наконец решил Печерский,
встал и увидел, что человек, сидевший на скамье в стороне, тоже встал. Только тогда Печерский заметил и вдруг
вспомнил белый картуз. И сразу вдруг потянуло в Париж, в свое кафе, в свой отель, к мосье Бернару и гарсону
Габриэлю.
– Узнаете? – спросил неизвестный.
– Что?.. – отодвигаясь и сразу слабея сказал Печерский.
– Два месяца назад в Париже. Помните – Мамонова, кавказский духан на Пигале.
– Александров! – задыхаясь прошептал Печерский.
– Да. А вы – поручик Печерский? Я вас узнал… Подошел, чтобы проверить. Оказывается – вы.
– Кстати, о нашем разговоре в Казбеке, – припоминая, сказал Печерский. – Что же вы, наконец,
решились?
– Да. Я решил, – просто ответил Александров.
X
Митин провел четырнадцать часов в вагоне. Ночью были две пересадки. Поезда были товарно-
пассажирские, местного сообщения. Два часа он дремал, затем уступил место молочнице, а сам ушел на
площадку. Однако, в Москве, на вокзале, он был свеж и бодр, гораздо бодрее, чем три дня назад, когда оставлял
Москву. Это произошло потому, что он провел двое суток в лесу, в болотах у большой полноводной реки. В эти
два дня он сделал тридцать верст пешком и восемьдесят верхом на донском, тощем и злом иноходце. Он
проваливался в ямы, ломал сапогами тростники, давил сочные, широкие, как клинки сабель, болотные стебли.
Все на нем пропахло сырым, освежающим запахом этих трав и камыша и болотной птицы. На другом берегу
реки пахло стружками, тесаными бревнами и лесом. Полчаса Митин лежал на бугре и смотрел в реку. Вода шла
тяжелая, как металл, местами гладкая, как студень. Вода неслась на юг с ровной, неубывающей силой. Позади,
за спиной Митина, разнообразно тихо и звонко стучали топоры владимирских плотников и, вздыхая шипели
пилы. Он посмотрел в реку и с удовольствием прочитал вслух:
– На берегу пустынных волн
Стоял он…
Затем посмотрел назад. Свежие срубы, клетки бараков и кубы заготовленного леса развернулись вправо и
влево по берегам. Жалостно надрываясь, свистел паровозик узкоколейки.
– Здесь будет город заложен…
прочитал Митин, глубоко вздохнул и почувствовал, что запах тесаного леса и стружек опьяняет его как старый
мед. Затем он встал и пошел на стройку. Дальше были будни: похвалы, брань, прямой провод, телеграммы и
телефон.
Пятьдесят верст до широкой колеи он сделал в шесть часов на иноходце. Затем поймал уходящий на
север “Максим” и через четырнадцать часов вышел на Каланчевскую площадь в Москве.
Было одиннадцать часов утра, когда он позвонил у дверей Мерца. Ему открыла Ксана. Она посмотрела на
болотные сапоги, вымазанные известкой и глиной, вдохнула еще не выветрившейся запах болотных трав и
стружек. Митин и Ксана посмотрели друг на друга с некоторым смущением, затем она покачала головой и
пошла в комнаты. Мерц лежал на диване в верблюжьей куртке с забинтованным горлом. В комнате был слабый
запах компресса и лекарств.
– Как здоровье? – спросил Митин. – Грипп?
– Грипп.
Митин сел, посмотрел на Мерца, подумал, почему Мерц выглядит старше, чем всегда, и решил, что это
от седой щетины на подбородке. Мерц сидел в профиль. Митин видел его желтое, восковое ухо и шею над
компрессом. Конечно, это старость… Но почему это начинается так внезапно, почему со стороны этого долго не
замечаешь, а когда заметишь, то ясно, что перед тобой старик. Он поднял глаза, встретил взгляд Ксаны и понял,
что у них обоих одни и те же мысли.
– Ну? – нетерпеливо сказал Мерц.
– С транспортом все благополучно, – по военной привычке, точно рапортуя начал Митин, – вопрос о
закладке пока остается открытым. Дело в том, что до официальной закладки придется устроить выезд на места.
И выезд надо обставить как следует. Чтобы не как в прошлый раз по узкоколейке переть пятьдесят верст чуть ли
не четыре часа. Люди занятые – члены правительства.
– Что ж, можно на дрезинах, на новых авто-дрезинах, – подумав сказал Мерц.
– На дрезинах куда лучше. Вроде прогулки. Воздух, как на даче… Давайте, вот что – я пойду
переоденусь, потом в баню и опять к вам.
– Как хотите.
– Так-то лучше. Притом вы больны.
– Думаю, к четвергу поправлюсь.
– А вы не торопитесь. Чего вам….. Д-да не очень запущены. Справимся. Все как будто хорошо. И о
переменах затихли. А вы горячку пороли. Чудак человек!
– Да. Затихли. До поры до времени… В конце концов меня слопают. Почитайте “Кельнише цайтунг”.
– А что? – спросил Митин и опять сел.
– Вы почитайте. Там черным по белому написано о моем уходе.
– Ну что ж что написали. Не очень вас слопаешь. Вы колючий.
– На теннисе сегодня будете? – спросила Ксана.
– Куда там. Времени не хватает.
– Раньше, небось, хватало, – сказала она, упирая на “р а н ь ш е ”.
– Мало ли что раньше.
Ксана ушла к себе, внимательно взглянув на Митина. Митин встал и встряхнулся. В комнате его разбирал
сон.
– Кстати, был у вас этот… Ну, как его… Ну, тот белый… шофер?
– Печерский? Не был.
– И хорошо, что не был. Тип, я вам скажу. Гоните вы его…
– Почему? Жалкий человек…
– Все они жалкие, пока под конем. Ну нате, – он протянул руку Мерцу. – Через часок забегу.
– Заходите.
– А вы куда? – спросил Митин, замечая, что Мерц встает с дивана. – Вам бы лежать.
– Пойду почитаю журналы.
Мерц ушел в кабинет, слегка шаркая туфлями. Митин постоял мгновение в раздумьи и нерешительности,
покачал головой, вздохнул, и пошел в комнату Ксаны. Между тем в кабинете зазвонил телефон. Мерц взял
трубку и внятно и тихо сказал:
– Вас слушают.
– Говорит Ричард Клемм, корреспондент “Пресс-корпорейшен”.
– А, – сказал Мерц. – Мне звонили из управления относительно вашей просьбы. Раньше четверга, к
сожалению, невозможно.
Но господин Клемм вежливо настаивал на том, чтобы его приняли именно сегодня, хотя бы на квартире.
Шестьдесят газет с тиражом в шесть миллионов экземпляров не могут ждать до четверга.
– Хорошо, – сказал Мерц, – приезжайте. – Положил трубку на рычаг, подумал и медленно пошел в
столовую. В столовой он поправил диванные подушки, взял подмышку плэд и увидел на стуле портфель и кэпи
Митина. “Хорошо”, вслух подумал Мерц и пошел в комнату Ксаны. Если бы человек со стороны наблюдал
Мерца, его удивило бы странное поведение Николая Васильевича. Николай Васильевич взялся за ручку двери,
но вдруг отпустил ее и отступил на шаг от дверей. Лицо Мерца выразило некоторое недоумение, даже
смущение. Однако он опять взялся за ручку, на этот раз прислушался и опять отступил. В эту минуту дверь
открылась и навстречу Мерцу вышли Ксана и Митин. И в лице Митина тоже было некоторое замешательство.
– А я вот… – не совсем ловко начал он и поискал глазами портфель и кэпи.
– Хорошо, что не ушли. – Совсем спокойно сказал Мерц. – Сейчас звонил мне Клемм, —
корреспондент “Пресс-корпорейшен”. В управлении я могу его принять не раньше четверга. Он звонил и
просил принять его здесь, дома. Мне кажется – не совсем удобно. С другой стороны иностранный
корреспондент, представитель крупного агентства. Было бы очень полезно. Это, вероятно по поводу
заграничных заметок.
– А вы примите. Разумеется полезно. Примите.
– Я так и сделал. Он зайдет сегодня.
– Ну, всего, – сказал Митин, взял портфель и кэпи и, стараясь не слишком торопиться, ушел.
Ксана стояла у дверей и рассеянно смотрела на свет. Мерц боком, как то мимо Ксаны, пошел в кабинет и
мимоходом сказал:
– Однако, у вас дружба.
– Что?
– У вас дружба, – повторил Мерц.
– Ну, что ж… Он хороший парень.
– Как меняются мнения. Раньше ты как будто…
– А в чем, собственно, дело? Тебе не нравится? – повышая голос, спросил Ксана.
– Мне пожалуй, все равно, – устало сказал Мерц. – Но целоваться даже у себя, в своей комнате,
следует с оглядкой.
Несколько мгновений оба молчали.
– Я не из тех мужей, которые придают этому особенное значение, однако… – и он сделал движение в
сторону двери кабинета.
– Нет, погоди, почему ты не договариваешь?
– Мне не до этого, – с раздражением сказал Мерц.
– “Не до этого”. Мило. Мимоходом сказал гадость.
– Конечно, делать гадости лучше. Я прекрасно понимаю, мой возраст, разница в летах… Да что там…
– Николай Васильевич! – звонким, звенящим голосом окликнула Мерца Ксана. Он остановился на
пороге, но не повернулся к ней. – Николай Васильевич, помнишь – разговор ночью на набережной? Ты
сказал: “Ксана, я все понимаю и предвижу, но люблю вас и выдержу…”
– Я еще сказал что-то о честности, надо быть честной и искренной.
– Верно. Честной и искренной. Хорошо. Тогда, если хочешь знать…
Но резкий и короткий звонок прервал ее.
– Я открою, – сказала Ксана и вышла. Английский замок туго открывался, руки Ксаны слегка дрожали.
Она все же открыла дверь. На пороге стоял Печерский.
XI
– Николай Васильевич, я собственно, вот по какому делу. Сколько помнится вы изволили обещать мне
любезное содействие… – начал Печерский.
– Да, да… Но вот этот грипп. Ну как у вас? Обжились в Москве?
– Все благополучно. Вот только насчет работы… Средства кончаются, надо подумать о заработке.
– В самом деле, ты забыл, – осторожно вмешалась Ксана.
– Я записал у себя. Не так уж трудно найти работу квалифицированному шоферу. Но, конечно, придется
поискать.
– Трудно ждать, Николай Васильевич, очень трудно. И не в смысле одного заработка, а вообще…
– То есть, как вообще? – спросила Ксана. – Сейчас только она рассмотрела Печерского. Раньше он
держался независимее и наглее. Сейчас он был, видимо, смущен. Затем он похудел. Еще резче обозначились
скулы и четырехугольный подбородок.
– Надо, так сказать, легализоваться. Я человек с волчьим билетом. И вот такой человек ходит по Москве,
не работает, живет на неопределенные средства… Мало ли какие могут быть осложнения…
Мерц улыбнулся и пожал плечами.
– Позвольте, поскольку вас сюда пустили, поскольку вы легально приехали, какие же могут быть
осложнения?
– В этом смысле у вас все в порядке? – спросила Ксана.
– Точно так, разумеется. Но Николай Васильевич… я издергался. У меня чуть ли не галлюцинация, что-
то вроде мании преследования. Вот потому я и беспокою вас. Человек на работе, устроившийся, так сказать,
сомнений не вызывает. А я без определенных занятий… Надо легализоваться.
– Кто вас преследует? Кому вы нужны? – резко спросила Ксана и Мерц неодобрительно оглянулся на
нее и наклонился к Печерскому.
– Я понимаю, в первое время это естественно, боролись, активно боролись, затем вернулись сюда. Вы
видите прежних противников лицом к лицу. Естественно, некоторое, не имеющее под собой почвы,
беспокойство. Но не преувеличивайте; и не распускайте нервы. Я сделаю, что смогу… Может быть… – Мерц
покраснел.
Печерский понял, что сейчас Мерц предложит ему денег. Он встал и тоже покраснел, но как раз в эту
минуту раздался звонок. Ксана ушла открывать.
– Содействие, так сказать, рекомендация, вот все, что требуется от вас, Николай Васильевич.
– Что касается меня…
– Это к тебе, – сказала Ксана и протянула Мерцу визитную карточку.
– Простите, ко мне по делу. – Мерц встал и протянул Печерскому руку. – Позвоните мне сюда или в
четверг на службу.
– Обязательно. Имею честь кланяться.
Печерский взял руку Ксаны, и она почувствовала, как дрогнула его холодноватая, длинная рука. Она
подняла голову и увидела глаза Печерского пустые, прозрачные, стеклянные глаза, обращенные к двери из
коридора. Это был испуг и отчаянье. На пороге стоял очень высокий, худой, лысый до того, что трудно было
рассмотреть где лицо переходит в лысину, человек. Человек держал в руках шляпу и желтые перчатки и смотрел
мимо Ксаны и Печерского в сторону Мерца.
– I beg– your pardon, – сказал Мерц.
– Я свободно говорю по-русски, – правильно, но с сильным акцентом, сказал Клемм. Мерц открыл
дверь и они прошли в кабинет. Ксана взглянула на Печерского. Он был мертвенно бледен и смотрел в дверь,
куда ушли Мерц и Клемм.
– Что с вами? – спросила Ксана.
– Не извольте беспокоиться. Имею честь… – задыхаясь ответил Печерский и вышел.
XII
Печерский и Александров сговорились встретиться у почтамта в девять часов вечера. Печерский опоздал,
Александров собрался уходить. Был десятый час, когда Печерский вдруг появился на противоположном
тротуаре. Александров холодно поздоровался и сказал:
– Я думал, вы обманули.
– Кто обманул? – спросил не расслышав Печерский. Видите ли, у меня дела. – Он замолчал и
внимательно смотрел на Александрова.
– Пойдем на бульвар.
– Нет, – сказал Печерский, – если угодно, поедем ко мне.
– Поедем. Вы живете в гостинице?
– Нет. Довольно далеко.
В трамвае оба молчали и изредка смотрели друг на друга: Александров рассеянно и равнодушно,
Печерский настороженно и как бы с любопытством.
– Вот что, – вдруг сказал он, – почему вы так одеваетесь? Лучше не выделяться. У вас вид явного
эмигранта, мастера с Бианкура. Надо проще.
– Чего же проще? – Александров хлопнул себя по бархатной блузе и штанам. – Вот весь гардероб. Что
поделываете? Как живете? – равнодушно, явно из приличия, спросил он. Печерский неопределенно
усмехнулся. Левая щека задрожала и глаз странно подмигнул.
– Я всегда думал, – продолжал Александров, – что вы, простите меня, умнее, чем кажетесь на первый
взгляд. И тогда, в ночном бистро с Мамоновым, я был уверен, что вы…
– Нельзя ли потом, – сквозь зубы сказал Печерский и оглянулся. На площадке, рядом с ними стояла
девушка в красном платочке и паренек с непонятным значком в петлице пиджака.
– Как угодно.
Трамвай бежал по узким сереньким улицам окраины. Александров никогда здесь не бывал и с
любопытством рассматривал серенькие деревянные дома, пустыри, заборы, мост окружной дороги, повисший
над улицей.
– Далеко забрались. Трудно здесь с квартирами.
– Далеко. А вы?
– Я еще дальше. Три часа от Москвы.
Они сошли на конечной станции и затем долго шли по мощеным крупным булыжником переулкам, мимо
редких чайных с синими вывесками, мимо одиноких ларьков. Дальше была красная кирпичная стена