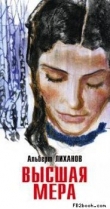Текст книги "Высшая мера"
Автор книги: Лев Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
монастырского кладбища, затем почерневшие от дождей и времени срубы деревянных домов. Уже была ночь и
мрак, когда они вошли во двор каменного дровяного склада, нашли калитку в заборе и пошли дворами и
лабиринтом деревянных домов.
Одинокий фонарь мерцал далеко за забором, как светляк. Наконец, в конце двора, открылась косая,
открытая настежь дверь, деревянная узкая лестница флигеля с мезонином. Хуже всего выглядел коридор,
освещенный одной закопченной керосиновой лампой. В коридоре, за занавеской, на полу спали двое или трое и
странно было, как они могли здесь спать. В этом деревянном доме, в углах и щелях, день и ночь люди ругались
и пели и плясали и высохшее дерево отражало и усиливало каждый голос и звук. Александров с изумлением
посмотрел на Печерского. Печерский открыл узенькую дверцу в фанерной стенке, и они оказались как бы в
ящике в полторы квадратных сажени. Здесь было одно окно с картонным щитом вместо двух стекол. Мутный
свет скупо падал из коридора. Печерский зажег спичку, нашел керосиновую лампу и лампа наконец осветила
деревянные выщербленные доски стола, на столе – начатую бутылку коньяку и стакан, табурет и полотняную,
раздвижную кровать. Фанерная, тонкая, как картон, стена, дрожала от песен и криков. За стеной играли в карты.
Пение и гитара затихали по-видимому тогда, когда всех увлекала карточная игра.
– Алеша возьми полтоном ниже! – как в бочку гудел мужской, пропитой голос и такой же хриплый и
пропитой женский голос вторил: “Дуська, сдавать. Сдавай, зануда…”
– Как вы можете здесь жить? – спросил Александров.
Печерский подвинул гостю табурет и присел на кровать.
– Приходится. А вы как живете?
– Под Москвой. Два часа сорок минут езды. Вот только не знаю, как теперь выберусь. Последний поезд
в одиннадцать, а завтра в восемь надо быть в городе.
– Полагаю, что вы заночуете у меня. Хотя, сами видите…
– Спасибо. Так всю ночь и будет?
– Так. К утру, пожалуй, передерутся.
– Неужели нельзя устроиться получше? – внезапно раздражаясь спросил Александров.
– В моем положении нельзя. Здесь люди, в случае чего, подходящие.
– В случае чего?..
– Хотите коньяку? – предложил Печерский; Александров молча отказался и тогда Печерский налил
себе чашку, вынул из кармана яблоко, выпил до дна коньяк и закусил яблоком.
– Наивный вы человек, – сказал он, – чудак человек. За мной же слежка.
– А… – еще не догадываясь протянул Александров, – и давно?
– Не особенно. С неделю. Помните, мы с вами встретились на Цветном? С того дня.
– Именно с того дня?
– Именно с того дня.
– Вы как будто этим хотите сказать…
– Ничего не хочу. Плохой коньяк в Сесесерии. Нельзя сравнить с французским. Помните?..
Печерский снова налил, выпил, щелкнул языком и рассмеялся.
– Павел Иванович, – вдруг мрачно и злобно сказал он, – а вы ведь меня обманули.
– Послушайте, Печерский…
– Вы меня обманули! – выпив до дна коньяк, почти закричал Печерский. – На Цветном бульваре вы
мне солгали.
– Послушайте, вы…
– Вы мне солгали, – упрямо повторил Печерский, – На Цветном бульваре я спросил вас: “Вы
решились? Значит, вы решились?” Вы ответили: “Да, я решился”. Вы помните?
Александров открыл рот, но крики за стеной заглушили его.
– Лысый, чорт! Лысый!
– Ни хрена!
– Банко!
– Я сказал, – вспомнил Александров. – Да, я именно так и сказал. “Я решил”, то есть, я решил
вернуться, решил вернуться и работать. Честно работать.
За стеной кого-то ударили по руке. “Фрайер, не тронь карту!” Вопли и хохот опять заглушили
Александрова.
– Полковник Александров, вы передернули! – вдруг закричал Печерский.
– Хотя вы и пьяны, но, сударь, я вам не советую…
– Я немного выпил, но вы должны меня понимать. Я не сплю ни минуты третьи сутки. За мной слежка,
– шопотом, как бы в бреду, продолжал Печерский. – И, чорт его знает, кто следит!.. Свои ли, чужие? К
“Станиславу я не пошел и не пойду. Ну его к чорту! Сегодня я был в одном доме, в квартире одного инженера,
он пришел туда следом за мной. Вы меня понимаете?
Он снова налил коньяку и жадно выпил и со стоном выговорил:
– Можно сойти с ума…
– Не понимаю. Следят, ну пусть следят. Раз за вами ничего нет, раз вы чисты, чего же вам бояться? – с
некоторым сочувствием сказал Александров. – Ну, возьмут. Возьмут и выпустят. Насколько я понимаю, вы
здесь легально?
Печерский не ответил. Он сидел на кровати, обхватив колени, мигая красными припухшими веками.
Вдруг он рассмеялся.
– Господин Александров, послушайте. Вы притворяетесь или вы идиот…
– Да ну вас к чорту!.. – Александров взял фуражку.
– Погодите, – удержал его Печерский. – Погодите. Слушайте. Вы должны выслушать, чтобы все было
ясно. Вы говорите – легально. Не верю, чтобы вы забыли ту ночь в Париже и разговоры с Мамоновым.
– В Париже с Мамоновым? Я надеюсь, это не серьезно… Ночью, в ночном кабаке, за рюмкой ликера…
Не может быть… Это – сумасшествие.
– Почему не может быть?
– Да что вы слепой, что ли? Вы же три недели в Москве, в России!
– Начнем, как говорится, “аб ово”, “товарищ” Александров, – почти спокойно сказал Печерский. – Вы
считаете нормальным, чтобы я, русский офицер, русский по вере, по крови и по рождению, укрывался со всякой
сволочью, в воровской малине…
– Да вы же сами этого хотите…
– Допустим. Ну тогда вы считаете нормальным, что вы, легальный “товарищ Александров” живете под
Москвой в избе у грязного мужика, что вы делаете по двадцать верст в сутки по Московским мостовым,
нанимаясь в монтеры, в мастера, в слесаря. Павел Иванович Александров, трижды раненый немцами, гвардии
полковник и георгиевский кавалер…
– Хорошо! Вы хотите, чтобы вас уважали за старое. А кому оно нужно, старое? Его даже не замечали.
Вот я жил, тратил уйму денег, все на себя и для себя, никому не помогая, не замечая грязи, голода и нищеты.
Какой эгоизм, какая пустота!..
– Кающийся дворянин.
– А вы даже не дворянин. Вы даже не офицер. Может быть, потому что я кадровый, потому что я с
пажеского корпуса до семнадцатого года двадцать лет тянул лямку, потому-то я и возненавидел устав и погоны
и строй. А вам, впопыхах, в школе прапорщиков военного времени, царь дал звездочку, и галун и вы за эту
звездочку или за две звездочки на стену лезете и лоб разобьете…
– Пускай, пусть я школы прапорщиков. Я офицер военного времени – верно. А вы кадровый, вы
гвардеец и аристократ! Но вы, все-таки вы изменили присяге, а я умру славной смертью, как честный солдат.
– “Присяга”, “долг”, “честь”. Я, полковник Александров “порядочный человек и офицер”. Я, например,
не мог жениться на гувернантке, на горничной. За это выгонят из полка, перестанут принимать в обществе. А
заразить гувернантку сифилисом и сделать ей ребенка можно. А быть педерастом и развращать кадет – можно.
Мой долг, например, взять вас за воротник и отправить куда следует, врага моей родины и народа – я все-таки
не могу. Зачем вы мне все это рассказываете? Уж лучше бы не знать.
Печерский сидел на кровати, откинувшись к стене, упираясь затылком в стену. Теперь он говорил тихо,
почти шопотом.
– Все равно. Понимаете, все равно. Гимназистом, в Воронеже, я из упрямства, из озорства спустился
первый на лед. Стал на лед и отбежал от берега. Лед трещит и гнется и синие трещины побежали. А итти надо,
итти, только не стоять на месте. Вдруг доберусь.
Он схватил чашку, выпил и с горечью и злобой сказал;
– Какая сволочь!.. Какая сволочь! Дают явки к трусам, к падали. Все – сволочь. Вот только Наташа.
Одна – Наташа. Да что – всегда руки целовала, всегда я^для нее бог… Да, трещит лед.
– Зачем это вам? Кому это нужно? – печально и тихо спросил Александров. – Вот я живу в трех часах
от Москвы, станционный поселок, в двух верстах село, мужики. Бросьте вы все это. Пошлите вы Мамоновых и
Гукасовых… Вы ремесло знаете, вы шофер. Не пропадете…
За стеной почему-то затихли. Глухой голос удивительно чисто запел:
Есть одна любимая
Песня у соловушки…
– Есть еще выход, – устало и покорно сказал Печерский, – итти, признаться, не хочется. Опять какая-
нибудь ерунда. Вот и не иду. Все равно. Трещит лед… – вдруг он привстал и наклонился к Александрову:
– Все же вы меня выдали! Иуда!
– Жаль мне вас, а то показал бы вам – Иуду. Давайте поедем ко мне, – запинаясь сказал Александров.
– Все обойдется. У нас тишина, поля, ветер, русский ветер. Сейчас снег сошел, чорт ее возьми, русскую весну.
Каждое утро иду пешком на станцию, гляжу в небо и чуть не плачу. Восемь лет не знал русской весны. Точно
опять родился.
– Так, так… И все-таки вы меня выдали, – шопотом сказал Печерский.
– Слушайте, Печерский, бросьте, честное слово, бросьте. Жалко мне вас. С будущей недели начнет
работать наша артель. Маленькая механическая мастерская. Жить можно. Идите вы к нам. На кой вам чорт эта
гадость. Грязи и крови не оберешься.
Если бы не усталость и не легкая сонливость, Александров мог бы заметить странную перемену в
поведении Печерского. Печерский вдруг подтянулся и протрезвел. Он все так же устало и вяло цедил слова, но
произносил он их неестественно холодно и бесстрастно.
– В самом деле, поехать к вам… Здесь у меня жена. Простить ей и забыть. И все забыть… – Он встал и
сделал три уверенных и быстрых шага по комнате. – А слежка?
– Ерунда. Вы преувеличиваете. Вы – неврастеник, дорогой мой. Типичный неврастеник. Но это
пройдет.
– Пройдет? – спросил Печерский и продолжал совсем спокойно без тени волнения: – Вас не
побеспокоит – я открою окно. Душно.
Он открыл окно и вместе с сыростью в комнату вошел легкий, теплый ветер, отдаленный городской шум
и паровозные гудки. Лампа мигала под ветром и временами в комнате было темно.
Александров зевнул и сказал:
– Душно и ко сну клонит. Устаешь, знаете ли, за день. Много хлопот с этой артелью. На будущей неделе
откроемся. – Он положил голову на руки. – Придется мне, у вас заночевать, если позволите. Как-нибудь
устроимся.
– Пожалуйста.
Печерский ходил по комнате. Четыре шага вперед, четыре назад.
– Да вы сядьте или ложитесь спать. Кстати, у них тихо.
– Ложитесь вы. Вы – гость.
– Какой там гость. – Александров закрыл ладонью глаза. – Россия… Россия… И паровозы гудят здесь
по-другому. Другим голосом, другим языком. – Он прислушался к шагам Печерского у себя за спиной:
– Ладно. Поживем – увидим.
– Увидим, – странным голосом сказал Печерский. Он остановился позади Александрова.
За стеной звенело серебро и шуршали бумажки. Там шел счет, тасовали карты и слышно было, как
стучали краем колоды об стол.
Александров зевнул и повернулся к Печерскому. Секунду, а может быть четверть секунды, он видел перед
собой черную дырочку, дуло револьвера.
– Иуда! – закричал Печерский и выстрелил. Затем, рассчитанными движениями, он потушил лампу и
вскочил на подоконник. На секунду его поразила ужасающая тишина в комнате и за стеной, и он спрыгнул вниз,
в темноту, тишину и ночь.
– Ироды. Кто стрелял? – задыхаясь, спросили за стеной. Александров лежал на полу. Никто не ответил.
Тогда сильные удары потрясли стену и дверь сорвалась с петель. Но бывший гвардии полковник Павел
Иванович Александров – умер две минуты назад.
XIII
Был такой час, когда в ночной чайной на Смоленском, можно увидеть выехавшего поутру извозчика,
заночевавшего в Москве крестьянина и продрогшего от сырости вожатого с трамвайной станции. Был белый
день, пять часов утра. Окна чайной выходили во двор и упирались в кирпичную, отсыревшую стену. Кирпич
только розовел, отсвечивая на заре, и в чайной было полутемно. Проститутки, воры, бездомные бродяги и
пьяницы, затем ночные извозчики и сезонники, – маляры, плотники и землекопы схлынули еще засветло. В
чайной было пусто и сыро от сырых опилков и пролитого кипятка. В шесть часов по положению закрывали.
Половой зевал, прикрывая рот кулаком, и поглядывал на часы-ходики, помахивая мокрым, свернутым жгутом,
полотенцем. Два извозчика, крестьянин и вагоновожатый были ему понятны, неинтересны. Непонятен был
только худощавый гражданин в толстовке, бросивший пальто на стул, а фуражку на стол и положивший голову
на руки. Извозчики, не торопясь, допивали первый чайник. Утренняя езда начиналась в девятом часу.
– Пару и четверочку любительской, гражданин, – заказал молодой, обросший рыжим первым пухом,
извозчик.
– Гуляешь на все двадцать? – спросил второй. Он был постарше, в неопределенном возрасте, между
сорока и шестидесятью.
– Много не нагуляешь без почину.
– Без почину. А я вчерась у Трухмальных рупь ни за что отдал. Такой мильтон попался – не дай бог.
– Учить вас надо архаровцев, – назидательно сказал вагоновожатый, – все уши обзвонишь, а вам хоть
бы что…
Разговор оборвался. Извозчикам хотелось продолжать, но говорить собственно было не о чем. Потому
молодой извозчик повернулся к крестьянину и легонько стукнул его в бок.
– Откеда землячек?
– Сергиевские…
И опять не о чем было говорить, но от привычки к вынужденному безделию в ожидании седока, сами
собой явились беззлобные шуточки,
– Богатые вы там черти… Дачники.
– Богатые? – удивился крестьянин.
– Хошь сменяемся. Ты на облучен, а я с твоей бабой лягу.
– Богатые…
– А то нет. По вашей милости овес в три рубля стал. Гужееды.
– Вот, говорят, при советской власти денег не стало, – задумчиво сказал старый извозчик. – Возил я
зимой одного на бег. Шуба енот архиерейский. Шестнадцать годов по Москве езжу – не видал.
Половой принес чайники. Непонятный ему гражданин в толстовке, подпирая руками голову, смотрел в
окно, в глухую кирпичную стену. Перед гражданином стояла бутылка клюквенного кваса и стакан.
– Здесь спать нельзя, – на всякий случай сказал половой.
– Я не сплю. Дайте чаю, – сказал гражданин и поднял голову. – Дайте чаю.
– Может, ситра? Освежает.
– Чаю.
Половой вытер грязным полотенцем стол и, выбрасывая ноги, не торопясь, пошел к стойке.
Гражданин в толстовке опустил голову и рассеянно слушал заглушенные голоса:
– И вот как оно получилось. Пишут мне бумагу и спрашивают: “Кто у вас председатель и как ему
фамилие”. Фамилие, говорю, ему Фомов, а к нему я не пойду. “А почему” – спрашивают. А потому получилось
у нас из-за запашки. Разбил он мне на масленной скулу в кровь, и будь здоров.
– Фу, ты – темнота какая, – сказал вагоновожатый.
…Ах, говорит, вот он какой, и зачали писать да выспрашивать. Кончил писать и говорит “безобразие”.
Вот я и думаю: что получилось и как оно повернулось.
– Крышка. – Строго решил вожатый.
– Да ну?
– Вот те и ну. Крышка товарищу Фомову.
– Ну, и сутяги вы, мужички. Подкачал начальство и рад. Другой раз мало били в старое время… —
старый извозчик вздохнул, как бы с сожалением и укором.
– Теперь по скуле нельзя, теперь – смычка. – С удовольствием сказал молодой.
Непонятный гражданин на минуту задремал и сразу проснулся. Еще двое появились в чайной. Пыльно-
серый беспризорный в мешке, в одной короткой и одной длинной штанине, подошел к столу извозчиков и запел
неожиданно высоким голосом:
Позабыт, позаброшен
С молодых ранних лет,
Я. остался сиротою
Счастья доли мне нет…
На грязно-сером лице, необыкновенно розовыми, точно у загримированного негра, казались веки, и губы
и десны.
– Возьми, – сказал вагоновожатый, дал две копейки и строго спросил: – почему не в колонии? Почему
не в колонии, слышишь?
– А он, видать, партейный. До всего ему дело, – вслух подумал старый извозчик.
Я умру, я скончаюсь
Похоронят меня…
Запел мальчик.
– На, – сказал молодой извозчик, дослушав песню. – На, грач.
Мальчик взял калач и съел, не отходя от стола.
Крестьянин продолжал обстоятельный рассказ и гражданин в толстовке слышал его как бы в полусне:
– Опять спрашивает: “Вы какой волости?” “Лысовской”. Слыхали, говорит. “Ну, что пишет, барин?”
“Пишет, говорю”. “И вы пишете?” “И мы пишем”. “Знаем, в газете читали. Что ж не едет барин?” Не едет,
говорю. Хитер. Выпустили мы его в васьнадцатом – поставили на заставу ротозея – он его и выпустил. А
теперича, разве его заманишь, барина…”
– Нипочем не заманишь…
– Нипочем не заманишь. В васьнадцатом надо было… Пишет барин – земля однако моя. Вот устинские
в семнадцатом свою графиню живьем в стогу сожгли. Из города с бумагой приезжали и то не отдали графиню.
Гражданин вздрогнул и спросил:
– Какой волости?
– Мы? Лысовской.
– Села Мамоново?
– Мамоновские.
Гражданин отвернулся и замолчал. Замолчали все и пошептались.
– Что за человек?
– А кто его знает?
– Пьяный или занюханный, – решил вагоновожатый. – Посидит, ситра попьет и удавится. Бывает.
Вожатый позвенел пятаками и ушел.
Беспризорный мальчик оглянулся, подошел к гражданину в толстовке, раскрыл рот, задумался и запел:
Как поймали мово Юрку,
Он запрятался в ларьке,
Он в кожаной тужурке
И со шпалером в руке.
Товарищи, товарищи,
Не надо его бить,
Вы подайте в суд народный
Будут там его судить…
– Уйди, – сказал гражданин в толстовке и высыпал на стол мелочь. – Слышишь, уйди.
Мальчик сгреб мелочь со стола и ушел. Непонятный гражданин сидел, откинувшись назад, и глядел в
глухую кирпичную стену.
За спиной у него сидел человек. Он чувствовал его дыхание у себя на затылке. Человек курил и
Печерский вдыхал дым его папиросы. Тоска и оцепенение охватили гражданина Печерского. Он зевнул и
зажмурился.
– Михаи; Николаевич, – произнес низкий, глуховатый голос у него за спиной.
– Я! – вздрогнув и похолодев, отозвался Печерский и сразу понял, что нельзя было отзываться.
Высокий, совершенно лысый, бритый человек сидел позади Печерского.
– Михаил Николаевич Печерский? Неправда ли? – сказал он с иностранным акцентом, но совершенно
правильно, даже с некоторым щегольством выговаривая русские слова.
– Вы ошибаетесь.
Высокий бритый человек перегнулся через стол и посмотрел в глаза Печерскому.
– Два часа назад, выстрелом в затылок, вы убили господина Александрова.
Печерский попробовал встать, неизвестный схватил его за локоть и сказал раздельно и значительно
“Д е в я т к а ”. Печерский сразу ослабел и поник.
Они молчали, потому что мимо них, вкрадчиво покашливая, проходил старичок:
– Купите ножичек, гражданин. Ножи перочинные, столовые, кухонные, садовые…
Печерский посмотрел ему вслед.
– Господин Печерский. Прошу ответить на мой вопрос. Почему вы, господин Печерский, не явились в
точно указанный час и день в кафе-столовую Рекорд?
– Я вас знаю, – устало сказал Печерский. – Это вы следили за мной. Это вас я видел у Мерца.
– Вы были обязаны явиться в назначенный час и день в кафе-столовую Рекорд. – Продолжал
неизвестный. – Вы обязаны были подойти к господину в сером костюме с сигарой. Мундштук – слоновая
кость.
– Прежде всего, я обязан был явиться за инструкцией к известному вам Акимову “Серому”. Я пришел к
нему и вы знаете, что вышло.
– Это не помешало бы вам во время быть в столовой Рекорд.
– Были такие обстоятельства, господин Клемм…
– Это имя не должно иметь места. Для вас, господин Печерский, я “Станислав”. Вы знаете инструкцию?
Печерский дернул плечом и вспыхнул:
– К чортовой матери!
– Тише, тише, господин Печерский. Помните – я не Александров. – Клемм бросил папиросу и
брезгливо поморщился. – Невозможно работать с подобными людьми. Вместо того, чтобы явиться ко мне, вы
заставляете меня разыскивать вас и ставить за вами наблюдение. Вместо того, чтобы делать что вам прикажут,
вы поддерживаете бесполезное знакомство с господином Александровым и совершаете бесполезное
преступление.
– Я был уверен, что за мной следят. Только теперь я понял – это были вы.
– В данную минуту вы совершенно запутали положение.
Печерский закрыл глаза и устало сказал:
– Я страшно устал. Я не спал четыре ночи. Дайте мне папиросу.
– Вы запутали положение.
– Это они, а не я. “Самоотверженные”, “мужественные”. Мерзавец Мамонов врал, как сивый мерин.
Очень хорошо, что я вас встретил. Все идет к чорту. Я здесь как затравленный. Дайте папиросу.
Клемм подвинул Печерскому портсигар, и спросил:
– Какие ваши намерения? Что вы думаете делать дальше?
– Что делать? Бежать, вот что делать.
Клемм усмехнулся и покачал головой. Затем он подобрался, нахмурился и Печерский понял, что сейчас
будет самое важное.
– Господин Печерский. Подпольная, подрывная работа есть трудная и опасная работа. Для подобной
работы нужно уметь подбирать людей. Лично вы не годитесь для этой работы. Однако, при данном стечении
обстоятельств, я не имею лица способного заменить вас.
Каждую последующую фразу Клемм произносил медленнее и отчетливее предыдущей, с нарастающей
силой и упорством гипнотизера.
– Послушайте, господин Клемм… – пробовал возражать Печерский.
– Извольте меня слушать. Произнесенная вами фамилия не более как псевдоним. Для вас я —
“Станислав”. Извольте слушать. Мамонов – это чушь. Я не Мамонов. Не позже как завтра вы отправитесь к
господину Мерц. Постановлением высших инстанций господин Мерц, по-видимому, перемещается с должности
начальника строительства на должность консультанта. В результате подобного перемещения, господин Мерц
может быть нами использован. Вы имеете доступ в дом господина Мерца?
– Ну?
– Вы имеете доступ в его дом. Я в этом лично убедился. Это главное. Остальное требует более
детального обсуждения. Отложим до утра. Ваш образ действий в отношении господина Александрова, —
Печерский слегка вздрогнул, – убеждает меня в том, что вы, при известных обстоятельствах, умеете
действовать решительно.
– При известных обстоятельствах?..
– Я еще не кончил, господин Печерский.
– А по моему кончили.
Печерский зажмурился, затем открыл глаза:
– Потрудитесь переправить меня через границу. Остальное вас не касается.
– Вы это говорите серьезно?
– Да. Вы меня поняли?
– Я вас понял. Вы меня не поняли, господин Печерский. Все, сделанное вами в прошлом и в настоящем,
включая убийство господина Александрова, обеспечивает вам высшую меру наказания.
– Ну и что же?
– Не имею ничего добавить, – сказал Клемм и встал. – Прощайте.
– Садитесь, – угрожающе прошептал Печерский, – садитесь, говорю!
– Я слушаю вас.
– А если я сейчас схвачу вас за шиворот и закричу…
– Это не меняет дела.
– Почему, господин Клемм?
– Вам известно, что такое иммунитет. Я есть дипломатическое лицо, я неприкосновенное лицо. Что же
касается вас… Вы поняли?
– Сукин сын, сукин вы сын…
– Господин Печерский, шесть часов утра. Мы здесь не совсем одни. Давайте кончать. Труп господина
Александрова уже в Лефортовском морге. Я думаю, что вами уже занялся уголовный розыск. Через несколько
дней нам не о чем будет разговаривать. Коротко: да или нет?
Печерский молчал, обхватив голову руками.
– Значит, сегодня в четыре часа дня мы обсудим детали. Явка та же и там же. Кафе Рекорд. До свидания.
Серый костюм, мундштук – слоновая кость. До свидания.
Печерский сидел, не меняя положения. Когда он поднял голову, неизвестного уже не было. Он оглянулся.
Глухая кирпичная стена за окном отражала солнце. Тусклый свет запыленных электрических лампочек мешался
с белым днем. Он был один. На мгновенье ему показалось, что брошенное на стул пальто и фуражка, лежащая
на столе, по странной игре приняли форму человека сидящего за столом и положившего голову на вытянутые
руки. Он вздрогнул, закрыл ладонями глаза, снова открыл их. Хмель, усталость и сон окончательно овладели
им.
– Павел Иванович, Павел Иванович Александров, – сказал он (вернее подумал, что сказал). – Конечно,
это чушь, бред, но допустим, на секунду допустим, что это вы. Я убил вас, Павел Иванович. Простое сцепление
обстоятельств. Помните на Цветном? Мы расстались и почти в тот же миг слежка. Но кто же мог подумать, что
это Клемм. Я защищался. Я имею право защищаться. Сейчас вы сидите именно так, как сидели когда я в вас
выстрелил. Вы меня упрекаете? Но что такое смерть? Я был студентом, я кое-что читал… Я помню, я читал у
ученых немцев. Человек – это триста пятьдесят триллионов клеток. Каждую секунду погибает сто двадцать
пять миллионов клеток или вроде этого. Сколько ж их у вас там осталось? Триллионов сто, не больше. Не все ли
равно сразу или по секундам. Хорошо придумано? А?
Фуражка, сдвинутая локтем Печерского, упала со стола. Он открыл глаза и прошептал: “В общем так или
иначе – зарез…”
Вкрадчивый и настойчивый продавец опять проходил мимо Печерского.
– Ножи перочинные, кухонные, столовые и садовые. Купите ножичек, гражданин.
Часы пробили шесть.
XIV
Ксана, Александра Александровна Мерц, сложила вчетверо только что написанное письмо и вложила его
в конверт. Затем она взяла телефонную трубку и вызвала по комутатору Митина.
– Да! Кто? – по привычке закричал Митин. Привычка кричать осталась от времени военного полевого
телефона. – А, товарищ Ксана, Александра Александровна….
– Вы одни? – спросила Ксана.
– Нет. Через четверть часа буду один.
– Я зайду проститься. Мой поезд в одиннадцать тридцать.
– Вы всерьез едете? Ну, ладно. Поговорим.
Ксана положила трубку и написала на конверте письма: “Н. В. Мерцу”. Только сейчас она вспомнила о
Печерском. Он ждал в кабинете.
Печерский сидел в кресле и смотрел в пол. Сжатые губы темной нитью прорезали лицо над подбородком.
– Не помешаю? – спросил он. – Мне нужно дождаться Николая Васильевича. Можно?
– Конечно, можно.
Как всегда она чувствовала неловкость и тревогу в присутствии этого человека.
– Два слова, – с неожиданной резкостью сказал он, – случайно, можно сказать совершенно случайно,
я проник в вашу тайну.
– У меня, “так сказать”, нет тайн.
Она удивилась, потому что он вдруг взглянул на нее в упор с открытой ненавистью и насмешкой.
– Как угодно. Видите ли, мне стало известно, что гражданин Митин… Как бы сказать…
– Что Митин мой любовник, – радуясь своему спокойствию сказала она. – Так. Представьте, я была
уверена, что вы рано или поздно сунетесь в чужие дела. У вас именно такой вид. Я, например, знаю, что вы
были любовником моей сестры, но как видите это меня не интересует.
Лицо Печерского из серого стало чуть розовым. Он поморщился и невнятно пробормотал:
– Мои чувства к Елене Александровне – святые чувства. Я не позволю…
– Нет, уж позвольте. Вы начали с того, что вмешались в мои дела.
– Уважение, которое я питаю к личности Николая Васильевича…
– С некоторого времени Николай Васильевич здесь не причем, – сказала Ксана. – Не стоило бы с вами
говорить об этом, но так и быть. С сегодняшнего дня Николай Васильевич здесь не причем. Что же вам нужно в
конце концов? – внезапно раздражаясь спросила она.
– В сущности, мне от вас ничего не нужно. Я страшно устал, – глухим и потухшим толосом сказал
Печерский. И Ксану удивил его голос.
– Вы больны?
– Я просто устал. Я ничего не понимаю. Вы, Николай Васильевич, говорите со мной, но я вас не
понимаю. Вчера мне показалось, что я понял одного человека. Его-то я знал. Но оказалось, что он совсем
другой.
Ксана подошла к Печерскому.
– Вы бредите?
– Нет. Этот человек умер. Действительно умер.
– Вы больны, – задумчиво сказала Ксана. – Вы в самом деле больны. Но странно, мне вас не жаль. —
Она наклонилась, стараясь заглянуть в эти холодные, пустые глаза. – Зачем вы вернулись?
Он вздрогнул и как будто насторожился.
– Это уж позвольте мне знать.
– Странно, очень странно. У вас вид умирающего. – Она отошла и оглянулась. Печерский сидел
согнувшись, почти свисая с кресла и смотрел в пол. В такой позе он сидел пока не услышал нетвердые,
шуршащие шаги Мерца. Он поднял голову и секунду они смотрели друг на друга. Оба удивились и оба
молчали, хотя видели явную перемену. Оба состарились на много дней в эти две недели.
– Это вы… Я говорил о вас три дня назад. Напрасно вы не позвонили. Тогда как будто все устроилось.
Надо узнать.
– Благодарю. Видите ли, возникают новые обстоятельства…
– Который час? – спросила Ксана. Она вошла вместе с Мерцем, но Печерский ее не заметил.
– Без двадцати одиннадцать.
Ксана подошла к Мерцу и поцеловала его в лоб.
– Ты уходишь?
– Да. Я скоро уйду. – Она ласково и внимательно посмотрела на него.
– Ну что ж, иди… – Мерц погладил ее волосы. Она снова поцеловала его и он даже отстранился от
изумления. – Ну, иди, иди, – неуверенно сказал Мерц и повернулся к Печерскому. – Что вы сказали? – Он
подвинул кресло и сел.
– Николай Васильевич, я вам надоел, я понимаю. Но сейчас я хочу говорить с вами не о себе, а о вас, о
Николае Васильевиче Мерце, – резким и странно звучащим в этой тишине голосом начал Печерский. С ним
случился редкий, неожиданный припадок энергии, сейчас же вслед за полосой апатии и уныния. – Я буду
откровенен, потому что вилять мне с вами нечего. У меня есть все основания предполагать, что теперь-то вы не
с ними, а с нами… Вы меня понимаете?
Мерц привстал в испуге и недоумении:
– Что такое “с ними”, “с нами”?.. Не понимаю.
Печерский вдруг понизил голос до шопота:
– Николай Васильевич. Я имею право так говорить с вами, потому что я белый белогвардеец,
контрреволюционер, как это у них называется.
– И вы мне, мне говорите об этом? Мне! Вы сумасшедший, – вскрикнул Мерц и посмотрел на
Печерского так, как будто он его видел впервые.
– Бросьте. Никогда вы меня не уверите в том, что вы, выдающийся инженер и известный ученый,
работаете у них по убеждению. Вы – просто умный человек. У вас нет другого выхода. Эта квартирка все же
лучше камеры в Бутырской тюрьме или номера в отеле “Ваграм” в Париже.
– Вы смеете со мной так разговаривать?
– Месяц назад я бы, пожалуй, не решился. Но сейчас… Во-первых, мне все равно, во-вторых, ясно, что
вы наш. Ясно.
– Вы думаете? – отодвигаясь спросил Мерц.
– Уверен. Вас вышвырнули, как негодный хлам, как ветошь. Вас, “товарища” Мерца, с вашим именем и
стажем, и десятилетним советским стажем. Это – факт.
– Вы хорошо осведомлены.
– Постановление уже состоялось. Его опубликуют через неделю. Мы знаем.
– Так. Ну, что же?..
Печерский вдруг заметался по комнате:
– Может быть вы проглотите. Отчего ж вам не проглотить. Плюнули в лицо – утритесь и валяйте
дальше. Вас приучили.
– Я вас выгоню вон.
– Не выгоните. Вы самолюбивый и гордый человек, господин Мерц. Я уверен, что вы пошли работать к
ним только потому, что вам не дали хода, не сделали министром при временном правительстве. На кой чорт вам
с ними работать! Вы могли бы устроиться у англичан или у немцев. Ведь правда?
Печерский удивился. Мерц ответил печально и как бы с усмешкой:
– Попробуйте меня понять, вы, тонкий психолог. Я знаю, я верю в то, что через десять лет на болоте, где
жили одни кулики и болотная нечисть, будут грузиться тысячетонные пароходы. Сто фабрик будут работать на
даровом, белом угле. На сотни верст вокруг вместо трехлинейных коптилок будет электрический свет и люди
будут жить чище, умнее и лучше. В этом есть доля моего труда, труда инженера Мерца. Кости мои истлеют,
пепел развеется, но этого вы у меня не отнимите ни сегодня, ни через сто лет. – Он мельком взглянул на
Печерского. – Что вы; в этом понимаете. – И с отвращением и усталостью спросил: – Хорошо, что вам от