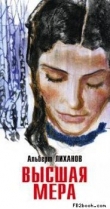Текст книги "Высшая мера"
Автор книги: Лев Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Улица Пигаль поднималась в гору, как корма корабля поднятая волной. Брюхо пятиэтажного углового
дома повисло над улицей и из распоротого брюха, как требуха лезли гирлянды электрических ламп, рекламы
ночных баров, дансингов и гостиниц. Дом состоял из бара “Фетиш” в бельэтаже, отеля “Шик” в третьем и
четвертом этажах. В подвале, с одной стороны находился дансинг “Паради”, с другой – кавказский духан
“Казбек”. Над “Казбеком” и “Паради” жили магазины торгующие тонким бельем, парфюмерией и
предохранителями. У входа в бар “Фетиш” стояла очень полная, стриженая дама в костюме жокея. Это был бар
лесбианок. Мальчик в позументах и галунах раздавал карточки-рекламы “Паради”. У входа же в “Казбек” стоял
Нико, грустный грузин в папахе и бурке поверх алой черкески. Ему был жарко. Он обмахивался папахой как
веером.
В проходном салоне духана “Казбек” на низкой, неудобной тахте сидел генерал Мамонов. Кривые
шашки, оправленные в серебро турьи рога висели над ним на стене. Тускло блестели клинки и от расписного
фонаря цветными дугами и стрелами падал свет на ковры. Перед Мамоновым стоял низенький шестигранный
столик. На столике, в белой черкеске и красных чувяках сидел князь Юсуф Карачаев.
– Друг князя Амилахвари – мой друг, – вкрадчиво и с придыханием говорил Карачаев. – Откровенно
сказать – я на этом голову положил. Ты – человек понимающий. В Константинополе открыл “Наш Духан” —
в трубу. В Загребе с Илико Тумановым открыли ресторан “Рион” – тоже в трубу. В Праге, если помнишь,
шашлычную “Мцхет”. Это кабак шестой по счету. Учимся, понемногу учимся. Район хороший – Пигаль. Но
конкуренция. Сам понимаешь – четыре кабака в одном доме. Работать не с кем. Гертруду Николаевну
помнишь? Золотой человек, золотые руки, золотая голова. Сманили в Буэнос-Айрес. Что их в Аргентину тянет
– не понимаю. Молодость теряет, здоровье теряет. Агент дает золотые горы. С русской бабой хорошо работать.
Француженку повезешь – документы, консул, скандал. С русской заботы нету, консула нету, – аллаху жалуйся.
Работаю здесь с кем попало. Взял на пробу дочку мадам Поповой. Муж ее у нас в Тифлисе – начальник дороги
был. Учимся, понемногу учимся. Трудно. Сам на базар хожу. Сам на кухне. Сам Наурскую пляшу. Все сам…
На лестнице показался Печерский, остановился у зеркала и ушел наверх.
– Этот с тобой? – вдруг спросил Карачаев.
– Со мной. Поручик Печерский.
– Шофер. Я знаю. У меня спроси, я всех знаю.
Мамонов положил руку на колено Карачаева и усмехнулся.
– А ты и Гукасова знаешь?
– Я всех знаю. Такого человека не знать – кого знать. Гукасов, Язон Богданович. Зачем спрашиваешь?
– Да вот жду сюда, – небрежно сказал Мамонов.
Карачаев мягко, как подброшенный пружиной, вскочил:
– Зачем сразу не сказал? Нико! Леля! Нико!..
– Да погоди…
Круглый и легкий в движениях Карачаев метался по лестнице и кричал в темноту подвала:
– Приготовить вторую саклю! Вызвать из “Каво коказьен” зурнача Дато!.. – вдруг как в танце, на одних
носках, повернулся к Мамонову. – Зачем меня обижаешь, зачем себя обижаешь? Хорошего гостя привел —
тебе хорошо, мне хорошо. Процент со счета получишь. Ты гордый – зачем гордый?.. Нико! Леля!..
– Не надо, ничего не надо, – отмахнулся Мамонов. – Мы на минуту…
– Воля гостя – закон. Не надо, не надо! – обиженно сказал Карачаев.
Сверху по ступенькам вдруг скатился Печерский. “Гукасов, Гукасов…” и Карачаев опять сорвался и
кинулся в подвал задыхаясь и жалуясь:
– Зачем раньше не сказал – внизу встретить надо. Чудак-человек, дела не знает. Леля, Нико —
разбойнико!
– Ну-с, Михаил Николаевич, – с расстановкой и слегка волнуясь сказал Мамонов. – Посмотрим как
вы…
Он посмотрел на Печерского прищурив глаза и оттопырив губу. Тот стоял заложив руки за спину и
расставив ноги.
– Поменьше разговоров, – продолжал Мамонов. – Предоставьте все мне. Понимаете?
– Понимаю.
По лестнице, шурша чувяками, катился Карачаев. Белые широкие рукава черкески метались в воздухе и
два кинжала бряцали и гремели как в танце. Потом показались носы лакированных туфель, брюки в полоску
мельчайшим зигзагом и облегающий плотную фигуру синий пиджак. Это спускался Язон Богданович Гукасов
– величественный, седеющий брюнет. Гремя стеклянными бусами, бежала Леля в костюме одалиски и
монументальный Нико в алой черкеске и бурке остановился на площадке лестницы, подпирая папахой свод.
– Чем прикажете потчевать, гости дорогие, – пришепетывая залепетала Леля, – для начала закуски,
икорки, балычка, лососинки, из горячего – зубрик…
– Из восточной кухни – шашлык карский, крымский, гусарский, натуральный, чохохбили, осетрина на
вертеле… – рокочущим басом вторил Карачаев.
– Кофе по-турецки, – категорически сказал Гукасов и снял шляпу. – А вы – господа?
– Разумеется, чтобы не засиживаться.
– Воля гостя – закон, – с трудом и скорбью выговорил Карачаев. Гукасов сел на тахту и снял перчатки.
Мамонов вопросительно посмотрел на Лелю и она исчезла, гремя бусами и шурша желтыми, в изумрудных
разводах, шальварами.
– Я нарочно настаивал на встрече в нейтральном месте, – веско сказал Мамонов, – в нашем деле
нужна конспирация. Приходится кой-чему учиться у левых. Не правда ли, Язон Богданович?
– Минуточку, – вдруг залепетала из-за драпировок Леля. – Минуточку, какие ликеры – Шартрез, вер-
ла-Тарагонь, Гранд-Марнье, Мандаринет?
– Безразлично, не пью. Мадам или мадемуазель?
Бусы загремели и затихли.
– На чем мы остановились, генерал? – спросил Гукасов.
– Прежде всего разрешите вам представить…
Печерский подошел. До сих пор он стоял в стороне, внимательно рассматривая оружие и ковры.
– Если не ошибаюсь, это и есть…
Мамонов кивнул головой и откашлялся.
– Садитесь, Михаил Николаевич. Буду краток, – заговорил он негромко и быстро. – Для того, чтобы
победить врага, надо его изучить, говорим мы, стратеги. Мы учимся, понемногу учимся, мы учимся хотя бы у
наших врагов. Точный анализ положения по ту сторону красного рубежа убедил нас в том, что общее
недовольство населения, плюс осложнения во внешней и внутренней политике, плюс хозяйственные
затруднения подготовили почву для возобновления активной борьбы на территории бывшей империи. В самом
деле, анализируя настроения классов, в первую очередь интеллигенции, затем крестьянства, мы должны
всемерно использовать интеллигенцию (Слушайте, Михаил Николаевич), буду краток. Невыносимый гнет плюс
узкая нетерпимость большевиков сорвали намечавшийся было Бургфрид – гражданский мир между властью и
интеллигенцией. И вам вот куда в первую очередь, Михаил Николаевич, надлежит обратить взор, отнюдь не
отпугивая высокомерием и белой непримиримостью и прямолинейностью. Буду краток, – продолжал он,
оглянувшись на Гукасова. – Крестьянство! Здесь, надо сказать прямо, туман рассеялся, гипноз не действует,
крестьянство буквально тяготится данной ему землей. Я имел случай убедиться в чувствах моих крестьян,
крестьян моей подмосковной. Эти наивные письма, приглашающие меня вернуться, трогают до слез. Симпатии
населения теперь безусловно на нашей стороне. Буду краток. Пока я отделываюсь общими фразами, но
существуют правила конспирации обязательные для всех. Мы учимся, понемногу учимся, но не будет
нескромностью если я скажу, что у нас есть кадры по ту сторону красного рубежа, есть мужественные люди на
которых можно опереться. В частности, например, человек, которого я назову “Серый”. Мужественный,
самоотверженный, полный сил и веры в победу единомышленник, наконец, у нас есть сильный союзник. Назову
его… “Станислав”…
– Простите, – вдруг перебил Гукасов, – вы поймете, множество дел. Сегодня я обедаю в Сен Жермен у
господина министра, вечером клуб, общественные дела… Никакой личной жизни…
– Мы полагаем, что настало время для активного, боевого выступления, – упавшим голосом сказал
Мамонов.
– Его императорское высочество лестно отозвался о вас, генерал…
Мамонов оживился и положил руку на плечо Печерского.
– Михаил Николаевич, человек, о котором я вам уже докладывал…
– Что касается вас, молодой человек, – торопливо перебил Гукасов, – дай вам бог. Дело опасное, но
благородное. Кто не рискует – не выигрывает, как говорят французы. Надо действовать, надо показать, как
выражаетесь вы, генерал, что мы живы, что жив русский дух… – Он посмотрел на часы: – Мои
соотечественники упрекают меня в том, что я, сохранивший благодаря своим способностям свой капитал,
отказываю в помощи разным благотворительным организациям…
– Язон Богданович!.. – воскликнул Мамонов.
– Подождите, я – человек деловой. Беженцев много, я один. Я думаю, что каждый доллар, который я
даю вам, генерал, вашей группе принесет пользу не отдельному человеку или, скажем, семейству, а всей нашей
дорогой родине. Я прежде всего русский человек. С моими средствами я сам, мои дети и мои внуки могли бы
спокойно жить… Но я исполняю свой гражданский долг, а вы исполняйте свой воинский… И мы будем
молиться за вас, молодой человек…
Гукасов надел левую перчатку и встал.
– Я представил вам Михаила Николаевича именно для того, – с некоторым смущением заговорил
Мамонов, – чтобы вы убедились… Подготовительный период кончился и мы приступаем…
В эту минуту загремели кольцами и как в театре распахнулись драпировки, появились князь Карачаев,
Леля с кофейником на подносе и Нико.
– Обижаешь меня, Язон Богданович, аллахом клянусь, обижаешь меня…
– Что делать, князь, сам понимаешь, дела. В другой раз, князь, в другой раз…
Шуршащий кредитный билет мелькнул в воздухе и пропал в широком рукаве черкески Карачаева.
– Барышня, на минуточку, – продолжал Гукасов, повернувшись к Леле, – позвоните в среду или в
пятницу, от четырех до пяти мне в контору Элизэ 23-70, – и потрепал ее по щеке. – Может быть, повеселимся.
Мамонов и Печерский встали. Господин Гукасов взбежал на площадку лестницы.
– Желаю вам успеха, полного успеха, молодой человек! До свидания, господа.
– Ну-с, так, – сказал несколько обескураженный Мамонов, – поскольку мы в одиночестве, я должен
серьезно поговорить с вами, Миша. Я навел справки, я кое-что знаю о вас, и к сожалению… Эти истории с
казенными суммами… Впрочем, оставим.
– Именно, оставим это, – несколько странным тоном сказал Печерский. – Потому что если я
припомню некоторые страницы из вашей биографии…
– Мы, прежде всего, политические деятели, а затем люди. Кто-то, кажется Наполеон, или Талейран,
сказал, что наше дело нельзя делать чистыми руками, – мечтательно произнес Мамонов.
– Ваше превосходительство, – с угрюмой откровенностью перебил Печерский. – Вы полагаете, что я
рожден быть шулером, альфонсом и чорт знает чем… Может быть, я смотрю на эту поездку, как на искупление,
как на подвиг.
– Верю, Михаил Николаевич, – заторопился Мамонов, – на этом мы и кончим. Завтра вы
ознакомитесь с инструкцией. Затем явки, пароли, шифры. Вы понимаете, насколько это важно. Мы отдаем в
ваши руки преданнейших, мужественных людей по ту сторону границы. Нет ли у вас личных связей?
– У меня в России жена. Святая женщина.
– Хорошо. На этом пока кончим.
Мамонов встал и протянул Печерскому руку.
– Значит – завтра.
Печерский медленно допил рюмку и взял со стола потухшую сигару. Сигару ему дал Гукасов и
Печерский внимательно посмотрел золотую, бумажную ленточку, ярлычок на сигаре, щелкнул языком и
подумал вслух: “Анри Клей. Гаванна. Вот стерва…”. Затем бережно спрятал сигару в бумажник. Вошел
меланхолический Нико с подносом и убрал рюмки. Он поднял бутылку, посмотрел на свет и сказал мимоходом:
– Слыхал, “Чикаго” закрыли?
– Вранье.
– Какое вранье – я сам был. Человек застрелился – полис криминель закрыла. Есть новое место
“Вальпорайзо”, на рю Виктуар. Рулетка, макао, бакара. Средняя игра. Заходи ночью – покажу.
– Нема ниц, – коротко сказал Печерский.
Пробежала Леля и крикнула:
– Князь зовет! Гости в пятой сакле!
– Погоди, – вдруг окликнул Печерский и поймал Лелю за локоть. Она посмотрела круглыми, серыми,
на выкате, глазами.
– Дай сто франков! – сердито сказал Печерский и взял у нее из рук сумочку. Она смотрела на него, не
мигая, жалко и растерянно, полуоткрыв рот. Печерский нажал замок, открыл сумочку и взял кредитный билет.
– Все? – вдруг спросила Леля.
Печерский взглянул на нее, как бы вспомнив, поцеловал ее в лоб и, слегка толкнув ладонью, отвернулся.
Он неподвижно стоял перед зеркалом, пока не услышал шорох шелковых шальвар и деревянный, удаляющийся
стук каблучков по ступеням. Тогда Печерский спрятал деньги в карман, поправил галстух и побежал вверх,
легко прыгая через три ступеньки.
– Ва, – сказал не удивляясь Нико, – ва, ай молодец!
V
Будильник покачнулся, коротко затрещал и выдохся.
Павел Иванович поморщился, зашевелился, но не открыл глаз. Не разжимая век, он как бы видел
знакомый пейзаж за окном, нагроможденные до горизонта высокие, горбатые кровли и высокую, железную
дымовую трубу, делившую этот пейзаж вертикально надвое. Будильник слабо тикал у изголовья постели. В
коридоре капало из водопроводного крана, и капля за каплей стучала в чугун раковины. За тонкой, деревянной
перегородкой, зазвенела сетка кровати. Человек перевернулся и его спина зашуршала о перегородку, рядом с
Александровым.
– Морис, – сказал человек за перегородкой. – Ты спишь?
– Нет, – ответил звонкий, мальчишеский голос.
– Проклятая привычка. Я просыпаюсь в шесть часов, ни на минуту позже. Это просто обидно в
праздник.
– Попробуй уснуть, дядя.
– Спасибо за совет. Меня не переделаешь.
Александров все еще лежал на спине. Он открыл глаза и с отвращением и скукой рассматривал грязно-
пестрые обои, хрупкий столик с невымытой посудой, всю маленькую, узкую, чердачную комнату со скошенным
потолком. Еще четверть часа он неподвижно пролежал на спине. Тикали часы и сквозь стекла в комнату бился
уличный шум – разноголосые автомобильные гудки и длительный гром грузовиков. Надо вставать.
– Русский уже ушел? – спросил голос за стеной.
– Вероятно. Он уходит в начале седьмого.
– Даже сегодня?
– Сегодня тем более.
– Но сегодня-праздник.
– Не для каждого, дорогой мой, не для каждого.
– Марсель сказал, что у них никто не работает.
– Русские будут работать.
“Русские будут работать”, шопотом повторил Александров. “Русские будут”.
Он с силой поднял голову от плоской, сбившейся подушки и сел на кровать.
– Он – у себя. – Сказали за стеной.
– Слышу.
– Дядя Поль, – спросил, кашлянув Александров. – Сегодня вы дома?
– Нет, – ответил голос за стеной. – Я и Морис едем в Иври.
Александров протянул руку и взял вытертые, бархатные штаны. Затылок Александрова был налит свин-
цом. Серая муть плавала перед глазами и челюсти были точно сжаты тисками. Он вернулся в четыре часа утра и
спал только два часа. После преферанса у Киселевых весь остаток ночи ему снилось одно и то же – номер в
скверной гостинице, облако табачного дыма и засаленные, помятые, с загнутыми уголками, карты.
– Мрак, – прошептал Александров, – мрак.
Он опустил голову на подушку. Скошенный потолок с желтыми подтеками вдруг сдвинулся в сторону и
зарябил мелкой рябью. Александров закрыл глаза и опять услышал сырой, ноющий голос мадам Киселевой.
– У нас говорят, что вы отпали от православия, – что вы чуть ли не масон. Ваша рука, Павел
Иванович…
– Пасс.
И опять он увидел желтое, высохшее лицо Киселевой и лысый, восковой череп генерала Киселева,
красные распаренные лица игроков и мятые, с загнутыми уголками, карты… Затем все расплылось и пропало и
дальше был тяжелый и душный сон. Будильник тикал у изголовья и часы показывали десять, когда Павел
Иванович снова открыл глаза. За стеной было совсем тихо. Уличный шум бился в окно и сотрясал комнату.
Павел Иванович вскочил, взглянул на часы и, зажмурив слипающиеся веки, оделся ощупью. Одиннадцатый час.
Он опоздал в мастерские. Прогул в такой день, когда каждый русский на счету, когда работают только
русские. Как можно объяснить? Болезнь? Кто поверит. Почему именно в этот день, почему первое мая, когда
русские сами вызвались работать вместо обычной ночной смены. Он запер комнату на замок и побежал по
узкому коридору, похожему на полутемные переходы палубы третьего класса на океанском корабле. Каждый
этаж дома состоял из одиннадцати комнат-кабинок. В каждом этаже пахло светильным газом, кухней и
маргарином. Он сбежал по узкой, темной деревянной лестнице и из сырости и мрака старого, осевшего дома
вышел на улицу.
Небо сияло над ним глубокой и трогательной голубизной и чуть светлело по краям, у горизонта. В
воздухе была мягкая теплота и, вместе с тем, прохладная свежесть, как бы от дыхания океана. Газолин
автомобилей, испарения бензина не успели убить нежную, прозрачную зелень деревьев. Солнце дробилось и
пылало в эмали машин, в спицах велосипедных колес и в зеркальных витринах.
Александров шел под каменными арками окружной железной дороги. Тени арок ложились правильными
полукругами на асфальт мостовой, арки уходили вдаль, в перспективу и Александрову казалось, что ему
пятнадцать лет, что он идет по длинному, согретому солнцем коридору гимназии и что в его жизни все еще
можно изменить и начать по-новому.
В маленьком ресторане, на углу улицы, он увидел Поля и Мориса. Они завтракали. Поль был в
белоснежном воротнике и вишнево-красном галстухе. Он был гладко выбрит, седые пышные усы были
аккуратно подстрижены. Серая, мягкая шляпа лежала на стуле перед ним.
– Добрый день, – сказал Поль и убрал шляпу. – Вы где работаете сегодня?
– Я проспал.
Поль подмигнул племяннику, допил светло-золотистое вино и вдруг засмеялся, обмахиваясь салфеткой,
как веером.
– Что же вы скажете в мастерских?
– Не знаю.
– Русские сами вызвались работать, а вы не пришли.
Морис повернул к Александрову острую, румяную мордочку и сказал:
– Сегодня нельзя работать. Сегодня первое мая.
– Послушайте, мсье Павел, – сказал Поль, поднося ко рту свежую, политую уксусом и маслом, зелень
салата. – Послушайте меня. Вы работаете почти пять лет. Не знаю, кем вы были у себя на родине, но здесь вы
заслужили эту вытертую, промасленную блузу и штаны. У вас настоящие рабочие руки, вы получаете те же
двести франков в неделю, что и я. И хозяина вы любите ничуть не больше, чем я. Ваши приятели белые русские
решили работать сегодня. Это вызов нам, вызов нам, но чорт с ними. Если вы не пошли за ними потому, что у
вас под вашим кэпи есть мозги – поздравляю вас. Идите до конца. Возьмем метро и поедем вместе в Иври на
митинг. Или вы боитесь?
– Не знаю… Не думаю… – вяло сказал Александров.
По тротуару, парами как институтки, прошли восемь затянутых в узкие мундиры полицейских. Они
остановились как бы в раздумьи на перекрестке.
– Я надел новый костюм и шляпу, – вдруг развеселился Поль, – будет жарко, если они сунутся на
митинг.
– Они сунутся, – убежденно подтвердил Морис. – Помнишь, в прошлом году…
Поль расплатился и встал.
– Прощайте. Подумайте. Никогда не поздно сообразить, где правда. Не так ли? Конечно, вам трудно. До
свидания.
Они ушли и Морис старался шагать в ногу с дядей Полем.
Еще несколько мгновений Александров сидел неподвижно и рассеянно смотрел в небо. Хозяин за
стойкой вопросительно взглянул на него. Александров встал и медленно пересек улицу. У станции подземной
дороги он остановился. Взвод республиканских гвардейцев проходил по площади. Медь пуговиц, сталь оружия,
лакированные белые пояса нестерпимо сияли на солнце. Александров медленно спустился по ступеням под
землю. Он взял билет и вышел на платформу подземной дороги. Под землей была сухая и прохладная ночь.
Электрические огни отражались в фаянсовых плитках тунелей. Метром ниже платформы проходили тройные
линии рельс, тускло светились на закруглениях и уходили в темную пасть тунеля.
– Как же быть, – устало думал Александров. – Как же быть? Он не совсем прав, но, может быть, и я не
прав. Я давно чужой Киселевым, Мамоновым, однополчанам, спекулянтам, комиссионерам, банкирам, ка-
батчикам. Дорогие соотечественники, я чужой, но разве я свой для дяди Поля и Мориса и для русских Морисов
и Полей, в России. Я был офицером, носил погоны и темляк, но с этим кончено навсегда. Теперь на мне кэпи и
бархатная блуза и руки у меня в копоти и мозолях. С кем мне итти?
С жужжащим гулом и сквозным грохотом, сверля воздух, подошел поезд подземной дороги. Юноши с
красными гвоздиками в петлице перекликались с девушками и смеялись так, как могут смеяться в Париже.
Запел рожок кондуктора. Хлопнули дверцы вагонов, поезд с места рванулся вперед и пропал в черноте тунеля.
Александров все еще стоял на платформе и смотрел на тройные линии рельс. Три стальных рельсы, по
средней бежит смертоносный ток. И он вспомнил, как на станции Трокадеро, в двух шагах от него, молодая
женщина бросилась на рельсы, как ее скрутило, охватило лиловым огнем и подбросило и вокруг запахло
палеными волосами и горелым мясом.
И вдруг он понял, что рельсы неудержимо притягивают его. Он вздрогнул, съежился, и повернулся к ним
спиной. Под землей была ржавая духота и ночь, с которой слабо боролось электричество. На земле, над ним
было солнце, зелень и алые гвоздики.
Куда же итти рабочему завода Ситроэн, бывшему полковнику Александрову? Куда?
VI
Четвертый день Печерский в Москве. Он ходит по московским мостовым и дышит московской пылью.
После Парижа странно, что вокруг говорят по-русски и почти все одеты в блузы с отложными воротниками,
грубые ботинки и сандалии. Правда, встречаются молодые люди в диких вязаных жилетах и полосатых
галстухах, девицы в линялых шарфах и розовых чулках, но разве могут здесь понимать грань между элегантной
эксцентричностью и грубым, дикарским вкусом. Какое падение, какой мрак, после Больших Бульваров.
В первый же день Печерский купил себе кэпи и блузу с отложным воротником. В чистом, но неудобном
номере гостиницы он долго рассматривал себя в зеркале и с удовольствием заметил, что отличается от тысячи
людей в толстовках и кэпи, которых он встречал на московских улицах. В сотый раз он рассматривал голубые,
бесцветные глаза, выдвинутые скулы, лысеющий череп и неуловимую презрительную гримасу у губ. В общем
он был доволен тем, что он не похож на москвичей, что он чужой в Москве. На улицах он радовался тому, что
извозчики одеты в рваные армяки, и совсем жалкий вид имеют ободранные извозчичьи дрожки. И это после
затора великолепных машин на площади Оперы. Печерский проходил мимо витрин магазинов. Зеркальные
стекла отражали презрительную гримасу гражданина Печерского. Все вокруг выглядело бедно, но удивительнее
всего, что здесь бедность не скрывали как в Польше, наоборот, бедность выглядела очень независимо и гордо.
В ресторанах Печерский заметил и запомнил грязноватые скатерти, плохо вымытую посуду и грязные
фартуки официантов. Все это злило и вместе с тем радовало Печерского, он радовался, когда видел небрежность
официантов, грубость продавцов, радовался, когда встречал пьяных, нищих и проституток. Все это разжигало
его ненависть и злобу к этому городу и стране и укрепляло в его решении. Даже дети в красных галстухах
распаляли его злобу. Однажды он увидел эскадрон кавалерии на сытых и гладких конях, услышал военный
марш и долго не мог понять чувств, которые боролись в нем. Он сразу оценил и одобрил всадников и коней и
смотрел на них без особой недоброжелательности, но с некоторой завистью. Зависть обратилась в ненависть и
злобу, от которой начинаются перебои сердца, и во рту горечь и желчь. Затем он решил не отвлекаться, не
раздражаться и действовать как советовал в Париже Мамонов, с холодным расчетом, осторожностью и
вниманием к мелочам. Он не торопился с явкой, в инструкции было сказано, что надо прежде всего убедиться в
том, что за ним не следят. Он оставил некоторые пустяковые бумаги и записки в ящике стола, отметив
карандашом их расположение. Он разместил вещи в чемодане так, чтобы сразу можно было заметить, если бы
кто-нибудь рылся в вещах. Никто не тронул ни его бумаг, ни вещей. Коридорный и горничная не проявили ни
внимания, ни любопытства к Печерскому. Из конторы Печерскому вернули удостоверение личности. Документ
был хорошо сделан и не внушал подозрения, – “член профсоюза, уполномоченный Саранского кооперативного
склада, Семен Иванович Малинин”. Тогда Печерский решил итти на явку к “Серому”. “Серый” – человек, на
которого полагался Мамонов, “наш мужественный и смелый единомышленник”. Но прежде чем итти к
“Серому”, Печерский решил использовать письмо Татьяны Васильевны Поповой, письмо матери Лели. Адрес
был такой: “Москва, Арбат, Николаю Васильевичу Мерц”. Номер дома Татьяна Васильевна не знала. Печерский
поискал в справочнике “Вся Москва” и в алфавитном указателе нашел: “Мерц Н. В., профессор, инженер,
начальник Н-ского строительства”, телефон и подробный адрес.
– Оч-чень хорошо, оч-чень хорошо, – дважды вслух сказал Печерский и захлопнул книгу. Он позвонил
по телефону и услышал женский голос.
– Вас слушают. Кто говорит?
– Можно Николая Васильевича? По личному делу, товарищ, – твердо сказал Печерский. – У меня
письмо Татьяны Васильевны Поповой.
– Николай Васильевич будет в восьмом часу. При ходите.
– Я имею честь… – начал Печерский, но услышал короткий, легкий треск и понял, что положили
трубку.
В семь часов вечера он подходил к новому, недавно отстроенному дому. На лестнице пахло сырой
известкой и масляной краской. Печерский посмеялся над квадратными окнами и незатейливыми казарменными
кубами фасада. Он поднялся на третий этаж, нашел квартиру и позвонил. Смуглый, как цыган парень, с
черными как тушь, подстриженными усами, открыл дверь Печерскому. На коричневой суконной рубашке
серебром и алой эмалью блестел орден.
– Товарищ Мерц назначил мне… – начал Печерский. Парень не дослушал и повернувшись спиной к
Печерскому пошел по коридору. По тому как он шагал по коридору, как держал голову, Печерский угадал
бывшего военного.
– Идите в кабинет, – сказал не оглядываясь парень, открыл дверь слева и прошел дальше. Печерский
вошел в небольшую комнату, стены которой состояли из книжных полок. Чертежный стол и маленькое бюро
занимали две трети комнаты. На столе лежала груда раскрытых английских и немецких книг и связка картонных
и жестяных трубок – футляров для чертежей. Во всем, однако, был порядок и чистота. На корешках книг не
было пылинки, цветные карандаши и перья лежали на столе разноцветным полукругом. Печерский осмотрелся
и увидел, что в комнате не было ни одного стула. В узкой щели между полками он нашел дверь. Он решил
попросить стул, но прежде чем войти в соседнюю комнату в некоторой нерешительности он остановился на
пороге и услышал женский и мужской голоса. Женский голос показался ему знакомым.
– А что если я подойду к нему и скажу: “Николай, дело в том, что Митин мой любовник”. А вы стоите
тут же рядом как пень и думаете. Вот он расстроился, а у нас два заседания и доклад, и как он доклад будет
после этого делать… Вообще вы боитесь…
– Ничего я не боюсь, – услышал Печерский и понял, что это говорил цыганского типа парень, который
открыл ему дверь, – ничего я не боюсь, что ты путаешь. Если бы не всякие обстоятельства, взял бы я его за
руку и сказал: “Так мол и так, я ее люблю. Не поминайте лихом”. Только и всего…
В эту минуту затрещал короткий и резкий звонок. Печерский отступил на шаг от двери. Кто-то вышел в
коридор, открыл входную дверь и сказал вполголоса:
– Николай Васильевич, вас ждут в кабинете.
– Почему в кабинете? – спросил другой глуховатым, ровным голосом. – Там чертежи и бумаги.
Совершенно напрасно в кабинете.
– Я все запер.
Печерский успел отойти к окну и присесть на подоконник. В комнату вошел невысокий, седой и бритый
человек в белоснежном воротнике и синем галстухе, очень аккуратно, даже с некоторым щегольством одетый.
– Товарищ Мерц? Николай Васильевич? – наклоняясь вперед, спросил Печерский и подумал не
слишком ли часто он, Печерский, употребляет слово “товарищ”.
– Здравствуйте. Давайте сядем, – сказал Мерц, но увидел, что в комнате нет стульев, присел на
подоконник. – Вы от Татьяны Васильевны? Когда вы ее видели?
– Недели две назад, Николай Васильевич. У них все попрежнему.
Печерский достал из бумажника письмо и отдал Мерцу.
– Собственно говоря, это не мне. Это – Ксане. – Прочитав адрес, негромко сказал Мерц.
– Я, так сказать, желал бы повидать Александру Александровну. Татьяна Васильевна кое-что просила
меня передать на словах…
– Да, сейчас… Ксана! – позвал Мерц. – А вы давно здесь, в Москве?
– С неделю… – ответил Печерский, услышал шорох и обернулся. Между книжными полками стояла
женщина.
Были летние, белесоватые сумерки. В комнате было серо и полутемно. Женщина показалась Печерскому
грубоватой и мужеподобной.
– Вот Ксана, – сказал Мерц, – вот гражданин Печерский. Он из Парижа. От Татьяны Васильевны и
Лели.
Она подошла к Печерскому и протянула руку.
– Здравствуйте. Ну, как мама?..
“Голос”, чуть не вскрикнул Печерский, “тот же голос, что рядом в комнате…” – подумал он. “Вот оно
что…”
– Татьяна Васильевна в отчаянии. Она писала вам. Никакого ответа, – быстро заговорил он, думая о
другом: “стало быть она и есть Ксана, жена Мерца, сестра Лели. Кто же Митин?” – И Леля, то есть, Елена
Александровна тоже, – продолжал он, – она очень беспокоится. Она умоляет вас написать.
– О чем же собственно писать? – спросила Ксана, подошла ближе и взяла из рук Мерца письмо. – О
чем писать? – Теперь Печерский рассмотрел ее, она была высока ростом, стройна и женственна. Прямые,
светло-золотые стриженые волосы, высокий лоб, ровный нос и как бы припухшие розовые губы. “Да, не
Лелька, не пиголица, похожа на казачку, хороший, русский тип”, – подумал Печерский.
– В самом деле, написала бы. Подумают мое влияние, – сказал Мерц.
– При чем тут вы, Николай Васильевич… При чем тут вы?..
“Голос приятный и рот… Особенно рот… А кто же Митин?.. Тот цыган, что ли?.. Вот оно что…”
– Десять лет не шутка. Я и не знаю что им писать. Уж очень они старомодны. Леля пишет какую-то
чепуху о скачках в Довиле. Мама о панихиде на могиле отца. Да и могилы, вероятно, никакой нет —
спланировали, кажется, так это называется…
– Простите, мне не совсем удобно, – осторожно вмешался Печерский, – все-таки Татьяна Васильевна
– вам мать, и Леля сестра…
– Оставьте, ради бога!.. Мать!.. Они ж не задумались бросить меня здесь, оставить на руках выжившей
из ума приживалки, тети Ани. У меня был тиф, я умирала с голоду, и умерла бы если бы не стучала на машинке
в музыкальном отделе. А они бегали из Ростова в Кисловодск, из Кисловодска в Тифлис, из Тифлиса в
Константинополь и Загреб, и дальше. Я понимаю, им не сладко жилось, но они же успокоились, когда были
уверены, что я умерла. Ну пусть бы и думали дальше. И совершенно напрасно Николай Васильевич пошел к