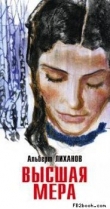Текст книги "Высшая мера"
Автор книги: Лев Никулин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– Где ты видел королеву? – спросил Витович.
– В Гааге, в Голландии и на Суматре. У королевы Суматры на шее висели высушенные пальцы с
ногтями. А у королевы из Гааги – жемчуг.
– Это не “poule”, – задумчиво сказал Витович. – Ты промахнулся.
– Как ты в тире сегодня?
– В конце концов я понял.
Внезапно потух свет. Прожектор сбоку осветил танцующих и плоские, точно вырезанные из картона
силуэты, подергиваясь, проходили мимо Витовича.
– Я рад, что встретил тебя. – сказал Мишель. – Мы дружно жили на “Руане”. Затем агент оставил
меня в Сэн-Назер. Когда ты ушел с “Руана”?
– Я остался в Бергене.
– Почему в Бергене?
– Берген – нейтральный порт. Слава богу Норвегия не воевала. Мне надоело возить снаряды и ждать,
пока нас отправят к рыбам.
– Но ты же был мобилизован?
Витович пожал плечами. Зал осветили и музыка перестала играть. Ниеса вернулась, придвинула свой
стул к стулу Витовича и положила руку на его плечо.
– Что же ты делал дальше?
– Жил. Я много ездил по северу с китобоями. Я был в Швеции, в Финляндии и России.
– В России?
– И в России, конечно.
– Это было в те годы?..
– Именно в те годы. – Витович повернулся к женщине. – Хочешь еще грогу?
– Нет, мне тепло. Мне жарко. – Она посмотрела на него и улыбнулась. Это была печальная и злая
улыбка. – Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?
– Куда? – спросил Витович. Она погладила его волосы, мягкие, светлые волосы северянина, затем
наклонила его голову и приложила густую жесткую черную прядь к волосам Витовича.
– Ты выиграл? – сердито сказал Мишель. – Поздравляю.
И он постучал кольцом о мрамор стола.
Ниеса обнимала Витовича за шею. Ее горячая, широкая ладонь касалась его лба. Никто не глядел на них.
За другими столиками тоже обнимались, пили и смеялись.
– Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой? – металлическим и немного глухим голосом спросила Ниеса.
Она взяла руку Витовича. Белые и коричневые пальцы переплелись.
– Может быть у тебя нет денег?
Витович отнял руку.
– Я пойду танцовать, – сказала она и встала. Красивый солдат пошел ей навстречу.
– Возьми ее, – сказал, как бы про себя Мишель, – должно быть она очень хороша.
Опять потух свет. Сверху с потолка спустили граненый зеркальный шар. Прожектора с двух сторон
ударили в шар и отраженные лучи разбрызгались по потолку и по стенам и солнечные зайчики поплыли в
воздухе по людям и предметам, как радужные мыльные пузыри.
– Подлая жизнь, – задумчиво сказал Витович. Он искал в этой полутемноте африканку и не находил. —
Подлая и продажная жизнь. Я говорю тебе, что это хорошая женщина. Я вижу. Не смейся. Ей двадцать лет, не
больше двадцати. Каким ветром занесло ее сюда? Жестокий и злой ветер. Через пять лет она будет старухой.
Подлая жизнь…
– Так говорят глупцы и неудачники. Я доволен жизнью.
Мишель улыбался. Его красные пухлые губы двигались в темноте, как набухшие пиявки. Радужные
зайчики на стенах и потолке на миг остановились и потухли. Горячая рука легла на плечо Витовича. Он
чувствовал ее жар сквозь сукно пиджака.
– Пойдем.
– Надо, чтобы ты пошел с ней, она потеряла время.
Витович посмотрел на Мишеля, потом на женщину.
– Ты потеряла время?
Они встали из-за стола. Ниеса придвинулась к Витовичу.
– Я не возьму денег. Я хочу, чтобы ты пошел со мной. Пусть он уходит. А ты пойдешь со мной.
Они поднялись по лестнице и вышли на улицу. Двое полицейских стояли у выхода, как кариатиды.
Витович и Ниеса прошли, задевая твердые края их клеенчатых плащей. Сзади шел Мишель и слушал, как
шептались двое впереди.
– Сегодня невозможно.
– Слушай, – говорила она, – я не могу много сказать. но я понимаю много. Я хочу быть с тобой долго,
день и ночь, много дней и ночей. Я хожу ночью по городу, потому что не могу быть одна. Мне страшно.
Она наклоняется к нему и прижимает жесткие, черные, как тушь брови к его бровям и губы к его губам.
Он чувствует жар, поглощающую упругость ее груди, силу и вместе с тем изнеможение и нежность самой
прекрасной женщины, которую он встретил на земле.
II
Несколько узких и грязных улиц у вокзала Сен-Лазар названы в честь европейских столиц и похожи друг
на друга, как похожи отели и кафе на этих улицах. Нет никакой разницы между отелем “Шик” и отелем “Луна”,
и нет разницы между “рю де Виен” и “рю Будапест”.
Несколько маленьких, грязных отелей образуют “рю Будапест”. По деревянной скрипучей лестнице отеля
“Луна” поднимаются на третий этаж. Шесть дверей выходят в темный и узкий, похожий на продолговатый
ящик, коридор. Шесть дверей с номером, нарисованным масляной краской на каждой двери. В номере 26 между
двумя зеркалами сидит Витович и видит в треснувшем каминном зеркале наклонное отражение стены, окна и
кровати. Железные ставни открыты, окно выходит в темный колодезь и упирается в зеленовато-серую
облупившуюся стену. Здесь всегда темно и потому Витович не может определить конец ночи и начало нового
дня. Зеркало над карнизом камина и зеркало над кроватью повторяют друг друга и повторяют коричнево-
смуглые плечи и разбросанные, спутанные черные кольца волос женщины, которая спит на смятой постели.
Волосы на подушке лежат тяжело и неподвижно, как клубки смявшейся тонкой металлической проволоки. В
раскрытом шкафу, жалко, как смятые тряпки, повисли два платья, серебряные туфли стоят на карнизе камина,
поверх пустых флаконов и квадратных коробок пудры. Помада для губ и карандаши для грима разбросаны в
беспорядке и от них идет сладкий и густой запах дешевых конфект. Но здесь есть еще один запах, крепкий и
острый, – запах, вызывающий представление о крытых тростником базарах, подгоревшем на углях мясе,
прелых бананах и пряной и острой зелени юга.
Витович смотрит на часы. Они остановились и показывают четыре часа и двадцать две минуты. С этого
времени прошло может быть двадцать минут, а может быть два, три часа. Витович встает и с недоумением и
неловкостью смотрит на спящую женщину. Затем он идет к камину и рассматривает себя в зеркале. От
бессонной ночи под глазами желто-синие тени и в светло-серых, почти белых, зрачках муть и тусклость
усталости. Он морщится, укоризненно качает головой и еще раз осматривает бедную комнату, половину которой
занимает гнусная, широкая кровать и обои с дикими, сумасшедшими цветами, эту глупую и гнусную клетку, в
которой живет африканка, по имени Ниеса. И взгляд его опять возвращается к треснувшему каминному зеркалу
и вдруг он видит в щели между рамой и зеркалом лист желтоватой бумаги в формате письма, лист бумаги,
оставленный так, чтобы его видел каждый, вошедший в эту комнату.
Витович наклоняется и читает заголовок, написанный крупными острыми буквами:
“Моему преемнику”.
Немного ниже более мелкими буквами написано следующее:
“Дорогой неизвестный, вы пришли в эту бедную комнату и сегодня заменили меня. Вы – белый, из
любопытства или из прихоти взяли цветную женщину, и, вероятно, вы не захотите утруждать себя мыслями о ее
прошлом и о том, что же привело ее на бульвары. Если я вас угадал – то оставьте это письмо там, где вы его
нашли. Если же вы любопытны, если у вас острый глаз и вы умеете выбирать цель, читайте дальше…”
Витович подходит ближе к лампе под розовым бумажным колпаком. Он смотрит на спящую, не видит ее
лица и видит только слегка раздвоенный подбородок с бледно-зеленой черточкой татуировки. Он продолжает
читать, легко разбирая этот острый и слабый почерк:
“Я был неважным художником, у меня был туберкулез и я долго жил в Африке – в Алжире и Марокко. Я
много ездил по северу Африки, рисовал и продавал туристам головы кабилов, арабов и их женщин. Пять лет
назад я жил в Оране, в провинции, на границе, между французским и испанским Марокко. В Оране я увидел
женщину по имени Ниеса, которую вы узнали сегодня. Я увидел ее за решетчатыми воротами публичного дома.
Я увидел ее за решеткой и остановился, потому что она совершенно не похожа на этих несчастных, проданных
и запертых в клетки коров. (Вы видите, что я не сентиментален). Ниеса была из сумасшедшего пограничного
племени. Ее продали четырнадцати лет. Вернее ее обменяли на магазинную винтовку Снайдерс и пятьсот
патронов. Впоследствии эта винтовка и патрон вероятно, обошлись не дешево испанцам. Ниеса была
великолепна. Ее предлагали только богатым гостям, кроме того, она танцовала для туристов с живым удавом. За
месяц до этой встречи я продал богатому аргентинскому скотоводу тридцать одно полотно, тридцать один этюд
голых африканок. Я был почти богат и я выкупил эту женщину и ее удава из дома, о котором говорил. Пять лет
она, была со мной, она была моей подругой, моей женой, если вам угодно. И она будет ею до моего последнего
дня. Воздух и солнце Африки удлинили мою жизнь на несколько лет. Когда же воздух и тепло оказались
бессильными, я и Ниеса сели на пароход и поплыли в Марсель. Я хотел умереть в Париже, под парижским
небом, под небом Монпарнаса, хотя бы за столиком кафе “Дом”. Но, повидимому, я умру на этой широкой и
мерзкой постели, жесткость которой вы испытали сегодня сами. Мой дорогой незнакомец, если вы стоите
больше, чем обыкновенный бульварный волокита, если вы видите дальше и глубже, чем эти ночные филины в
моноклях, и фазаны в смокингах, будьте великодушны к подруге умершего художника, женщине по имени
Ниеса. Будьте великодушны к женщине, которая умеет думать о жизни и людях, любить и быть верной и
которой не осталось в жизни ничего, кроме тротуаров рю Пигаль и бульвара Роше-Шуар”.
Витович дочитал письмо и поднял голову и увидел отраженные в зеркале широко раскрытые глаза,
неподвижные, черные, как антрацит зрачки и ресницы, загнутые кверху, как хлыст.
– Ты уходишь?
– Я приду.
– Ты придешь ночью в Буль Нуар – ты придешь? – спрашивает задыхающимся шепотом Ниеса. —
Дай мне память о себе. Память. – Ее пальцы цепляются за пуговицы пиджака и путаются в галстухе. Витович
опускает руку в карман. Он находит высохший, свернувшийся в трубку, фотографический снимок, фотографию,
снятую на бульваре. Ниеса берет снимок и, не глядя, прячет его в сумочку, прячет рядом с седой прядью волос,
перевязанной черным траурным крепом.
– Ночью, в “Буль-Нуар”.
III
Через два часа – светает. Облака раздвигаются и открывают бледную, слабо мигающую утреннюю
звезду. Две багровые полосы, одна над другой, вспыхивают на востоке. Разорванные клочья пара плывут над
виадуками, над светящимся чертежом рельс, над железным плетеньем семафоров и стрелок вокзала Сен-Лазар.
Первые утренние поезда уходят из Парижа на запад к океану и на юг к морю. В тоннеле метрополитэна с
жужжащим сквозным гулом пробегает шестичасовой поезд. День начинается и проходит по разному для
Витовича, Мишеля и женщины из Орана по имени Ниеса. Когда же приходит вечер и ночь, – пьяницы опять
расстреливают последние заряды в тирах, одни за другими останавливаются лодочки и золотые быки каруселей
и на бульваре Рошешуар опять пахнет жареными каштанами и горьким дымом бензина.
Ниеса спускается по лестнице в дансинг “Буль Нуар” и смотрит вниз сквозь алкогольный пар, и
пахнущий косметикой дым сигарет.
– Ниеса, – говорит ей гарсон с лицом посланника, – это направо в углу.
Красивый солдат и студент, одетый, как танцор из Фоли-Бержер, поднимаются с мест, но она проходит,
раздвигая танцующие пары и отстраняя руки, протягивающие ей бокалы. Она проходит в угол залы. На столе
рядом с рюмкой тускло-зеленого ликера лежит котелок и трость. Мишель показывает ей на стул рядом с собой.
Третьего стула нет и высокого человека с мягкими светлыми волосами тоже нет.
– Он не пришел? – спрашивает Ниеса.
– Гарсон, – говорит Мишель, – еще одну Тарагонь…
– Он не пришел? – повторяет Ниеса.
Улыбка раздирает губы Мишеля и маленькие глазки пропадают в глазных щелках.
– Он не мог притти. Но он ждет тебя.
– Где?
– У меня.
– Тогда – идем.
– Если хочешь…
Он стучит тростью о мрамор.
Площадь Пигаль сияет, как цирковой манеж, кафе и синема площади светятся, как ложи. Дальше они
едут по тихим улицам. Такси обгоняют их и пропадают, скрестив свои двойные, золотые огни с их огнями.
Зелено-золотым многоточием уходят на закруглении фонари. Отражения огней в мокром асфальте похожи на
плоские, изогнутые ножи янычаров. В темноте Мишель находит твердое и круглое колено, почти горячий от
тепла ее тела скользкий шелк платья. Розовый свет ночного кафе вдруг падает в темную коробку такси и
Мишель видит черные круги бровей и ресниц, но глаза закрыты. Руки ее лежат вдоль туловища и она сползает
по коже сидения и напоминает Мишелю какое-то отвратительное и вместе с тем привлекательное живое
существо. Они находятся на авеню Фридланд. Мраморный Бальзак в длинной, ночной рубахе, как театральный
призрак промелькнул в окне, и такси остановился. Мишель открывает своим ключом желтую, отполированную
дверь, еще одну дверь и пропадает в темноте. Затем щелкает выключатель. Это маленькая квартира холостяка.
Мебель, зеркала и люстра, и кровать под балдахином, все, как в других, таких же квартирах, в которых не
живут. Все здесь, как пятьдесят и семьдесят лет назад, когда сюда приходили дамы в кринолинах и мужчины в
сюртуках синего и зеленого сукна. На маленьком столике у камина бутылка тускло-зеленого ликера, виноград,
бананы и две рюмки.
– Однако, здесь не тепло, – говорит Мишель, – но мы зажжем газовую печь.
Он поворачивает рукоятку, подносит спичку, и синие у основания и белые вверху огоньки, струятся и
мигают в решетке камина. Затем Мишель уходит в туалетную комнату, слышно, как шумит вода, шипит
пульверизатор, Мишель возвращается в черной с зелеными разводами пижаме, от него пахнет горькими и
острыми духами. Ниеса сидит на ковре. Она сняла туфли и чулки и ее коричнево смуглые ноги упираются в
цветы и листья ковра, так как если бы это был горячий песок пустыни или твердая, обожженная глина – земля
Африки. Ниеса распускает волосы, наматывает тяжелые пряди на руку и оттягивает их назад. Мишель смотрит
на эту, вдруг ставшую плоской голову, и на стянутое черным шелком сильное, подтягивающееся к огню тело и
опять не понимает, почему эта женщина одновременно желанна и отвратительна. Она подползает к теплу и
плоская голова вдруг напоминает ему удава.
– Я не люблю цветных, – говорит Мишель и наливает две рюмки, – но ты другое дело. Ты – другое
дело.
– Когда он придет? – спрашивает Ниеса.
– Через пять лет, не раньше, – отвечает Мишель. Он медленно переливает зеленую жидкость из рюмки
в рот и смеется. Губы его раздирает смех. Ниеса наклоняет голову, обхватывает руками колени и черные зрачки,
не мигая, глядят в подернутые стеклом и влагой глазки Мишеля.
– Ты меня обманул. Он сказал, что придет.
Она качает голову из стороны в сторону, узел волос распадается и черные пряди падают на грудь и плечи.
– Я знаю людей, – говорит она звенящим, металлическим голосом, – я знаю людей, как знает собака
или лошадь. Он хороший человек. Человек, который привез меня сюда тоже хороший, но он много кашлял,
потерял кровь и умер.
Мишель бросает две диванные подушки на пол. Он берет с собой бутылку и две рюмки, долго выбирает
место и садится на ковер рядом с женщиной. Он наливает рюмку себе и женщине, следит за тем, как она пьет
маленькими глотками и вдруг ударом локтя выбивает у нее из рук рюмку, хватает ее за волосы и притягивает к
себе. В эту же секунду он падает на подушки, опрокинутый сильным ударом в живот.
– Животное, – задыхаясь шепчет Мишель, – ты сумасшедшая!
Она лежит на ковре, опираясь на руки и втянув голову в плечи.
– Животное, – говорит Мишель упавшим голосом, – проклятый удав… Я думал, что ты обыкновенная
“poule”, ты сумасшедшая. Стоило бы тебя за такие штуки выгнать назад, в колонии. Ты еще смеешься? – он
морщится и растирает живот, – ты смеешься? Посмотрим, как ты будешь смеяться, когда тебя поведут в
полицию. И я поговорю с тобой не как Мишель, а как господин старший инспектор Мишель Пти. Глупая тварь.
Он все еще тяжело дышит и гладит живот. Затем медленно поднимается с пола и идет согнувшись к
дивану.
– Можешь убираться. У меня нет охоты возиться с тобой.
– Я буду ждать его, – говорит Ниеса, придвигается к огню и смотрит в белые и синие огненные
ручейки.
– Дура. Жди, если хочешь. Тебе придется долго ждать. Не менее пяти лет во всяком случае.
– Почему ты сказал пять лет? Скажи, где он.
Она подползает к дивану и ловит его руку, пухлую руку с бриллиантом и сапфиром на безымянном
пальце.
– Животное, – успокаиваясь говорит Мишель, – если хочешь знать, он – в тюрьме.
Он видит черные остановившиеся, непроницаемые как антрацит, зрачки и пробует улыбнуться:
– Пять лет он получил за дезертирство. Затем он приехал из России – это тоже чего-нибудь да стоит. Ты
этого не понимаешь, глупый зверь.
– Пять лет, пять лет, – повторяет Ниеса, – я не могу ждать пять лет. Мне девятнадцать лет. Через пять
лет я уже не буду здесь…
– Ты будешь в Бресте или в Шербурге. Или в Марселе, в Старом порту, в доме за пять франков.
Короткие пальцы Мишеля цепляются за ее платье. В узких щелках слабым, зеленоватым отблеском
вспыхивают глазки, но сразу потухают.
– Надо ждать утра… Как жарко. – Мишель протягивает руку, ощупью находит рукоятку газовой печи.
Белые и синие ручейки огня гаснут, как срезанные бритвой. Ниеса лежит на полу и глядит вверх в стеклянную
бахрому люстры.
– Кто же это сделал, – говорит она задумчиво и протяжно, – кто?
Мишель лежит на спине и тоже глядит в потолок. От тепла и густого и крепкого ликера его разбирает сон.
Зачем он привез эту женщину?
– Кто же это сделал?
– Кто-нибудь да сделал. Он дезертир.
– Это сделал ты, – покачиваясь говорит Ниеса. – Ты сам сказал, что служишь в полиции. Это сделал
ты.
– Он сам виноват, – невнятно бормочет Мишель. – Со мной промахнулся, уверяю тебя. Я понимаю,
что такое долг! Наши койки были рядом на “Руане”. Но долг прежде всего. Я не тот, за кого он меня принял.
Тоже ложный прицел. Он промахнулся.
Колокольчик каминных часов ударил три раза. Мишель лежал с закрытыми глазами. Ниеса смотрела в его
красное влажное лицо. Он засыпал, сложив руки на животе. Он засыпал своим привычным мертвым сном.
Ниеса встала. Она нашла свои чулки и туфли. Она надела их медленно, не торопясь, сильно натягивая чулки.
Затем положила руки на бедра и подошла к Мишелю. Он спал, всхрапывая и брезгливо оттопыривая губы.
Несколько мгновений она смотрела на него, медленно покачиваясь из стороны в сторону. И в эту минуту она
походила на удава, удава, свернувшегося кольцом и медленно раскачивающего тяжелую, плоскую голову. Затем
Ниеса прошлась по комнате. Слабо тикали часы. В туалетной комнате тоненькой струйкой бежала вода. Она
подняла с ковра свое пальто и подошла к окну. Железные ставни с прорезами были плотно закрыты. Она
задернула драпировки. От остывающей газовой печи в нише камина шла последняя теплота. Ниеса подошла к
печи и протянула руки, согревая пальцы этим последним теплом. Затем она нашла рукоятку печи и сильно
повернула ее. Кислый, тяжелый, металлический запах газа ударил ей в ноздри, она отшатнулась, закрыла лицо и
бросилась к дверям. В передней Ниеса тихо и плотно закрыла дверь, задернула драпировку и нашла задвижку
выходной двери.
По улице она шла не торопясь, остановилась у газового фонаря и вынула из сумочки свернувшуюся в
трубку фотографию. Это был скорей фотографический курьез. Нос и брови Витовича удлинились до
неестественных размеров, но брови и освещенные вспышкой магния глаза смотрели, как живые. Дальше, вне
фокуса, можно было рассмотреть квадратный лоб и толстые губы Мишеля.
В маленькой квартире холостяка спал Мишель и этот сон скоро будет сном мертвого. Волна газа,
тяжелый металлический запах, шел из печи. Серая мышь выбежала из-под складок портьеры, слабо заметалась
и затихла, как серый комочек, на цветах и листьях ковра. Мишель застонал, но не шевелился. Ему снился удав,
тяжелые сжимающиеся кольца и плоская голова удава.
Еще не светало, но осенние густые облака раздвинулись и утренняя звезда слабо блеснула в синем
просвете над черно-серым массивом Триумфальной арки.
Е Л И С Е Й С К И Е П О Л Я
I
Артур Ричель приехал в Париж в среду, в шесть часов вечера, и остановился в отеле “Клэридж”. Уже
неделю в отеле жили Фолл и Блэкбёрд. Фолл дал короткое интервью журналистам. Было опубликовано, что
Артур Ричель собирается строить заводы в одном государстве Средней Европы, что в Париже состоится ряд
деловых свиданий, что Ричель совершит прогулку в автомобиле по югу Франции. Газеты воспользовались этим
интервью, чтобы сообщить новые данные биографии Артура Ричеля, сумму подоходного налога, уплаченного
им в прошлом году, и чистый доход Артура Ричеля в год, месяц и секунду.
Блэкбёрд имел совещание с шефом отеля “Клэридж”, выбрал апартамент в бельэтаже для самого Артура
Ричеля и шестнадцать комнат в третьем этаже для сопровождающих Ричеля. Далее он сообщил в гараж, что
вместе с мистером Ричелем на пароходе следуют два автомобиля со штатом шоферов и механиков. И таким
образом, в среду, в шесть часов вечера, собственная машина и шофер доставили Артура Ричеля с вокзала Сен-
Лазар в отель “Клэридж”. Мальчики в красных куртках, расшитых позументами и пуговицами, выстроились в
вестибюле отеля. И шеф встретил Артура Ричеля у входных дверей. Несколько элегантных дам прогуливали
своих собачек на тротуаре у входа в отель именно в тот момент, когда приехал Ричель. Но Ричелю было
шестьдесят шесть лет, он не обратил никакого внимания на дам с собачками и, спрятав нос в шарф, сказал
мистеру Фолл:
– Я схватил насморк в океане.
Он не сказал ни слова больше, и двадцать репортеров в негодовании покинули отель. Фолл предложил им
притти в субботу, между тем, в пятницу утром Артур Ричель должен был выехать в Ниццу.
В среду утром торговое представительство Советского Союза переслало Ивану Андреевичу Донцову
письмо. На четырехугольном продолговатом картоне в левом углу было напечатано “Артур Ричель”. Внизу
круглыми разборчивыми буквами было написано по-английски:
“Дорогой сэр!
Окажите честь позавтракать со мной в четверг в отеле “Клэридж”. А. Р.”
В четверг, в половине первого, Иван Андреевич Донцов и Миша Тэрьян находились еще в Луврском
музее. Они стояли у картины Делакруа “Резня в Хиосе”, и Миша рассказывал о бакинской резне в
восемнадцатом году.
– Иван Андреевич, – вдруг вспомнил Миша Тэрьян, – половина первого. Пора.
Однако Донцов хотел показать Мише портрет республиканского генерала и посла конвента в Мадриде,
написанный художником Гойя в 1796 году.
– Военком! – восклицал Донцов. – Прямо военком!
Они вышли из Лувра в час без четверти. Обоим хотелось пройти пешком под Триумфальной аркой
Карусели и дальше Тюльерийским садом до Елисейских полей. День был душный и теплый, в такой осенний
день Париж запоминается навсегда. Но был поздний час, они сели в такси, и Миша Тэрьян смотрел по сторонам
широко раскрытыми, блестящими глазами и запомнил черный от времени фасад Лувра, зеленый газон и
розовый, как бы живой, мрамор арки короля Людовика. Донцов хвалил камень, из которого строился Париж.
“Вот камень, с годами все крепче и чернее. Крупный камень, потому и дома скоро строятся. Затем обрати
внимание – леса легкие, тонкие, как спички. Все дело в подъемнике”.
Железный подъемник медленно ворочался на крыше строящегося дома, подтягивал и двигал в воздухе
обтесанные белые, как пиленый сахар, каменные глыбы. Донцов и Тэрьян следили за подъемником, но такси
повернул на набережную, и они поехали вдоль тихого течения глубокой и медленной реки. Чистенький, новый
буксир тащил широкую, белую баржу. На корме баржи – домик, каюта, похожая на деревенский домик.
Человек в длинной, до колен, блузе поливал цветы, и тут же дети играли с собакой. Тучи автомобилей двигались
по обоим берегам реки, и оттого еще удивительнее казались деревенский французский домик и деревенская
идиллическая жизнь на барже. Колонна машин повернула на площадь Согласия, и здесь машины разбежались,
рассеялись в разные стороны, огибая обелиск и фонтаны. Но автомобиль, в котором ехали Донцов и Тэрьян,
втиснулся в новую колонну машин и покатился по Елисейским полям. Широкая асфальтовая полоса улицы
походила на застывший морской канал. Зелеными берегами подступали скверы к самому асфальту, и тротуары
походили на набережную. Этот асфальтовый канал точно прогибался под тяжестью тысяч машин, и только в
самом конце дуга улицы выпрямлялась и поднималась вверх. Здесь Елисейские поля завершала серая
кубическая арка с голубым и чистым просветом внутри, как будто тут кончался город и дальше была голубая
даль, а не другие улицы и другие дома. У Ронд Пуэн задержал конный полицейский. Пешеходы, перепрыгивая с
островка на островок, медленно переходили широкую, обмелевшую реку улицы. Миша Тэрьян держал перед
глазами часы и тихо ругался. Стрелки пододвинулись к часу. За Ронд Пуэн улица менялась. Зеркальные витрины
автомобильных магазинов отражали и повторяли солнце. Саженные буквы реклам отвоевывали каждый
свободный метр фасадов и футляры строящихся домов. Люди совершенно бесцельно бродили по тротуарам и с
рассеянным видом сидели на верандах кафе.
– Здесь, – сказал Донцов и постучал в стекло шоферу.
– Ну, ни пуху, ни пера.
Донцов рассмеялся. Автомобиль остановился у подъезда отеля “Клэридж”.
II
У Ивана Андреевича было необыкновенное представление о роскоши. Однажды в жизни он был в
Зимнем дворце, но это было на следующий день после выстрелов “Авроры” и ночного боя на Дворцовой
площади. Затем в двадцатом году штаб его дивизии занимал дворец князя Сагнушко на Волыни. И в Зимнем
дворце и во дворце Сангушко наследили тяжелые солдатские сапоги. На малахитовых столах лежали
расстрелянные гильзы, караваи черного хлеба, а поверх них – солдатский жестяные манерки. Все же Иван
Андреевич понял, что простор и глубокая перспектива пустынных двухсветных зал, бронза канделябров,
хрусталь люстр и мрамор колонн – это и есть роскошь. Вестибюль отеля “Клэридж” почти не изменил
представления Ивана Донцова: величественная колоннада вестибюля, бар, напоминающий тронный зал,
жемчужины светящихся в расписном потолке люстр, зеркальный блеск полированных стен – это и была
роскошь. Стены отражали Ивана Донцова и сопровождающего его, грузного, рыжего с сединой, мистера Фолл.
Элегантные, похожие на актеров из великосветской фильмы, парочки совершенно неслышно шли им навстречу
по голубому и мягкому ковру. Человек в темно-зеленом фраке с золотым аксельбантом, переставляя ноги, как
автомат, бежал впереди, и, пока они шли, Донцов соображал, что величие и импозантность этого здания
происходят главным образом от удивительной чистоты, от натертых до сияния зеркал, стен, хрусталя, бронзы и
стекла. Уют, симметрично-спокойные линии, перспектива коридоров напоминали ему первый класс
трансатлантического парохода. Первый класс он видел однажды в открытый иллюминатор, в доках Гамбурга,
когда чинили обшивку парохода “Кайзер Вильгельм”. Коридор упирался в тяжелую, белую с золотым ободком
дверь, человек в зеленом фраке распахнул обе половинки двери и отодвинулся в сторону. Фолл пропустил
Донцова, и Иван Андреевич увидел зал, в котором при случае можно было разместить батальон пехоты.
Противоположные двери распахнулись, два человека: один высокий, худой с зачесанными назад седыми
волосами, другой – худой плоский человек с выбритой верхней губой и русой квадратной бородкой вышли на
встречу Донцову.
Донцов узнал Артура Ричеля по портретам, по бледным оттискам стертых клише вечерних газет. Сначала
он показался Донцову моложе, чем на фотографиях; только нижняя часть лица, мягкий и круглый подбородок и
сухая старческая шея выдавали годы Ричеля. Человек с русой бородкой согнулся и протянул обе руки Ричелю,
тот взял его обе руки одной левой, а правую протянул Донцову, и Донцов пожал холодную, сухую, с
деформированными суставами, руку старика. Мистер Фолл невозмутимо и почти незаметно переменил
диверсию и оказался впереди человека с русой бородкой, оба пошли к выходу, между тем Ричель, не выпуская
руки Донцова, повел его в боковую дверь. Другая комната была маленькой гостиной, но здесь почему-то стояли
стоймя высокие чемоданы и на сдвинутых столах лежали пестрые, разрисованные картоны. Похожий на Фолла,
но совершенно лысый человек рассматривал на свет рисунки. Ричель взял этого человека за борт пиджака:
– Вилэм, переведите мистеру Донцов…
– Я говорю по-английски, – сказал Иван Андреевич.
– Хорошо, очень хорошо… – И Ричель улыбнулся усталой и неожиданно приятной улыбкой. Он стоял
против света, и Донцов мог рассмотреть седые, редкие, зачесанные назад волосы, прозрачные, почти белые,
глаза с неуловимой, вспыхивающей и погасающей точкой в середине зрачка и мягкий, круглый, старушечий
подбородок. Концы черного галстука высовывались из– под острых, торчащих углов старомодного отложного
воротника. Мешковатый, двубортный пиджак висел, как на вешалке, и в костюме была небрежность,
неаккуратность, причуда, ставшая привычкой.
– Не обращайте внимания на эти рисунки, – продолжал Артур Ричель, похлопывая Донцова по руке
выше локтя. – У вас хорошие мускулы; только что у меня был Майльс, большой художник, великий мастер. В
Европе и у нас он стоит очень дорого, вы видели его работы, не правда ли? – Они шли об руку, и Донцова
удивлял звонкий, почти молодой голос старика.
Что это – юношеский жар, молодой задор, чудом сохранившийся у шестидесятилетнего старика, или
искусственное, временное возбуждение?
Они вошли в столовую. Окна, вернее все стены, были совершенно закрыты тяжелыми, непроницаемыми
для света драпировками, и одна люстра из черного металла бросала правильный световой круг на скатерть,
серебро, хрусталь и цветы. Стол был круглый и очень большой, но были накрыты только три прибора.
– Сядьте рядом со мной, мы обойдемся без переводчика.
Только сейчас Донцов увидел, что в тени, за световым кругом, вдоль дубовой панели, стояли люди.
Металлические пуговицы их фраков неподвижно блестели в темноте. Донцов молчал и следил за тем, как
Ричель подносил к губам бокал с минеральной водой и как цепко охватывали стекло желтые, бескровные
пальцы.
– Я люблю здоровых людей, здоровые люди хорошо работают. Кушайте, мистер Донцов. Не обращайте
на меня внимания. У меня особый режим. Шестьдесят шесть лет, вы меня понимаете, мистер Донцов?..
– Я перебью вас, – сказал Иван Андреевич, смущаясь от того, что давно не говорил по-английски, —
вы говорили о Майльсе, разве вы собираете картины?
– Нет, я не коллекционер. Но вы, конечно, слышали, что я купил марку “Франклин”. Правду сказать, я
профан в автомобильном деле, но мне кажется, это к лучшему. Я свежий человек. У меня нет предвзятости и