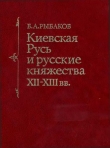Текст книги "Воскрешение Перуна. К реконструкции восточнославянского язычества"
Автор книги: Лев Клейн
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 38 страниц)
Часть III. ВЫХОД НА СЛАВЯНСКИЙ ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЮ
1. БОЧКИ НА МЕДНОМ НЕБЕ
Медное небоВайнахские сказки приписывают Пиръону создание небес из меди или сплава на медной основе (латуни). Хотя в славянском ареале и нет прямых сведений такого рода о Перуне, приходится все же считать, что славяне принесли их с собой на Кавказ, так как вайнахские сказочные тексты совершенно отчетливо противопоставляют эти небеса настоящим и не приписывают их создание своему, местному богу.
В глубоком прошлом славяне, подобно балтам и другим индоевропейцам, видимо, представляли себе небо каменным (Reichelt 1913; Biezais 1960; Pisani 1965: 842), и Перун, с его атрибутом позднего неолита – каменным молотом, был причастен к этим представлениям (лингвисты связывают его имя с хеттским peruna «скала» – см. Иванов 1968). Но сам Перун не выступает непосредственно создателем неба, да еще медного. Тем не менеее он к подобной деятельности близок. По освоении металлов в мифологию балтов вошел бог-кузнец демиург Телявель (аналог финского Ильмаринена, греческого Гефеста, римского Вулкана и др.). Он стал помощником главного бога, а потом – Перкуна, выковал солнце и поместил его на небо (Briickner 1904; Топоров 1966: 143-149; 1970). А в хеттской мифологии именно бог грозы, аналог Перуна, повелел богу растительности Телепину (ср. с именем Телявеля) привести «небесного Солнечного бога» из моря, чтобы возвести его на небо (Иванов 1972: 195-196). У осетин божественный Батрадз, герой с чертами громовержца, «дух грозы», по Дюмезилю, не живет на земле. Он то летает, то отдыхает на небе у небесного кузнеца Курдалагона (Дюмезиль 1976: 59).
В славянской мифологии приравненный еще в древней Руси к Гефесту бог Сварог, имя которого сопоставляют с древнеиндийским «сварга» «небо» (Фасмер 1971: 710-711; Enrietti 1980: 75; Трубачев 1983: 257), считался отцом солнечного Дажьбога и породителем огня (Сварожича), а также основателем кузнечного мастерства: при нем с неба упали кузнечные клещи и люди научились ковать. Чудесный кузнец, культурный герой, фигурирует в восточнославянском фольклоре под именем Кузьмодемьяна (от Св. Кузьмы и Демьяна – из греческих Космы и Дамиана, – ставших патронами кузнецов по созвучию со словом «кузнь») (Иванов и Топоров 1965: 141-143; Lowmianski 1979: 225; Рыбаков 1981: 529-531, 538).
Таким образом, в эпоху металла небо в представлениях славян было связано не только с солнцем и огнем, но и с кузнечным ремеслом, с ковкой. Отсюда недалеко до представления неба медным. По финскому эпосу небесный свод был выкован божественным кузнецом Ильмариненом, а в Эгейском мире на исходе бронзового века (собственно уже в железном) Гомер прямо называет небесный свод медным (Ил. V, 504; XVII, 425; Од., III, 2). Так и у других архаических авторов Греции – Феогнида, Пиндара (Шмидт 1931: 15-17). О медном небе, отмечает Шмидт (1931: 16), напоминают медные купола христианских церквей (по-гречески «купол» – «oúpaviGKog», ураниск, т. е. небесный). Видимо, и славяне не избежали этого развития космографических представлений, пройдя через бронзовый век.
Какова, однако, связь Перуна с божественным кузнецом и медью у самих славян? Сохранились поверья, что кузнец наделал громовых стрел Св. Илье (христианскому заместителю Перуна у славян), за что получил превосходство над чертями. Черти, гонимые Перуном, не любят и боятся кузнецов, а молнии не зажигают кузницу (Перетц 1899: 21). И хотя громовыми стрелами в народе называли кремневые наконечники (неолита и бронзового века), находимые в земле, но в народной загадке молния определяется так: «Летит медная стрела, никто ее не поймает – ни царь, ни царица, ни красная девица» (Афанасьев 1865,1: 245). Да и у греков, судя по Гомеру (II, XI, 65) и Эсхилу (fragm. 192, N2), киклопы делают медную молнию.
К новому времени языческое представление о медном небе сохранилось у русских христиан в качестве инвертированного образа. В народном стихе Христос угрожает людям: если не послушаете моих заповедей, то сотворю небо медным, а землю железною.
От неба медного росы не воздам, От земли железной плода не дарую, поморю вас гладом на земле; Кладези у вас приусохнут, Источники приоскудеют. Не будет на земле травы, Ни на древе скоры: Будет земля яко вдова.
(Афанасьев 1865, I: 142)
Так теперь представлялась русским людям жизнь под медным небом.
Таким образом, есть основания полагать, что небеса из меди или сплава на медной основе оказались в кавказской характеристике Пиръона – Перуна не благодаря какой-то местной инновации, а принесены из славянского очага, где они сохранялись в тесной связи с Перуном от бронзового века. В Центральной же и Восточной Европе это было все то же II тыс. до н. э.
Правда, Рыбаков относит сложение у славян комплекса идей о божественном кузнеце к железному веку – на том основании, что ковка, де, применялась только в медном веке (который славяне не прошли) и в железном веке, а в бронзовом веке применялось только литье (Рыбаков 1981: 532). Но это неверно. Во-первых, бронзовые изделия с небольшой присадкой олова или его заменителей подвергались дополнительной проковке, во-вторых, в бронзовом веке целый ряд видов изделий (например, украшения) изготовлялись из чистой меди.
Стал ли Перун еще у славян не только распорядителем, но и создателем медных небес (оказавшись главным богом) или это результат упрощения мифа при переходе в иную среду, трудно сказать.
ВедьмыВ сообщениях о женщинах, которых Пиръон посылал на небо лить воду, воспроизводя дождь, скорее всего отразились рассказы о ведьмах и колдуньях. По этнографическим данным, как у германцев, так и у славян (Афанасьев 1851; 1969, III: 427-511; Токарев 1971; Новичкова 1995; Виноградова и Толстая 1995; Виноградова 2000: 230-270; Власова 2001: 60-72; ЪорЬевиЙ 1989) именно таким женщинам приписывалась власть над дождем и вообще над погодой, а с тем и над урожаем. Немецкое название для таких колдуний – «делательницы погоды» (Wettermacherinnen), «делательницы грозы» (Zessenmacherinnen), «молниевые ведьмы» (Blitzhexen).
Средневековая охота за ведьмами, с судебными процессами против ведьм, пытками и казнями, развернувшаяся в эпоху Возрождения и особенно Реформации (Мишле 1997; Канторович 1899; Сперанский 1906; Рассел 2001), основана не столько на церковной реакции на опасные тенденции времени, сколько на массовом народном сознании, разбереженном религиозными войнами и стихийными бедствиями этой эпохи (Гуревич 1987).
На Руси сведения о ведьмах содержатся уже в Начальном летописном своде (Смирнов 1909) и обильны в сочинениях последующих веков. Особенно сильными считались в народе киевские ведьмы. За повелениями своего властелина они слетались на Лысую гору, что на левом берегу Днепра, – туда, где когда-то стояли идолы богов (впрочем, Лысые горы, да и кумиры на них, были и в других местностях Руси). Иными словами, это были как бы низшие распорядители из ведомства бога-громовика, посредники между ним и людьми. В финских рунах колдун прямо аттестован «сыном бога-громовика Укко» (Афанасьев 1969, III, 442-443). Главные периоды активизации ведьм в России – Святки (конец декабря – начало января) и Купало (24 июня), т. е. солнцевороты (Афанасьев 1851: 107; Власова 2001: 64-65). Дальше мы увидим, какое значение эти дни имели в культе Перуна.
У древних германцев ворожба считалась постыдной для мужчин, обвинение в ворожбе могло навеки опозорить мужчину и воспринималось как тяжелое и оскорбительное обвинение, означавшее, что мужчина обабился, утратил мужское достоинство (Grimm 1835: 559-560, 606, 1026, 1040-1042). Но обратиться к ворожее было не позором и для мужчины. По Фритьофсаге, сыновья конунга Бели наняли двух ведьм и те, поднявшись на утес, возбудили морскую бурю на погибель Фритьофу (Афанасьев 1869, III: 445).
На Руси ворожбой не брезговали и мужчины. Все же русская летопись подчеркивает, что волхвованию предаются преимущественно женщины. Колдун назывался у восточных славян волхвом, колдунья, ведьма – волховью. «Паче же женами бесовская волъшвания бывають; искони бо бес жену прелсти, си же мужа; тако в си роди много волхвують жены чародейськи, и отравою и инеми бесовськыми козньми» (Смирнов 1909: 225). По сведениям этнографов, на Украине верили, что ведьмы могут скрадывать дождь с неба и держать его в завязанных крынках или бадьях (Афанасьев 1869, III: 449-450). Поэтому, когда дождь долго не орошал полей, крестьяне хватали баб, заподозренных в колдовстве, и устраивали им испытание водой: с камнем на шее топили на веревке в омуте и следили, потонет или нет. Тонувшую вытаскивали и оправдывали, а в непотопляемой опознавали ведьму, забивали ее насмерть и топили силой (Афанасьев 1869, III: 510; ср. Ефименко 1883; Канторович 1899). Предполагалось, что как земля не приемлет колдунов, так вода не приемлет ведьм (Успенский 1982: 82).
В древней Руси происходило то же самое. Серапион, владимирский епископ XIII в., укорял паству: «Молитесь и чтите я (ведьм. – Л. К.), и дары приносите им, ать (пусть) строят мир, дождь пущають, тепло приводять, земли плодити велять...». Но и на смерть, продолжал епископ, осуждаете их без справедливого суда, без опроса свидетелй (послухов): «вы же воду послухом поставите, и глаголите: аще утопати начнеть – неповинна есть, аще ли попловеть – волховь есть» (Mansikka 1922).
В мифологии европейских народов ведьмы ездят (или летают) верхом на помеле, метле, кочерге, на березовом полене, на песте, на улье (т. е. на бревне). Метла, помело, заметающие путь, Баба– Яга в ступе – яркие образы, но общим для всех этих «средств передвижения» является палка, жердь, которая и представляет основу средства. А в сердцевине этих представлений лежит не особое отличие ведьм, а магия, имевшая применение и вне одиозных деятельниц. Рассмотрев этнографические материалы, Б. П. Кербелайте (1996: 342-343) пришла к выводу, что эти рассказы отражают реальные магические действия в быту. Например, у русских был обряд, называемый «вьюнины»: группы женщин верхом на метлах объезжали те дома, в которых жили молодожены. На Украине для изгнания нечистой силы хозяйка дома, отстояв в церкви вечерю в Чистый четверг (страсти) и принеся домой горящую свечу, раздевалась догола и, сев верхом на помело, объезжала на нем магическим кругом дом и двор (Зеленин 1991: 392). В Литве женщина, пришедшая спросить, можно ли посылать сватов, подъезжала к столу на метле – этого было достаточно, чтобы хозяева поняли цель ее визита. Утром в праздник летнего солнцеворота (т. е. на Купалу) литовские женщины проезжали верхом на метлах по деревне и объезжали коров, чтобы те давали больше молока.
Палку, на которой эти женщины ездили, они называли «конем». Название это, как полагает Кербелайте, имело в фольклоре эротическое значение и в переносном смысле означало фаллос. Так, в русских сказках девушка, с которой переспал герой сказки, посланный за молодильными яблокам, проснувшись говорит: «Ах, невежа приезжал, да в моем колодце своего коня напоил». В русской свадебной песне из Сибири «В подклеть идти» поется:
Благослови,
Хозяин-господин,
Пролубку долбить,
Каурку поить...
Кербелайте предполагает синонимичность понятий 'древо' и 'конь' (1996: 346-347), но я бы мог к этому добавить и прямую связь понятий 'фаллос' и 'конь': на современном российском тюремном жаргоне «посадить на красного коня» или «посадить на кожаного коня» означает 'оттрахать', 'вы..ать' (собственные наблюдения). Ведьмам средневековые обвинители приписывали половые сношения с демоническими существами – инкубами. Так или иначе явная ассоциация езды женщин на палке-коне (то есть ведьм) с сексуальными действиями и брачной обрядностью налицо. Впоследствии будет рассмотрено, какое это может иметь значение для увязки ведьм с культом Перуна. Пока удовлетворимся этой, по правде сказать, еще очень слабой выявленностью данного аспекта: отдельные метафоры в узких, отдаленных друг от друга сферах...
БочкиШироко распространено было поверье, что эти «жены чародейськи», сиречь волхови, ведьмы, летают в поднебесье, в колдовских целях льют из горшков и чаш воду, вызывая этим дождь, бросают в воду кремневые («громовые») стрелы, накликая этим молнии, и катают бочки, «разрыв которых производит грозу и бурю» (Афанасьев 1865, I: 581, 1869, III: 443). Катают бочки!– совсем как Пиръон на Кавказе. А Пиръон имел какую-то власть над женщинами, заставлял их подниматься на небо и лить оттуда воду. Таким образом, катание бочек привязано на Кавказе к Пиръону – Перуну, богу грозы, не случайно (разбивание, правда, не представлено в вайнахских текстах, но в европейской этнографии связано с катанием бочек).
Эта привязка подкрепляется прямой связью бадьи с громовиком у ведийских ариев, при чем примечательно, что в данном случае этот громовик там не Индра, а его архаический прототип, тезка Перуна – Перкуна Парджанья. В гимнах Ригведы (1999: V, 83,8; VII, 101,4) молящиеся призывают Парджанью:
Поднимай огромную бадью!
Выливай (ее)!
Пусть хлынут вперед выпущенные ручьи!
Пропитай жиром землю и небо!
Да будет хороший водопой для коров!
На ком покоятся все существа,
Три неба, (из кого) трояко струятся воды... —
Три бочки для поливки
Во все стороны льют по каплям обилие сладости.
Разбивание бочек с колдовской целью «разрешения вод» не было прерогативой волховей (позднейших ведьм). Они, вероятно, пользовались своими чарами лишь для разовых поворотов погоды в нужную сторону – аномальных, так сказать, по спецзаказам, в нарушение естественного хода. Для обеспечения же нормального ежегодного «разрешения» небесных вод на весну и лето обряд совершали всем миром, видимо, в определенные календарные сроки. Обычай коллективного разбивания бочек сохранялся на Руси долго, и церковь рассматривала его не как безобидную забаву, а именно как языческий обряд. Под 1358 г. в Новгородской летописи записано обязательство отказаться от этого обычая: новгородцы «того же лета целоваша бочек не бити», а в Никоновской летописи (ПСРЛ, X: 230) текст более развернутый: «Того же лета новгородци утвердишась межи собою крестным целованием, чтоб им играния бесовскаго не любити и бочек не бити». И позже, при Иване Грозном, в 93-й главе «Стоглава» (1861: 264-267) порицаются игры и плясания «над бочками и корчагами».
Рыбаков в примечании (1987: 689, прим. 72) отметил: «Обычай битья бочек не выяснен».
Как выглядел этот обряд, мы можем себе представить по описанию аналогичного обряда в XIX в. у хорутан Зильской долины. В каждой деревне стояла на площади почитаемая липа; к дереву привешивали бочку; юнаки на конях скакали вокруг липы, стараясь на всем скаку попасть палицей в дно бочки, пока, наконец, бочка не рассыплется. А в это время остальные селяне пели обрядовые песни (Афанасьев 1865: 589).Палица – оружие, заменяющее в эпосе отживший боевой топор-молот (или булаву) бога-громовика (и в средневековой Индии ваджру стали изображать именно палицей). Тот факт, что бочку поднимали не на любой предмет, приближающий ее к небу (скажем, на крышу навеса, на перекладину качелей и т. п.), и не на любое дерево, а на особо выделенное, почитаемое дерево, побуждает подозревать, что это дерево рассматривали как воплощение «мирового дерева», связывающего землю с небом.
У А. Н. Афанасьева (1865, I: 581) приведенное ведическое обращение к Парджанье рождает ассоциацию со славянскими выражениями «льет как из ведра», «лье як з бочю», и можно было бы сопоставить их с обрядом разбивания бочек, но выражения эти могут быть и простыми сравнениями (вполне естественными также без всякой мифологической подкладки), а в записях об обряде нет никаких указаний на то, что в бочках содержалась вода, хоть вряд ли такой любопытный факт избежал бы особого замечания информаторов. Значит, в смысловой мотивировке обряда он уже далеко отошел от непосредственной реализации симильной магии, либо воображаемый объект, высвобождаемый из бочки при разбивании, изначально мыслился иным – более широко и обобщенно представляющим природные стихии или вообще как-то иначе с ними связанным. Соответственно может выявиться и иное решение вопроса о связи этого мотива с Перуном.
Для прояснения этого обстоятельства нужно расмотреть два ряда даных:
а) что известно по фольклорным источникам культового происхождения (волшебные сказки) о содержании специально разбиваемых бочек;
б) когда еще в обрядах полагалось высоко устанавливать бочки и вообще как-то использовать их в ритуале.
Этому будут посвящены два следующих раздела.
2. «ЦАРЬ САЛТАН» И РУСАЛКИ
Царица в бочкеВ русских сказках бочка фигурирует как сосуд, в который бедняк заключает своего злыдня (злую участь, недолю) или злыдней с целью от них избавиться. Он обманывает богача (вариант: богатого брата), из жадности тот добывает или открывает сосуд, и недоля мигом прицепляется к нему. От нее нельзя избавиться иначе, чем передав ее кому-нибудь – так как колдун не может перед смертью избавиться от своего тяжкого уменья (и не может умереть иначе), чем передав его кому-нибудь. Глубинный смысл этих поверий – в том, что различие участей, их неравенство, существование добрых долей и злых, легких и тяжких, извечно, и они не могут исчезнуть, могут лишь перераспределяться.
Это старый мотив – он представлен в апокрифе о Соломоне, «како закопа беси в единой дельве (яме)». Истоки сюжета находят в талмудических и арабских притчах. Нас здесь интересует лишь восточнославянское оформление сюжета: бочка в качестве вместилища, она брошена в болото, злыдня подлавливают, защемив ему руки в расщепленном дубе (Сумцов 1913), дуб же – дерево Перуна. В указателе Арне – Андреева это мотив № 735 «Две доли», в Сравнительном Указателе Сюжетов —Разбивание бочки здесь не представлено, и в контексте данного исследования мотив «злыдней в бочке» интересен только как фольклорное свидетельство применения бочки в качестве средства избавиться от нежелательных субъектов.
Ближе к нашей теме оказывается другой мотив – дети в бочке. Этнографически он представлен в Литве, где на Заговенье обливали водой девушек или подростков, которых в бочке возили по деревне (Кербелайте 1996: 344). Но мифологический вариант более популярен и разветвлен в русском фольклоре. У Н. П. Андреева этот мотив (№ 707) называется «Чудесные дети», в Сравнительном Указателе Сюжетов – 707 (СУС 1979). Он нередко соединен с мотивом (№ 675 по Арне – Андрееву) «По щучьему веленью». Суть сказки в том, что по колдовскому слову мужичка (тут и использован мотив «По щучьему веленью») царица забеременела в отсутствие царя (мотив чудесного зачатия). Она обвинена в прелюбодеянии, да еще ведовском – с невидимым «инкубом». По другим вариантам, царь не отсутствовал, но родилось необычное дитя – со знаками сверхъестественного происхождения: божественного (солнце во лбу, месяц на затылке, или по колено ноги в золоте, по локти руки в серебре) или звериного (сходство с определенным животным в какой-то части тела). Последний вариант (звериный) у современных сказочников слабо использован; но по крайней мере так излагают дело царю завистливые старшие сестры царицы, которые тоже оказываются при царе (видимо, как старшие жены, что сильно удревняет весь сюжет).
Обвиненную царицу на сносях или уже родившую (тогда вместе с сыном или 9 сыновьями) заключают в бочку, а бочку, засмолив, пускают по волнам. Царевич растет в бочке не по дням, а по часам. Сюжет использован Пушкиным в «Сказке о царе Салтане». У Пушкина, как и в народной сказке, все оканчивается счастливо. Бочку прибило к берегу, царевич «вышиб дно и вышел вон». В конце концов царевич, вернувшись, опознан и воцаряется на отцовском троне. До Пушкина сказку использовали на Древнем Востоке и в Эгейском мире сочинители царских родословных – для обоснования законности власти некоторых узурпаторов (вроде Саргона и Персея): конструируя чудесное рождение, узурпатора представляли вернувшимся законым наследником трона (Аполлод., 2.4.4; Drews 1974).
Е. Аничкова (1927) проделала «Опыт критического разбора происхождения Пушкинской сказки о царе Салтане». В качестве возможных источников она упоминает восточные сказки – бурятскую сказку о Шанхисе (Чингис-хане) и гуннские предания об Аттиле, в которых засмоленную бочку пускают по морю. Три сестры царицы взяты из «Тысячи и одной ночи», султан – из повести Чосера о Констанции, только в этой повести пускают по морю не бочку, а неуправляемый корабль. В русских допушкинских лубочных сборниках сказка об Амадусе отправляет героя в бочке по морю. В других русских сказках чудесные дети – близнецы. В одной из сказок фигурирует царь Салтан. Аничкова считает, что прозаическая запись сюжета пушкинской сказки о царе Салтане, сделанная самим поэтом и опубликованная Анненковым в числе сказок няни Пушкина Арины Родионовны, скорее всего является просто прозаическим переложением готовой пушкинской сказки или ее проектом.
Среди сказок Арины Родионовны могла быть такая сказка, но данная запись слишком близка к стихотворению, а корни многих его мотивов прослежены вне русского фольклора. Записи истинных русских сказок начались только в середине XIX в., после Пушкина, и в них уже могут отразиться заимствования в фольклор из пушкинских текстов. Но в этих записях есть сказки о Бабе-Яге, которая обратила близнецов-царевичей в волчат и подменила их крестьянским сыном, а царь посадил жену с ребенком в бочку и пустил по морю. Выросши, крестьянский сын сумел обратить волчат в людей и помог разоблачить всю каверзу. Этот рассказ слишком далек от пушкинского текста, чтобы быть результатом фольклорного пересказа.
Есть обрывки того же сюжета, вошедшие мотивами в другие сюжеты. Так, в сказке о Марье Моревне женщины в бочке нет.
Убив царевича, змей положил его в смоленую бочку и бросил в море. Но прилетел орел, поднял бурю, и волны выбросили бочку на берег, сокол поднял бочку в поднебесье и бросил с высоты, чтобы она разбилась, а ворон принес живой воды и воскресил царевича к некой новой жизни.
Но кем были прототипы героев сказки? Мог ли царевич спастись и вернуться? Какая реальность лежит в основе сказочного сюжета?
Уже в завязке сюжета заключен ключ к разгадке. Героиня обвинена в прелюбодеянии. По нормам первобытного общества у ряда ближневосточных и индоевропейских народов это – преступление, каравшееся утоплением виновной женщины (мужчина имел право на внебрачные связи). По законам Хаммурапи (§ 143) замужнюю женщину, «если она не блюла себя, а выходила (изменяла мужу), дом свой разоряла и унижала своего мужа, эту женщину должны бросить в воду» (Волков 1914). Древние германцы навязывали изменившей жене камень на шею и со связанными руками бросали ее в болото (уже свыше 330 таких «болотных трупов» найдено археологами – см. Rehfeldt 1942; Struve 1967; Brothwell 1986). Так же, видимо, поступали и ахейцы: когда Аэропа до замужества вступила в любовную связь, ее отец Катрей хотел утопить ее; когда, выйдя замуж за Атрея, она изменила ему, он, как сказано у Софокла и Еврипида, повелел бросить ее в море (Roscher 1: 87).
У славян такой способ наказания не засвидетельствован для обычной измены. Но в сказке представлена не обычная измена. Забеременев по колдовскому слову, царица заподозрена не в обычном прелюбодеянии, а в ведовском – в сношении с невидимым, сверхъестественным существом, духом, «инкубом», как определили бы его средневековые «охотники за ведьмами». В славянском фольклоре широко представлены сексуальные связи женщин с демоническими существами – оборотнем, домовым, вампиром, умершим мужем, летающим змеем (Виноградова 1996; Левкиевская 1996). Причисленный христианством к «нечистой силе», дух этот иначе воспринимался языческим сознанием (не делавшим такого четкого различения между чистым и нечистым духами), что и отражено в фольклорном освещении. Когда колдуна, напустившего «порчу» на царицу, спрашивают, его ли сын, ответ гласит: «Нет, божий!» (Афанасьев 1872, I: 167, 411).
Какой бог предполагался отцом чудесных детей? Сказка об этом молчит, вот разве что число сыновей показательно: 9 сыновей у литовского Перкуна, 9 шагов делает перед смертью Тор, 9 клыков вепря вбито в священный дуб (находка 1975 г.), выловленный в Днепре, – несомненно один из Перуновых дубов; в другой, извлеченный из Десны (находка 1909 г.), вбито 4 челюсти молодых свиней квадратом (Болсуновский 1914; Козловська 1928; Ивакин 1979; 1981). Каждая из трех птиц, прилетавших к царевичу в сказке о Марье Моревне, появлялась сквозь потолок при звуке грома...
Так или иначе, чудесные дети – дети бога. Это сюжет, близко родственный одному из основных мифов христианства – мифу о «непорочном зачатии».
Тем не менее героиню трактовали (и с точки зрения позднейшего фольклорного сознания – несправедливо) явно как ведьму, а уж ведьмы-то, как мы видели, на Руси определенно были связаны с Перуном. При спуске героини в бочке на воду в одном из вариантов проскальзывает любопытная мотивировка: виновата – потонет, права – выплывет. Да ведь это типичная формула суда над «ведьмой», только перевернутая! А перевернутость вызвана тем, что вытягивать «оправданную» на веревке никак не возможно, потому что в основе сюжета не было оправдания – бочка уплывала по волнам насовсем, а «оправдание» приходило через воскрешение с того света в новом поколении, в ином воплощении.
У многих первобытных народов рождение необычных детей – близнецов (в данном случае сразу 9 сыновей!), уродов, детей с необычными признаками, – воспринималось как результат вмешательства сверхъестественных существ (богов, демонов) и вызывало опасения. Нередко в подобных случаях и мать и младенцев изолировали от общества, удаляли, приносили в жертву богам (Штернберг 1936: 86-92, 143 – 158; Токарев 1964: 144-146). У древних индоариев, по Шатапатха-брахмане и Тайтирия-брахмане, полагалось жертвовать богу смерти Яме бесплодную женщину, а его сестре-близнецу Ями – двойню или женщину, которая рожает двойняшек (Гусева 1977: 127). У южных славян Зечевич (Зечевий 1973) выявляет в народных преданиях память об избавлении от внебрачных детей – отправлении их к божеству в качестве умилостивительных жертв с целью вымолить лучшую погоду, то есть о человеческом жертвоприношении.
В то же время этих людей, столь явно отмеченных вниманием богов или демонов, нельзя было просто убить. С ними нередко поступали как с подлежащими удалению сакральными объектами. На Руси такие объекты (обветшавшие иконы и церковные книги, высохшие просфоры и т. п.) запрещалось выбрасывать или уничтожать. Их полагалось пустить вплавь по реке: так они приплывут в ирий, т. е. в рай (об этом рассказывает Олеарий; см. также>у Успенский 1982: 185; Агапкина 2002: 48-49). Есть и другая причина для предания ведьм воде – об этом ниже.
Таким образом, в сказке, по сути, описано происхождение русалок.