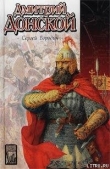Текст книги "Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3"
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Концерт Игоря Северянина
3 ноября в помещении Союза Еврейских Писателей и Журналистов состоялся концерт И.В. Северянина. Поэт познакомил с новым периодом своего творчества (1922-1931 гг.), прочитав стихотворения, вошедшие в сборники: «Классические Розы», изданные в Белграде в 1931 г., и «Литавры Солнца», который пока находится в рукописи, но готов к печати.
Перед нами новый Игорь Северянин: его своеобразная знакомая легкость и свежесть поэтического языка перенесена на строгую классическую почву. В темах: природа, семья; созерцательное умиротворение; мудрое презрение к людям, которое исходит из живой требовательности к их человеческому достоинству. Все разбросанные по прежним сборникам блестки смиренного лирического покоя и одинокого ума здесь сливаются в одну напряженную ноту.
Вернувшись из шумной культурной жизни к природе, Северянин понял,
И вот здесь, у моря, среди лесов, поэт вновь находит себя.
Созерцательность дает поэту новые силы к творчеству, и язык его прибретает живую описательную силу. Как сам говорит он:
Вот несколько отрывков, дающих понятие о современной манере Северянина изображать:
И с каждым километром тьма
Теплела, точно тон письма
Теплеет с каждою строкой,
Письма к тому, кто будет твой [123]123
«Горный салют» (1931), 415.
[Закрыть].
..........................
Отдыхали на камне горячем и мокром.
Под водою прозрачное видели дно... [124]124
«Прогулка по Дубровнику» (1931), 420.
[Закрыть]
..........................
Когда же легли все спать,
Вышел я на крыльцо:
Хотелось еще, опять
Продумать ее лицо...
На часах фосфорился час.
Туман возникал с озер [125]125
«Когда озеро спать легло...» (1930), 438.
[Закрыть].
И душу поэта посещает мир, новое смиренномудрое спокойствие:
Северянин говорит: «Людское свойство таково, что не людей оно пугает» [127]127
«Девушка безымянная» (1923), 108.
[Закрыть]. Посреди дикого мира моря, лесов и озер, бродя со своей удочкой-«тростинкой» и стихами, поэт чувствует себя Паном, задумавшимся вдалеке от суеты, катастроф и борьбы «так называемых людей», двуногих «сверхзверей». Возвращаясь же к ним, он теперь чувствует много горечи и находит бичующие и призывающие к «Человеку» слова:
Новая строгая манера чтения пришла со строгостью нового содержания стихов. За сдержанными размеренными словами чувствуется скрытая волнующая сила.
За Свободу!, 1931, № 294, 5 ноября, стр.6. Подп.: Л.Г.
Довид Кнут
1
Я,
Довид-Ари бен Меир,
Сын Меира – Кто – Просвещает тьмы,
Рожденный у подножья Иваноса,
В краю обильном скудной мамалыги...
Я помню всё:
Пустыни Ханаана,
Пески и финики горячей Палестины,
Гортанный стон арабских караванов,
Ливанский кедр и скуку древних стен
Святого Ерушалайми.
И страшный час:
Обвал и треск, и грохоты Синая,
Когда в огне разверзлось с громом небо...
Я помню всё: скорбь вавилонских рек,
И скрип телег, и дребезги кинор,
И дым, и вонь отцовской бакалейки –
Айва, халва, чеснок и папушой, –
Где я стерег от пальцев молдаван
Заплесневелые рогали и тарань.
Я,
Довид-Ари бен Меир,
Тысячелетия бродившее вино,
Остановился на песке путей,
Чтобы сказать вам, братья, слово
Про тяжкий груз любови и тоски –
Блаженный груз моих тысячелетий [129]129
Цитаты сверены по изданию: Довид Кнут. Собрание сочинений. В двух томах. Том 1. Составление и комментарии В. Хазана (Иерусалим, 1997), стр. 97-98. Далее ссылки даются в сокращении.
[Закрыть].
.......................
Так Кнут начинает первую книгу своих стихов.
Он пришел к нам из своих тысячелетий и предъявляет свое метрическое свидетельство, в котором написана вся величественная история его народа.
Кнут прав в своей строгой торжественности, с которой он представляется нам, – судьба предъявила к нему строгие требования, наполнив его древнею кровью – вином, бродившим тысячелетия, и дав ему мудрое имя – отзвук святых имен.
Довид – псалмопевец, царь и мудрец, усмиривший своим пением Саула, победивший пращою великана Голиафа.
Ари – значит Лев; это символ духовной силы, благородной воли.
Бен-Меир – т.е. сын Меира, т.е. сын света. Как толкует сам Кнут – того, «Кто – просвещает – тьмы».
Бог положил на душу поэта свою неистребимую печать: «Довид-Ари бен Меир», и, раз приняв на себя знаки Господней печати, душа уже никогда не освободится от сознания над собою высшей ветхозаветной Воли.
Испытанная веками покорность дышит в словах Кнута:
Бог Израиля лежит своей неимоверной тяжестью на одной малейшей песчинке избранного им народа. И пока песчинка покорствует, – груз этот ей отраден; но достаточно ей возмутиться, сбросить с себя тяжесть Господнего имени, как то, что казалось легким, раздавит ее своим космическим весом.
2
В капле отражается солнце. В малом повторяется великое.
Подобно тому, как некогда с Ноем и Авраамом, Бог заключил с Довидом Кнутом два завета во второй книге его стихов.
Когда «разверзлись мстительные бездны и гибнущая дрогнула земля... и грянул град железный», – «дикая вода» взмыла жизненный ковчег поэта [131]131
«Ковчег. 2», 1, 116.
[Закрыть].
Ковчег плывет – и о борты
Напрасно бьются крики мира.
И вот уже видна пристань – земля «трудного» рая, обещанного за жестокие испытания жизнью.
Спасенная душа ищет вместе с Ноем и кличет: «эй, Господи, где ты?» И Господь отвечает на ее зов:
«За то, что ты спасал для праведных селений
Стада надежд и стаи слов...
Что из трясин и бездн ты вывел непролазных
И в горьких водах вел ковчег;
Что огибал обман и острова соблазнов
И шел на свет, и не спросил – зачем...
И в каждом шелесте стерег и слушал голос,
Что реял над тобой всегда...
Я видел – высока была работа.
Взгляни на Судные весы:
Ты был упрям и тверд в борьбе водоворота,
Приветствую тебя, мой сын!» [133]133
«Ковчег. 4», 1, 117-118.
[Закрыть]
3
Смысл второго завета – утверждение через Бога полноты бытия. Чтобы радость жизни не стала соблазном, Господь освещает ее, завещая человеку. Но, чтобы очистить желание, Господь проводит душу через испытания Авраама, веля ей:
Возьми в охапку хлам земного дома,
Все радости, все горести твои.
Подъемли груз бесстрашными руками.
Возьми с собою нож, огонь, дрова,
И понеси на жертвенные камни,
Где – прах и соль, где выжжена трава.
Там всё, чем тщетно тешился ты ныне,
Все скудные дела твоей земли.
Ты обложи пылающей полынью
И преданно и твердо заколи [134]134
«Испытание», 1, 126.
[Закрыть].
Но в последний момент рука Господня удерживает послушный жертвенный нож, и голос небесный заключает завет:
«Я, испытав тебя огнем закланья,
Тебе велю: живи, мой сын, живи.
Не бойся снов и яростных желаний,
Не бойся скуки, горя и любви.
Будь на земле, живя и умирая,
Земные ведай розы и волчцы,
К тебе из музыкальных высей рая
Слетаться будут частые гонцы.
...Вот мой завет: не бегать слез и смеха,
Смотреть в глаза любимым и врагам.
...Не бегать благ и дел юдоли узкой.
Но всё приняв, за всё благодарить...
Осуществлять себя. Плодотворить [135]135
«Испытание. 3», 1, 129-130.
[Закрыть].
4
С кем заключил Бог эти заветы? С Довидом-Ари бен Меир – потомком потомков того племени, которое Он провел через пылающие пески пустыни в землю обетованную – или с поэтическим воображением Довида Кнута, медвежьей походкой («свой малый путь пройдя стопой медвежьей, с медвежьим сердцем, новым и простым») [136]136
«Испытание. 3», 1, 129.
[Закрыть] идущего по садам русской поэзии?
Что случилось, что Кнут так легко променял свое божественное первородство на чечевичную похлебку отчаянья одиночества, пустоты душевной, бросив Бога и свою судьбу на тротуары Парижа под свои «хрустящие галоши» –
О Боге, о смерти хрустели галоши [137]137
«Замерзая, качался фонарь у подъезда…», 1, 154.
[Закрыть].
Древняя священная судьба Израиля, тысячелетия бродящее вино – на тротуарах Парижа, где небо – сырая пустота, где стоит рядом кто-то «вонючий без имени, без отчества» [138]138
«У Сены», 1, 89.
[Закрыть], вместо реявшего всегда голоса над избранною душою.
Слово за словом поэт изменяет заветам, положенным между ним и Господом. Ковчег плывет, но напрасны были видения райских берегов, – дух Божий больше не витает над ним, его захлестывают воды потопа, кругом стерегут рифы соблазна, и нет уже ни надежды, ни воли. Это – «бутылка в океане», в стихии человеческого равнодушия – торопливые слова, безмолвный крик о гибели, закупоренный крепко.
Блуждание в пустыне не исход – люди идут не в страну обетованную сквозь испытания, они –
Завлечены обманом
В бесплодные, безводные пустыни
И брошены на произвол судьбы!
Это – час «непоправимого жизнекрушенья» [139]139
«Уже давно я не писал стихов...», 1, 162-164. Концовка цитируется по журнальному варианту «Чисел» (№ 2-3, 1930); в том же варианте строку цитирует Андрей Луганов (Е.С. Вебер) в рецензии на сборник Д. Кнута «Парижские Ночи», За Свободу!, 1932, № 70, 26-27 марта, стр.4.
[Закрыть].
Тысячелетняя душа знает, что помощь может быть только от руки Бога, и, отказавшись от нее, не верит в спасение. И вот в судьбе отступившего ветхозаветный Бог дает знаки своей славы, как сказано: «Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставляю Господа – источник воды живой... [140]140
Иер. 17: 13.
[Закрыть] Гнева нет во мне, но, если кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду против него, выжгу его совсем» [141]141
Ис. 27: 4.
[Закрыть].
И душа уже сожжена, осталось только тело – «двойник и заместитель», «спокойный, твердый, мужественный друг»; он подменит своим подобием жизни то, что умерло уже давно:
Но нет вкуса к жизни – глаза подернуты тоской и сознанием гибели, «Стада надежд» рассеяны, умолк небесный голос, и Кнут уже спросил «зачем?»
«Камня тяжелее» [144]144
1, 161.
[Закрыть] теперь каждое слово поэта. Живой источник иссяк, остались неподвижные серые камни. Кнут говорит:
И каким же холодом опустошения веет от этих стихов:
Поэту теперь кажется, что за прежнюю веру – нынче «жалкую мудрость», он платит этой страшной ценой опустошения. Он не сознает, что это горит на нем его древнее имя, которое озаряло его, когда он был покорен своему Отцу – тому, Кто – Просвещает тьмы, а теперь жжет мстящим уничтожающим пламенем.
«Гнева нет во Мне, но, если кто противопоставил Мне в нем волчцы и терны, Я войной пойду против него, выжгу его совсем» [147]147
Ис. 27: 4
[Закрыть].
5
Пав на землю, гонимый Господним гневом, Кнут жесточе переживает грех любви и жизни, находит для них потрясающие слова; теснее жмется к людям, ощущая всё их и свое бессилие. В отчаянии упрямо повторяет:
Но жизнь эта именно та, о которой он сказал: «я еле был – в полунебытии» [149]149
«Я был былинкою в игре миросмешений…», 1, 110.
[Закрыть].
Так же слепа стала для него и любовь – «допотопная радость» [151]151
«О, упоенье крепкое: еще не полюбя...», 1, 112.
[Закрыть], а теперь – «западня», «час густой и древней муки», соблазн, когда надо «прятать от себя свои же руки, дрожащие от жажды и тоски» [152]152
«Восточный танец», 1, 110.
[Закрыть].
6
Путь Кнута не кончен, но ясно, что он может идти по нему только в двух направлениях – к Богу, навстречу обещанному спасению, осуществляя заветы, или от Него – в гибель, в небытие, потому «Отступающие от меня будут написаны на прахе» [153]153
Иер. 17: 13.
[Закрыть]. Иных дорог для поэта нет, так как судьба Кнута – это древняя судьба Израиля, а душа его – арена, на которой продолжается состязание Бога с его народом.
Но почему же Кнут так близок нам? Не наша ли это тоже судьба? Не блуждаем ли и мы по пустыне, не ищем ли и мы земли обетованной, когда наши глаза слепит раскаленный песок и, может быть, в отчаяньи мы готовы разбить наши скрижали и насмеяться над нашими надеждами?..
Кроме того, Кнут среди нас, в нашей толпе, в нашем быту. Фон, на котором происходит богоборчество Кнута, – столица мира Париж. Поэт пришел из своих тысячелетий на его асфальты, в его глыбы «железо-бетонно-кирпичные» [154]154
«Словно в щели большого холста...», 1, 149.
[Закрыть] и взглянул на него глазами древнего кочевника. Во всем, на что бы ни глядел он, что бы ни встречал в окружающем мире, он видит отражение и слышит отголоски того, что некогда происходило в пустынях Ханаана и на песках «горячей Палестины» [155]155
1, 77-78.
[Закрыть]. Улица, кишащая людьми и машинами, представляется ему наполненной ревущими стадами; городской шумный день, воздвигающий свою вавилонскую башню, – это Иерихон, гибнущий от «космической музыки ночи»; старый дом, возвышающийся над крышами, напоминает ему ковчег:
Ворочая тяжелые, острые, меткие и разящие камни языка своей лирики, учившейся у старых восточных мастеров своим формам и краскам, Кнут порою складывает из них нежнейшие фигуры, мудрые знаки.
Из самого грубого материала он умеет создавать проникнутые духовностью образы. Например, музыку звездного неба он рисует так:
Кнут смотрит на несущийся мимо него враждебный бешеный мир, и с ним происходит то же, что происходит со смотрящим с моста вниз, когда начинает казаться, что это не вода бежит мимо, а мост плывет в тихом уносящем движении:
Ему кажется, что это он плывет, меняясь, отделяясь от древнего человека, уносясь движением улицы города современного страшного мира, – а он всё тот Довид-Ари бен Меир, который до конца в своем унижении и отчаянии идет,
Тончайшие переживания он создает такими смелыми образами:
В этой, иногда нарочитой, грубости новизна и дикая прелесть поэзии Кнута, но в этом же и ее опасные срывы. Она не знает границ и запретов, дозволенных и недозволенных слов. Но так значительна и глубока внутренняя жизнь стихов Кнута, – от них веет первобытным «допотопным» ветром из просторов тысячелетий, – что не замечаешь ошибок.
И кажется: стихи его беснуются, стонут, кричат и вещают под тяжестью жизни, ее страданий, ее грязи и откровений духа, который наполняет поэта своим вещим и пламенным дыханьем.
«Довид Кнут (Доклад, прочитанный в Литературном Содружестве 1 ноября с.г.)», За Свободу!, 1931, № 306, 19 ноября, стр.4-5. О заседаниях, на которых был зачитан и обсужден доклад, см.: Н.С. <Нальянч?>, «В Литературном Содружестве», За Свободу!, 1931, № 294, 5 ноября, стр. 5; «В Литературном Содружестве», За Свободу!, 1931, № 304, 17 ноября, стр.3.
Ночные встречи
1
«Быв. рус. офицер. Согласен на какую угодно работу – подметать улицы, рассыльным и проч. Обращаться в редакцию. Иванов».
***
В редакции уже неделю стоял прислоненный к пыльному столбику книг синий простой конверт, на котором латинскими буквами по-детски неуклюже было написано: W.P. Iwanow.
Адреса Иванов не оставил, потому что адреса у «быв. рус. офицера» не было. Сам Иванов не являся. Конверт стоял, морща свое четырехугольное лицо, подмигивая ответственному редактору, когда тот, на минуту отрываясь от спешной статьи, неопределенным взглядом искал чего-то вдоль края стола – мысли или слова.
Кончилось тем, что ответственный редактор однажды протянул с досадой левую руку и перевернул конверт «W.P. Iwanow»-ым вниз. Но на конвертной спине, рассеченной диагоналями разреза, в верхнем треугольнике оказалась печать: Dyrekor teatru rosyjskiego «Pietruszka» A. Makarow-Zawaldajski...
С этого вечера конверт исчез с поверхности стола, погребенный под пластами «Рулей», «Последних Новостей» и «Возрождений». И смутная память о нем осталась у одного ответственного редактора.
А в конверте было письмо.
А в письме – спасение ли, окончательная ли гибель – новый толчок в новую неизведанную страну жизни:
«Милостивый Государь
г-н Иванов!
Прочитав Ваше объявление, осмеливаюсь предложить Вам скромное место в моей вновь организуемой труппе. Я готовлюсь к турнэ по Польше и мне нужен заведующий технической частью. Надеюсь, что при желании и добросовестном отношении к делу Вы, М.Г., справитесь с этой несложной задачей. По получении от Вас положительного ответа деньги на дорогу будут немедленно высланы.
Директор театра “Петрушка”
А. М-З-.»
2
Мир, огромный, сотрясающий сознание, толкающий страшными своей мерною последовательностью ударами сердце, мир, пробегающий ласковой теплотой по всем трепещущим жилкам человеческого звереныша-тела, бьющий в зрение красками и брызгами сжигающих огней, несущийся мимо слуха толпою голосов, шелестов и дыханий...
– мир этот, оказывается, можно вывернуть, как перчатку.
Это трудно только сначала, пока не соскочил крючочек, связывающий с громоздким глухим ящиком скамейки, на которой скорчилось то, чему холодно, мучительно неудобно, – что свое томление называет голодом, сном и болезнью.
И странно – если смотреть прямо перед собою в смешение медленно движущихся мимо рукавов пальто, шляп, пуговиц, ботинок – крючочек никогда не соскочит, но всё острее будет впиваться в живое корчащееся страдание.
Но если опустить глаза вниз, туда, где в цветные полосы каменного вокзального пола вонзился серый треугольник – основание треугольника – плечи, стороны – протянутые рукава, брюки, а вершина – обтрепанный мокрый носок ботинка – только всмотреться в этот треугольник неподвижного кровного своего, – крючочек соскакивает, и свободная неизъяснимая радость, покачиваясь, как детский цветной шар, отделяется, относится, взлетает. В то же время мир выворачивается наизнанку, где в пустоте только одно действительно есть, одно истинно существует – легкое безвесное клубящееся стремление.
***
Узкая стрелка ползет, как черная выгнутая змея, по лику бледного, искаженного ужасом циферблата. Иногда она, остановившись, впивается жалом в лоб; иногда взмахивает в воздухе и падает на его вздрагивающие отвращением и болью губы.
Так длится бесконечно. В пустоте протянуты, распластаны века, и черная скользкая змеиная стрелка со злобным шипением бьет хвостом и, впиваясь в него, жалит и жалит бледный, перекошенный ужасом и болью лик времени.
И какое блаженство, какая легкость скользить мимо этого жестокого призрака жизни.
***
Стремление, наполняющее пустоту! Ваше божественное величество дух! Это вы из ничего слепили голубой шар неба, вы бросили в бесконечность горсточку белых искр, вы из сгустка крови создали трепетное, желающее живое, теплую склизкую плесень жизни? Кто вы! Отбросьте свою целомудренную стыдливость. Явитесь, шаркните ножкой и представьтесь, наконец, мне – видящему, мне – слышащему, мне – требующему, чтобы вы не играли в прятки со мною!
Кто вы? Иванов, у которого уже три месяца как просрочен документ, Иванов, который спит на вокзальных скамейках, а от двух до пяти, когда вокзал закрыт, блуждает по улицам, неся с собою подвывающего от голода, тоски и страха зверька – где-то там в серединке – в желудке ли, в сердце ли или еще глубже?
Это по вашей милости вместе с золотыми звездами и любовью были созданы просроченные документы, вокзалы, мокрые ночные камни Маршалковской и Нового Света?
Но если это создали вы, а вы во мне, и вы – я, Иванов, – почему же меня, этот дух, эту вечную творческую великую мысль, не обращая на нее никакого внимания, давит мокрым грязным брюхом – в клетку, как брюхо удава, колесо созданной ей же машины – жизни?
***
2 часа ночи.
Пружинка отсчитала срок, пружинка равнодушно щелкнула в замке вокзального рая, и вечный дух, как бесприютная собака, выгнан в каменную городскую ночь.
За ними медленно тащится неуклюжее, онемевшее на жесткой скамейке тело.
Человеческое сытое окровавленное счастье спрятано в камень, ощерено пиками решеток, затянуто железными шторами. С хохотом и свистом оно проносится мимо в пылающих чревах стальных коротконогих чудовищ. Нагло задрав голову, засунув руки в карманы, беспечно проходит мимо, совсем рядом, иногда толкая того, от чьего, – может быть мгновенного, – желания зависело вызвать их всех к жизни, как призрак.
О, как вы спокойно проходите мимо! И вы не боитесь моей любви?!. моей любви, создавшей всю эту блестящую игрушку мира, от которой вы покатываетесь со смеху, воете, корчитесь, сходите с ума, уничтожаете друг друга.
А что, если моя любовь превратится в ненависть!
Какова же будет моя ненависть, если такова была любовь?
Вы думаете, что заслонились от моей воли, от моего нового вмешательства в земные дела – полицией, штрафами и тюрьмою. Но в тюрьме только накормят и успокоят зверюшку, живущую рядом со мной в усталом теле Иванова. Эта паршивая загнанная собака, которую пинают отовсюду ногами, сначала даст волю своему бешенству, взгрызшись в чье-нибудь сытое жирное горло, а потом ее за это отведут в тепло, напоят, накормят и укажут ей нары, где можно растянуться, а не сидеть скорчившись, с тревогой следя за минутной стрелкой вокзального ночного часа.
Дама в меховой шубке, вцепившись своими птичьими лапками в сумочку с губной помадой, пудрой и деньгами, быстро бочком сворачивает на Королевскую. На Королевской темно; по мокрому тротуару тянутся вдали тени от случайных прохожих. Еще не поздно догнать двумя шагами, вежливо поднять шляпу, протянув руку к сумочке, и когда ее глаза округлятся и крашеные губы перекосятся страхом, – вырвать эту лакированную сумочку с помадой, пудрой и деньгами и бить ею по визжащему лицу, за подленькую мысль, мелькнувшую в нем, его страх за свое птичье благополучие...
Нет, вы знаете своим бесовским осколочком разума, что я опутан собственною любовью. Что созданное мною обратилось против своего творца.
А из ненависти моей выйдет только пошлый уличный скандальчик – чей-нибудь негодующий разбитый нос, толпа, в азарте любопытства наступающая друг другу на ноги, протокол...
Нет, не может быть! Это ложь! Я не создавал этого. Слишком бессильна и мала моя ненависть, чтобы была она моею...
***
В витрине – огромное квадратное белое лицо с кругом монокля вместо правого глаза. Под нею по лестнице, затянутой желтым атласом, сходят новобрачные парочки – блестящие изящные туфли. И возле каждой парочки маленькое повторение того же белого квадратного лица с кругом монокля вместо правого глаза.
С ужасом расширенными глазами Иванова я смотрю на этот призрак.
Вот, наконец, блуждая веками по земле, я увидел настоящий образ того – другого. До сих пор я не верил в него, считал его своей частью. До сих пор он прятался от меня под личиной неясного, отвлеченного.
Сатана, Искуситель, Лукавый, Мефистофель – всё это безóбразное, нашептывающее неслышным шепотом даже не на ухо, а в затылок, шевелящееся бесформенно где-то в глубине, на самом дне видимого осязаемого мира.
Но оно бродило, оно формировалось, самозарождалось и вот – передо мною уже не плоть, случайная текучая плоть воплощения – передо мною уже вычеканенный тип – образ, обведенный по квадрату на белом плоском куске картона. Это его лик, а вокруг кишат, спешат куда-то в своем плоском картонном бесцветном мирке его бесчисленные квадратные отражения.
***
Теперь я знаю.
Мной было в муках выкинуто в жизнь трепетное, хрупкое, любящее, страдающее и обреченное смерти.
Но пришел он, гримасничающая обезьяна, и, упершись в ствол своею длинной задней рукою, выломал острую палку и жеманно подал ее человеку.
И человек взвесил ее в руке, подкинул и, наивно взглянув в лукавую обезьянью морду, рассмеялся.
Человек был свободен, потому что он был мною, а я был им. Но в этот час он стал рабом обезьяны – своего жестокого и безумного господина.
Из этой обезьяньей палки, вскоре окровавленной первым убийством, вырос пылающий каменный город, где под грохот машин шествует наглая бледная квадратная харя с кругом монокля вместо правого глаза.
Его мерзкое жирное тело, пахнущее потом сквозь дешевый одеколон и пудру, вытеснило незаметно меня из мира, как вытесняет наглец, наступая на ноги, оттирая, заслоняя собою. Но легкими клубами я продолжаю носиться над миром живой движущейся материи, погружаясь в тех малых, кто отверг того или кого тот сам отверг.
Беглые рабы, те, кого невзлюбил он – в падении, в отчаяньи, в страдании и смерти – в них погружаю я свои руки, мочу свои запекшиеся губы, как путник, легший над источником и приблизивший лицо к его чистой прохладе.
***
Эй, Иванов! Бывший офицер Иванов, готовый подметать улицы и на что угодно! Ночующий на вокзале. Изучивший ночной каменный очерченный прямоугольник – Маршалковская, Королевская, Краковское, Новый Свет, Иерусалимская – полтора убитых черных часа... Слышишь ли ты меня?
Ты теперь знаешь, кто я.
Такой же несчастный, бывший, скитающийся дух, как и ты; ночующий на вокзале, откуда отходят в мир человеческие жизни – идущий по прямоугольнику ночных улиц навстречу тебе.
С высокой лестницы костела я иду, нагибаясь под чугунным крестом, и рука моя протянута вперед.
Мимо, не видя меня, порою из вежливости кланяясь мне, бегут, бегут призраки, проносятся машины и исчезают за краем своего плоского бесцветного мира – во тьму.
А мы идем, расходясь, и опять встречаемся здесь, на Краковском, под стенами костела.
Неужели ты бы продал радость этой ночной встречи, продал бы меня за бутерброд с жирным куском ветчины, за кусок душистого мыла, за мягкую постель и пару чистого белья, за ощущение тепла, за лживый шорох газеты...
...за кругленький блестящий кусочек, звонкий волшебный камушек – злотый!..