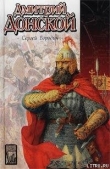Текст книги "Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3"
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
4
– Ты видишь, мне нужны силы на двойную борьбу – борьбу с врагом и борьбу с самим собою... Я давно, очень давно – устал.
– Устал физически от бесцельных скитаний, от бесплодной работы, от непрерывных лишений, от истощающего труда...
– Устал нравственно – устал выносить всю тяжесть памяти, которую переполняют несмываемые жестокие картины прошлого – войны, революции, изгнания. Всё, что я видел, что слышал и что пережил, выжгло, опустошило мою душу, и теперь ее не радует радость и не огорчает горе.
– Я называю это отчаянием усталости. И мне иногда кажется, что ты со всей своею многолетней мудростью моложе меня. Ты живешь в мире идей, я же давно мечтаю об одном физическом зверином отдыхе в то время, как нужда гонит меня беспощадным бичом от одного человеческого унижения к другому.
– Ты в свое время, сказочное для меня, жил, не ценя этого, культурною жизнью; выбирал любой путь среди человеческих благополучных путей. Ты говорил: моя жизнь, моя семья, мой дом, – не зная, какой недостижимой мукой могут звучать эти простые, доступные каждому человеку слова для меня, с юности своей бездомному изгнаннику.
– Ты воспитал свою мудрость в удобной гостиной с мягкой мебелью и пианино; ты выкормил ее за чистым и обильным столом в приятных беседах.
– Мое же безумие ночевало под мостом в зловонных каналах рядом с безобразными нищими, и мы с ними часто голодали, бродя в бесплодных поисках работы.
– Не удивительно, что, изнемогая от истощения и усталости, я видел перед собою сладкие миражи тихой уютной жизни, домашнего очага, нежной жены, мирной работы; что здесь, на этом жутком поле в ожидании битвы, сердце мое сжимается, душа ослабевает и я не нахожу в себе силы к борьбе... [73]73
Ср.: В. Бранд, «Насилие (Ответ Л.Гомолицкому)» и Петр Прозоров, «За меч обнаженный (Ответ Л. Гомолицкому)», За Свободу, 1931, № 210, 10 августа, стр.6.
[Закрыть]
За Свободу!, 1931, № 201, 1 августа, стр.3. Статья упомянута в кратком обзоре публикаций о Блоке – А. Б<ем>, «Литературный блокнот», Руль (Берлин), 1931, 4 сентября, стр. 5.
Вещая тень. К десятилетию смерти А.А. Блока (7 августа 1921 г.)
1
Если бы Блок жил в период расцвета своего народа, – он был бы одним из тех поэтов, которых Шелли назвал непризнанными законодателями мира. Вся внутренняя глубочайшая деятельность его прошла бы в создании новых всечеловеческих идеалов. Невольная вечная музыка, звучавшая в его душе, оделась бы в величественные формы, и влияние его на умы и сердца людей своего и последующего поколений было бы умиротворяюще и плодотворно.
Но поэт пришел накануне величайшей трагедии своего народа, и вся не поддающаяся учету моральная сила его растратилась на предчувствие близящейся катастрофы, а он сам вместо «законодателя» стал «пророком».
И вся фигура поэта выросла в торжественный символ, а его поэзия стала нашей национальной песней песен о трагической любви русского народа и революции.
Теперь, когда уже «свершился дней круговорот» [75]75
«Всё это было, было, было...», 3, 92.
[Закрыть], поражает то, что Блок предчувствовал вместе с радостью приближение Великого, и страх перед тем, что оно изменит свой светлый образ; что, беря первые аккорды на своей «гневной, как секира» лире [76]76
«Всю жизнь ждала. Устала ждать», 2, 197.
[Закрыть], он уже знал, что в напевах его юной музы есть «роковая о гибели весть» [77]77
«К Музе (“Есть в напевах твоих сокровенных…”)», 3, 7.
[Закрыть]. В то время, как все вокруг него с трепетом вожделения и страха, тысячу раз сомневаясь и уверяясь опять, ждали событий, он уже «тихо знал» не только то, что события несомненно придут, но и то, что они будут губительны и катастрофичны:
Этого потрясающего сознания не перенесла бы душа поэта, если бы он, как пророк, не ощущал над «таинственной пошлостью» и «неприглядным ужасом» жизни веяние высшей разумной Воли.
Поистине слова эти бессмертны и переживут не одно поколение, «рожденное в года глухие» [80]80
3, 187.
[Закрыть] – неземные силы нужны нам, а кому не даны они – тот погибнет на полдороге.
2
Блок не только «приклонял с вниманьем ухо» и «чутко ждал» [81]81
«Не жди последнего ответа...», 1, 69.
[Закрыть], он и читал в своих виденьях причины роковой катастрофы. С тоскою сознавал он, что прах недостоин пришествия Прекрасной Дамы, умея «любить Ее на небе и изменять Ей на земле» [82]82
«Кольцо существованья тесно...», 3, 50.
[Закрыть]; что, как охапка сорной сухой травы, ослепленный народ будет сожжен сошедшей на землю зарею, которая, сжигая, сама превратится в смрадное зарево.
Можно в книгах Блока найти много полновесных и потрясающих слов предостережений, но одно стихотворение написано им в самую жуткую минуту его пророческого вдохновения. В этом стихотвореньи поэт говорит от лица тех стихийных сил, которые, как клубы хаоса, сверкая молнией и ударяя мечами в доспехи грома, приближались к притихшей в ожидании грозы России.
Фиолетовый запах гнетет,
Как пожатье десницы свинцовой.
Мы летим неизменно вперед –
Исполнители воли суровой.
Нас не много. Все в дымных плащах,
Брызжут искры и блещут кольчуги.
Поднимаем на севере прах,
Оставляем лазурность на юге.
Ставим троны иным временам –
Кто воссядет на темные троны?
Каждый душу разбил пополам
И поставил двойные законы... [83]83
2, 39.
[Закрыть]
Вот эти разбитые пополам души, эти двойные законы ослабляющей любви и помрачающей ненависти сделали то, что мы запутались в самих себе, а в момент, когда налетела буря, мы бессильно закружились в ее кровавом вихре.
Как у Блока, во всех нас рядом с верою в вегетарьянское царство непротивления, рядом с этим ягненком евангельского рая, в одной клетке умещалось – и умещается до сих пор – сознание необходимости и оправдываемости насилия, этот волк, плотоядно проповедующий справедливость.
Ведь –
Можно ли любить с таким запасом презрения в душе? и как – с кровавым мятежом следовать в кроткое бескровное царство христова идеала?
Здесь есть гибельное, роковое противоречие, которое до тех пор будет истощать наши силы и связывать наши руки, пока мы, наконец, сознательно не изберем или то, или другое: либо кровь возмездия, либо «яд нежности».
Что-то решительное должно будет произойти в наших душах. Дальнейшее пророчество Блока оптимистично: «будет день – и свершится великое, чую в будущем подвиг души» [85]85
1, 82.
[Закрыть].
Я не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна [86]86
«На поле Куликовом. 2. “Мы, сам-друг, над степью в полночь стали...”», 3, 170-171.
[Закрыть],
говорит он, но –
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви [87]87
«Сиенский собор», 3, 78-79.
[Закрыть].
............................
Как зерна злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
Лелей, пои, таи ту новь,
Пройдет весна – над этой новью,
Вспоенная твоею кровью,
Созреет новая любовь [88]88
«Я ухо приложил к земле...», 3, 58.
[Закрыть].
3
Уже только из этого поспешного, легкого прикосновения к «вещей тени» видно, насколько фигура Блока для нас сейчас близка – так близка, как не была близка еще никогда и ни для кого.
Как всякий истинный пророк, он вырастает по мере того, как сами события подтверждают одно за другим его прежде невнятные и сомнительные пророчества. И только в будущей России поэт вырастет до настоящих своих размеров.
Странно подумать, что за эти десять лет своего небытия он стал для нас живее и ближе, чем был при жизни для людей, встречавших его лично и живших в одних с ним условиях быта.
Он стоит здесь, меду нами, и требует от нас, чтобы мы поняли его судьбу, которую он обронил под тяжестью предчувствованных им событий, подняли и понесли дальше, всё к той же светлой цели, идя за огненной весной.
За Свободу!, 1931, № 209, 9 августа, стр.3.
Крылатый брат. Н.С. Гумилев
(Доклад, прочитанный в Литературном Содружестве 20 сент. 1931)
1
Гумилева принято противопоставлять Блоку. Причем противопоставление это, кстати сказать, неблагоприятное для Гумилева, дается обычно в плоскости не всегда глубоких исследований их поэтических вершин и падений. Если Блок само искусство, – Гумилев искусность; если поэт Прекрасной Дамы провидец, пророк, то «поэт и воин», одержимый рыцарь музы дальних странствий – всего лишь художник, мастер, маэстро.
Собственно, это недобросовестное, но очень удобное своей скользящей по поверхности легкостью суждение незаметно навязали сами поэты. «Да, был я пророком», – говорил Блок [92]92
«Ну что же? Устало заломлены слабые руки», Блок, 3, 28.
[Закрыть] с уверенностью, прощаемой только сумасшедшим или истинным пророкам. Весь бросающийся в глаза пафос его поэзии основан на ее пророчески повышенном тоне.
У Гумилева же:
«Мастер» – любимая маска Гумилева, под которую он прячет свою душу, «в которой звезды зажглись», но надо быть очень близоруким, чтобы поверить ему на слово и проглядеть самое важное в Гумилеве – его интимнейшее, сокровенное – тайную торжествующую духовность.
Гумилев стыдлив, он боится открыть свое святая святых чужим взорам, но свет его, как свеча, укрытая в ладонях, проникает сквозь живое тело – сквозь кровь и кожу неплотно сомкнутых пальцев и освещает таинственно преображенное этим светом лицо его – воина и поэта.
2
Тогда как кажется, что все откровения Блока – это хаос, возмущенный против логоса, бунтующая против власти духа, – поэзия Гумилева рождена христианской. Дух в ней мирно господствует, и мир земной – так излюбленный ею – подчиняясь господству духа, сам озарен и освящен его властью.
В чем же, как не в этом, главное очарование поэзии Гумилева, тот восторг, которым потрясают его стихи душу. Красота грубая, земная не потрясет душу восторгом, потому что душа не может быть поражена тем, что ниже ее, что подчинено ей. Ее умиляет только равное, а восторгает напоминающее ей о ее бессмертии.
Ключ к Гумилеву – воля, именно та воля, которая преломляет в себе божественную творческую Волю.
Расцветает дух, как роза мая,
как огонь он разрывает тьму.
Тело, ничего не понимая,
слепо повинуется ему [94]94
Журнальный вариант стихотворения «Война» (1914).
[Закрыть].
В дикой прелести степных раздолий,
в тихом таинстве лесной глуши
ничего нет трудного для воли
и мучительного для души [95]95
«Солнце духа», 1915, Колчан.
[Закрыть].
Здесь, а не в пресловутом искусстве для искусства, причина универсальности Гумилева. Каждый миг жизни, каждый луч, каждый вздох, каждое движение во времени и пространстве он преломил в своем творчестве – он вместил в себя всё, победив «убогость человеческой жизни», потому что был тем, «кто любит мир и верит в Бога» [96]96
«Фра Беато Анджелико», Колчан.
[Закрыть].
3
«Крылатый брат», «крылатая душа» – любимые образы Гумилева. Да, душа его была крылатым братом.
Ко мнe нисходят серафимы [97]97
«Я говорил: “Ты хочешь, хочешь...», Жемчуга.
[Закрыть] –
говорит поэт, и мы верим ему. Он должен был беседовать с небесными духами, потому что сам был из мира иного. Так преображать мир в себе, как делал он, петь такую «осанну» одухотворенному земному, куда переброшен «светлый мост» из невидимого мира, мог только ангел, воплотившийся в поэта. Те «девственные наименованья» [98]98
«Роза», Костер.
[Закрыть], которые он знает, – ангельский небесный язык, служащий ему для беседы с Богом.
Храм твой, Господи, в небесах,
но земля тоже твой приют.
Расцветают липы в садах
и на липах птицы поют.
Точно благовест твой весна
по веселым идет полям,
и весною на крыльях сна
прилетают ангелы к нам.
Переброшен к нам светлый мост
и тебе о нас говорят
вереницы ангелов звезд,
что по-разному все горят [99]99
«Канцона вторая», Костер.
[Закрыть].
4
«Выше горя – и глубже смерти жизнь» [100]100
«Эзбекие», Костер.
[Закрыть].
Так сказать можно только о той жизни, которая не подчинена судьбе и не кончается со смертью. Наоборот, все потрясения и катастрофы, «вызывающие» из низшей жизни «тесной, из жизни скудной и простой» [101]101
«Я вырван был из жизни тесной…»,К Синей Звезде.
[Закрыть] к жизни высшей лишь служат знаками Божиими, напоминающими душе о ее ангельском происхождении, служат ее верным щитом.
И только горе мой надежный щит,
говорит душа у Гумилева [102]102
Ср. первое стихотворение из цикла «Душа и тело», Огненный столп.
[Закрыть].
Смерть для него – последнее торжество духовного над косной и ограниченной материей. Прах возвращается к возлюбленному праху, а ангел, живший в комке земной плоти, взмахнув крылами, с пением «осанна» возвращается на свою родину – на небо. Поэт не бежит смерти, не прячется от ее неумолимого взора, но молится о ней – «о смерти я тогда молился Богу». И смерть представляется ему откровением –
Каменный застывший мир, однообразный в движении и неподвижности, подчинен огню и дыханию Духа. Горе – смерть – любовь – то, что сотрясает эту каменность, возмущая хаос для того, чтобы за нею клубами обнажился вечный строй гармонии, мир «единый необманный» из ангельских песен и пламени последнего огненного крещения.
Любовь у Гумилева либо Беатриче: искупающее всё низменное и возрождающее его к небесному (вспомните того нищего художника, который жил
либо «Троя, разрушенная Ахейцами» – сильнее смерти, страшная разрушающая сила, огонь сожигающий – но в обоих случаях любовь для него освобождение души из уз праха.
Во всем строе души Гумилева есть что-то ангельское, неземное. Он беседовал с серафимами –
ко мне нисходят серафимы.
Он мог смело сказать про самого себя:
Что же это за дух в мире материи – и заметьте, не отрицающий ее, но утверждающий и освящающий ее каждым своим взглядом и прикосновением.
Не напоминает ли нам его душа другую душу тоже воина и поэта, слишком рано покинувшую этот мир противоречий, чтобы найти свое умиротворение? Я говорю о трагической тени Лермонтова.
Не вернулся ли лермонтовский демон на землю в образе гения нового поэта, чтобы пройти до конца назначенный ему путь от падения, через исступление мукой раздвоения к прощению и возврату на свою небесную родину? Змеиная мудрость увлекла его в бездну, обрекла на вечную неутолимую тоску по кротости голубиной; то, что должно было быть единым, томилось в разделении, пока не исполнились сроки небесного правосудия. И вот изгнанный дух возвращается в семью ангелов, мир становится Богом, а Бог миром.
В одном из стихотворений Гумилев «грозный серафим» (кротость голубиная) некогда говорил «тоскующему змею» (змеиная мудрость):
Тьмы тысячелетий протекут
и ты будешь биться в клетке тесной,
прежде чем настанет Страшный Суд.
Сын придет и Дух придет Небесный.
Это выше нас, и лишь когда
протекут назначенные сроки,
утренняя грешная звезда,
ты придешь к нам, брат печальноокий.
Нежный брат мой, вновь крылатый брат,
бывший то властителем, то нищим,
за стенами рая новый сад,
лучший сад с тобою мы отыщем.
Там, где плещет сладкая вода,
вновь соединим мы наши руки,
утренняя, милая звезда,
мы не вспомним о былой разлуке [106]106
«На путях зеленых и земных…», К Синей Звезде.
[Закрыть].
То, что знал уже тогда грозный изгоняющий змея серафим, исполняется, потому что исполнилось в душе поэта. Назначенные сроки протекли, настало огненное крещение, и «за стенами рая» – на земле – слились воедино мудрый змей и кроткий голубь, чтобы никогда не вспоминать о «былой разлуке».
За Свободу!, 1931, № 257, 27 сентября, стр.3-4. Ср.: С.Б., «В Литературном Содружестве», За Свободу!, 1931, № 252, 22 сентября, стр.4. Ср. также: С.Нальянч, «Гумилев», За Свободу!, 1931, № 261, 1 октября, стр.4-5.
История одного родства. Гальшка, княжна Острожская и Дмитрий Сангушко
1
Короткий эпизод неудачного и так трагически кончившегося родства между влиятельными в Польше русскими родами князей Острожских и Сангушек был описан вскользь и между прочим уже не раз русскими и польскими историками и в разное время. Кроме того, вся романтичность этого эпизода привлекла внимание писателей, драматургов и поэтов, которые, в различной степени зная историю Польши того времени и историю родов Острожских и Сангушек, с большей или меньшей добросовестностью относясь к своему делу, писали поэмы, романы и драмы. В этих произведениях, писанных в романтический период литературы, больше, чем исторической правде, уделялось внимание придворным интригам, отравлениям, красоте героини, пылкой страсти, опасному соперничеству, похищению, погоне и прочим атрибутам европейской романтики.
Так, например, в одном романе описывается сцена похищения княжны Острожской следующим неправдоподобным, невозможным и не оправдываемым здравым рассудком способом: княжна якобы была спущена на связанных шнурах из второго этажа башни, до сих пор сохранившейся в Остроге, причем романист упустил из виду, что в окне этом вделана толстая решетка, что под окном находился в то время глубокий ров и дома службы, в свою очередь искусственно окруженные рекою, так что в эту сторону беглецам дороги не было и не могло быть; к тому же в башне этой, в которой находилось роковое окно, князья в то время не жили, потому что башня исполняла роль крепости во время осады, а жили князья в доме, громко называвшемся палаццо, соединенном с крепостью перекидным через ров мостом.
На самом деле не только связанных шнуров, темной ночи, замка, безумной страсти, преодолевающей препятствия, не было, но не было никакого похищения, и всё произошло гораздо проще, как и всегда случается в действительной жизни, но именно потому сама драма кажется страшнее, жесточе и бессмысленнее, так как нет ничего страннее, жесточе и бессмысленнее действительной жизни, когда она не оправдана любовью, но всё ее сложное, трудное и непрочное здание построено на песке человеческих страстей и нелепого случая, владеющего нашей судьбою.
Центром трагедии, соединившей и погубившей две молодые жизни – одну четырнадцатилетней княжны Гальшки Острожской, другую в расцвете всех своих духовных и физических сил Дмитрия Сангушки, – было убийство Дмитрия Сангушки; начало же ее следует искать за тридцать лет до развязки в таком обычном и, казалось, не имеющем ничего общего с этой развязкой деле раздела между наследниками имущества князя Константина Ивановича Острожского.
2
Константин Иванович, один из князей Острожских, могущественных польских магнатов, князей русско-литовских, равно упоминаемых в истории России, Литвы и Польши, известен как гетман литовский, победитель под Оршей, заселивший свои земли татарами, взятыми в плен под Каневым в 1527 году; получивший от польского короля право припечатывать свои бумаги червонной печатью и другие привилегии за свои послуги Речипосполитой.
Кроме сына Василия, у Константина был другой сын, старший, от первой жены, Илья, женатый на католичке, Беате из Костельца, дочери подскарбия великого коронного Андрея Костелецкого и Катерины из Тельнич, красивейшей женщины в Польше. Беата эта была воспитанница и любимица королевы Боны [107]107
Говорят, что Катерина Tельнич была королевской наложницей и Костелецкий женился на ней по приказанию самого Сигизмунда. Крашевский безо всяких сносок рассказывает по этому поводу следующий анекдот, что после этого факта, когда Костелецкий вошел в сенат, сенаторы встали с мест и сказали: «Nie chcemy zasiadać z tym, który imię nasze tak upodlił, iź je dał nałoźnicy królewskiej», Kraszewski «Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy» Wilno 1840 r.; III, 155.
[Закрыть].
По смерти старого князя добра его были поделены между сыновьями так, что всё получил старший Илья, а Василий, впоследствии собиратель Острожского княжества, получил только земли, входившие в приданое его матери – Туров и Тарасов, около Слуцка [108]108
Archiwum Ksiąźąt Sanguszków v Sławucie. Lwów 1884-1910; III, 385.
[Закрыть].
По необходимости покорившись решению королевской комиссии, заведовавшей разделом, Василий, тогда еще мальчик, уехал с матерью в Слуцк, но крепко затаил в себе думу вернуть родовые ключи, как назывались главные центры имений, объединявшие земли, дворы и доходные статьи, и прежде всего вернуть принадлежащую ему по праву часть ключа Острожского, со всеми его укреплениями, лесами, выгонами, охотами, дворами и доходами. С этих пор до зрелого возраста все его мысли направлены на собирание отцовских земель, которые вскоре почти все оказались в чужих руках. Оказались же они в чужих руках, и прежде всего в руках ненавистной ему католички Беаты, потому, что брат Илья, не прожив и года с молодою женой, умер, записав на ее имя замок Ровно, с городом и дворами, замок Степань, Сотиев и Хлопотин [109]109
тж. IV, 204, 209.
[Закрыть] и закрепив в тестаменте (завещании) следующую свою волю:
«...если бы жена родила (ожидается плод) сына или девку и я ее не дождался, то жена моя имеет сидеть на зeмлях моих на половину с братом моим кн. Василием и имениях матери, а брат на них вступать не мает» [110]110
тж. IV, 209.
[Закрыть]. Илья умер спустя неполных десять месяцев после женитьбы [111]111
1 октября 1539 года о нем уже говорят как о мертвом (Arch. Sang. IV, 215), а женился он в январе того же года; тестамент же его писан 16 августа (Arch. Sang. IV, 209).
[Закрыть], в полном расцвете сил, 28 лет от роду, не дождавшись рождения своего ребенка. К концу 1539 года у Беаты родилась дочь Гальшка-Ельжбета [112]112
Некоторые называют ее Ельжбета, так же именует она себя в своих письмах. В актах же она называется всюду Гальшка.
[Закрыть]. Последовал вторичный раздел между наследниками, по которому Беата получила львиную долю. Василий же мало выиграл, приобретя несколько второстепенных имений и вечные судебные тяжбы с Беатой из-за Степаня и Ровно [113]113
За продолжительностью тяжбы в Ровно это именье отдали в секвестр королю. Сигизмунд присудил его Беате и Гальшке. Подтверждение тому в 1547 году.
[Закрыть].
По новому разделу Гальшка получила в приданое роковые для нее четыре замка – четыре города: Полонное, Красилов, Чуднов и Острог [114]114
Arch. Sang. IV, 313.
[Закрыть]. Пока же ребенок достигнет совершеннолетия, управлять этими имениями назначался опекун его – в данном случае та же Беата.
Недаром Беата по-латыни значит счастливая.
Вскоре вокруг Гальшки Острожской появляются ее многочисленные женихи. Среди них были такие влиятельные польские магнаты, как Зборовский, Гурко, воевода познанский, и Симеон Слуцкий, князь литовский.
Но Беата жила замкнуто, меняя глушь дальнего острожского имения на краковские монастыри, редко показываясь с дочерью в свете, и всё медлила под всевозможными предлогами склониться в сторону того или другого жениха, точно боялась упустить из своих рук опекаемое приданое дочери.
К этому времени Василий Острожский переселился по соседству с Острогом и жил в Ровно, вблизи наблюдая за каждым шагом Беаты. Он вполне основательно боялся брака Гальшки с кем-либо из польских магнатов, так как такой брак навсегда бы отлучил от рода Острожских их главные имения, и потому Василий давно уже задумал и ждал только случая привести его в исполнение один план, который заключался в том, чтобы выдать племянницу за своего человека, который, женившись на ней, уступил бы ему города и крепости, входящие в ее приданое. И такой человек нашелся. Был это молодой князь Дмитрий Сангушко. Сангушки издавна числились имениями Острожских; дед Дмитрия, Андрей, управлял имениями Острожских, когда Константин Иванович был в семилетнем московском плену, после несчастного сражения под Ведрошей; с отцом же Дмитрия, Федором, Константин Иванович одержал известную каневскую победу.
Дмитрий Сангушко, вернувшись из похода против татар, посетил князя Василия, и здесь между молодыми князьями было решено свататься Дмитрию за Гальшку.
Князь Василий, насчитывавший тогда уже без году тридцать лет, был смугл лицом, коренаст и предрасположен к полноте. Дмитрий же с обветренным, выжженным степным солнцем лицом казался тем, чем он был – молодым воином, уже испытавшим прелесть свободы и опасности в походе и сечи.
Дмитрий, не медля, сделал предложение, написав Беате, которая сразу же почуяла опасность, но прикинулась ничего не имеющей против сватовства и только просила подождать – дать время обдумать и посоветоваться с Его Мостью Королем. Ссылалась же она на короля на том основании, что он в тестаменте мужа значился главным опекуном ее дочери, как это тогда было принято делать в некоторых тестаментах.
Гальшке в то время было четырнадцать лет. По обычаям ее времени выдавать замуж с двенадцати лет, была она на выданьи; обручена же она была с детства с Дмитрием Вишневецким, впоследствии замученным в турецком плену в 1562 году. Обручен был и Дмитрий Сангушко с княжной Полубенской, и это явилось первым препятствием, представившимся князьям, потому что дед княжны Полубенской, Иван Горностай, подал жалобы на Дмитрия королю, узнав о сватовстве. С другой стороны, Беата тайно просила заступничества у короля.
Князь Василий писал Дмитрию, отъехавшему в Черкассы, и звал его вернуться, задумав иной, более простой и быстрый путь. Осенью 1553 года Дмитрий приехал из Черкас игрушкой страстей чужих и своих, влекущих его к трагической развязке...