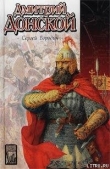Текст книги "Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3"
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Скит
Пражский «Скит» выпустил небольшой сборник стихотворений. Судя по цифре I, стоящей на обложке, и по обещанию в конце книжки, в перечне изданий «Скита», – ожидаются следующие выпуски, которые будут выходить непериодически, по мере сил и возможностей издателей. А возможности эти, по-видимому, ограничены. В первом сборнике 20 страниц, на которых теснятся 7 «скитников» – поэтесс и поэтов. Но даже и эти 20 стр. напечатаны в количестве 200 экземпляров.
Сборник «Скита» – первая попытка этого литературного объединения вынести на суд свою уже давно ведущуюся, упорную внутреннюю работу. Чувствуется в сборнике любовь к поэзии, настоящая школа.
Лучшее в сборнике – стихотворение Вячеслава Лебедева «Звезда Атлантиды», которое мы перепечатываем в сегодняшнем номере нашей газеты, и стихи Аллы Головиной. Кроме них, в сборнике представлены Вл. Мансветов, Вадим Морковин, К. Набоков, Татьяна Ратгауз и Эмилия Чегринцева, каждый двумя стихотворениями.
Общим для этих стихов, по-видимому, общим и для всего «Скита», является мистический реализм на фоне большого современного города. Поезда, железобетонные небоскребы, антенны, трамваи, дансинг, «безумная ракета, влекущая на розовый марс», негр, играющий на открытой сцене на скрипке, в черных руках которого бьется, трепеща, музыка, «боясь, что небесную силу растратит», – всё это перекрещивается и сливается с иною плоскостью, где царят крылатые созданья, небо, тайна, вечность, творческая духовность.
Форма стихов большинства «скитников» носит следы влияния поэзии Пастернака.
Молва, 1933, № 93, 23 апреля, стр. 4. Подп.: Л.Г.
«Птицы» Аристофана в переделке Б. Циммера и Ю. Тувима в Польском театре
1
Два беженца из человеческого мира, где стало тесно жить человеку от его собственных выдумок – законов, обычаев, налогов, судов, правительств, казенщины, доносов, войн и преступлений, – два афинянина скитаются по миру в поисках спокойного местечка, где бы им дали дышать свободно. Чудаки напрасно обходят древний тесный мир времен Аристофана, ища «приятный город, где отдыхаешь как бы под мягким и толстым одеялом». Они блуждают «без смысла, кружа вокруг самих себя». Но нет такого места на земле, нет желанного выхода из заколдованного круга. И вот в своих блужданиях они заходят в скалистую страну, единственными обитателями которой являются птицы.
Так начинается комедия Аристофана.
Здесь, в птичьей стране, приятелям приходит счастливая мысль основать свой собственный город, столицу царства птиц, окружив его высокой стеною, чтобы не проникла через нее земная зараза. И вот вырастает воздушный город, великолепная утопия, идеальная страна Нефелококкия – город облаков и кукушек – «кукуоблачие», если так позволено мне будет перевести его греческое название. Вскоре по всей земле разносится весть о новом царстве. И на скалы по дороге к воротам Нефелококкии, спеша, чтобы кто-нибудь другой не перебил у них поживы, начинают карабкаться люди, предлагая выгодно продать кто свои дифирамбы, кто новые законы, кто свое искусство морочить и надувать, кто свое безумие. Шарлатаны, судейские крючки, знахари, льстецы, приживалы и проч., и проч.
Но всех их изгоняют из нового царства, в котором живут здоровою практической жизнью, где не нужны суды, раз все его граждане составляют дружную семью, и где единственным законом является справедливая, нелицеприятная и всё разрешающая любовь. Новые господа земли, крылатый хор поет, угрожая изгоняемым: «все эти пресмыкающиеся и жадные существа погибнут от ударов моих крыльев». Покорные же люди приобщаются к жизни воздушного царства – им посылаются крылья.
Но, ставя свои новые законы, птицы встречаются с обветшавшим Олимпом, разучившимся управлять землею, перенявшим у людей все их пороки и недостатки. Между воздушным царством и небом начинается война. Старые боги блокированы, заперты в Олимпе. Их берут измором, не допуская к ним их единственной пищи – подымающегося с земли дыма жертвоприношений. И Зевс уступает, капитулирует перед утопическим царством Аристофана; старая обветшалая религия – перед новой, идущей ей на смену.
Такова фабула греческого оригинала комедии.
2
Ошибочно думать, что есть вечные произведения искусства. Эти драгоценные хранилища человеческого духа, переживая века, как бы выветриваются на сквозняке времени. От них остается только оболочка, в которой новые поколения вкладывают свое, новое содержание. И, в зависимости от этого нового содержания, давно забытое, временное, внезапно вырастает, приобретая власть над человеческими душами и умами, или наоборот: некогда потрясавшее, заполнявшее небо и землю – низводится до суетных интересов человеческого муравейника, унижаясь, падая с вершины своего древнего величия.
Смотря «Птиц» Аристофана в современной переделке, я сознавал, что на моих глазах происходит такое падение. Тем не менее, падение это было величественно. Древний старец, вынесенный из гроба, где он пролежал обобранный святотатцами в своих лучших духовных сокровищах, одним своим унижением свидетельствовал о роковом, последнем опустошении современных душ.
Утопия Аристофана была для древней Греции мистерией, пророчеством новозаветного идеала, который шел на смену обветшавших богов Олимпа и, как казалось тогда, на смену земного несовершенства, погрязшего в пороках и преступлениях. От разорительных войн, от демагогической смуты Аристофан звал в свою облачную страну. Изгнание из нее продавцов законов, душ и дифирамбов напоминает изгнание торгующих из храма. Аристофан недаром говорил, что «поэт для взрослых то же, что воспитатель для детей». Он сознавал свою миссию предтечи нового царства не от мира сего.
Кризис античного мира проходил под знаком духовного напряжения, в поисках вечных идеалов, которые должны были преобразить действительность. Поистине было что-то крылатое, птичье, заоблачное в душах этих последних язычников, расчищавших путь великому Галилеянину.
С тех пор прошли века. Люди по-прежнему недовольны своими земными порядками, по-прежнему ищут новых форм жизни. И ищущим так же близки два гражданина древних Афин, бежавшие к свободным птицам из человеческого рабства. Но плоскость исканий сместилась, всплыла на поверхность, больше уже не перекликается с вечностью. Опаливший крылья, падший Икар, не подымая больше головы к небу, ищет выходов в безвыходной путанице земли. Презрев человека и дух его, он всё же упрямо хочет творить свою «утопию» из этого презренного им материала – всё новые и новые формы социальной жизни. Но создаваемое рассыпается в его руках, и вот уже в хлопаньи крыльев современных утопий, бьющихся в смертельной агонии, слышится грохот последней катастрофы человеческого мира.
Переделка Аристофановской комедии, состряпанная 5 лет тому назад во Франции Циммером [170]170
Бернар Циммер (Bernard Zimmer, 1893-1964) – французский драматург и киносценарист, автор адаптаций классических драматургических произведений.
[Закрыть] и подновленная Юлианом Тувимом, превратила древнюю мистерию в сатиру на демагогию. Их афиняне основывают новое царство, чтобы перенести в него всё то, от чего они бежали с земли: ту же власть, ту же войну, налоги и прочая, прочая. Таким образом, «изгнание из храма» здесь превращается в борьбу ловкого устроившегося плута, не подпускающего к теплому местечку, возле которого он греет руки, других тунеядцев. Бичи сатиры Аристофана повисают в воздухе, бьют по пустому месту. Это какая-то бесцельная жестокая экзекуция, не имеющее оправдания избиение. Но еще тягостнее этого человеческого паноптикума карикатуры небожителей, побеждаемых (во имя чего!) новым царством. Боги, которых Аристофан выводил в своих комедиях, оставались для него богами. И если он посягал на их величие во имя абсолютного идеала, если свобода древних Афин допускала критику, распространявшуюся даже на религию, то всё же момент появления небожителя на сцене был для древнего грека таинством, а не глумлением, не кощунственным маскарадом.
Но можно ли винить авторов переделки «Птиц»? Не они, но их время превратило древнюю мистерию в балаган.
Что сделали Циммер и Тувим? Они только добросовестно перенесли Аристофана на современную почву. Злоба дня: Гитлер, процесс Горгон [171]171
Рита Горгон (Горгонова), хорватка, работавшая прислугой во Львове. Она убила дочь нанявшего ее хозяина, с которым вступила в любовную связь. Шумный процесс, длившийся с 1932 по 1934 год, завершился приговором Горгон к тюремному заключению на 8 лет; в тюрьме она родила дочь.
[Закрыть], падение доллара и т.п. «сенсации», внесенные ими в действие, не могли оскорбить великой тени, так как Аристофан был так же злободневен для своего времени. Но век Аристофана подсказывал ему великие идеалы, а век его реставраторов подсказывает им пустоту, дышащую ядовитыми газами сомнения и бесцельности.
3
Возвращаясь в мирную обстановку зрительного зала Польского театра, где моим благодушным соседям, по-видимому, не слышен подземный гул грядущих катастроф, угрожающих человечеству, и одалживая у них на время внутреннее благополучие и эластичное беззаботное сердце, я могу спокойно наслаждаться художественной стороной зрелища, весело смеяться острому юмору реплик. Редко случается, чтобы всё было так согласно, чтобы не было ни одного ложного шага, ошибки, обмолвки в таком сложном целом, как музыкальная комедия.
Прекрасная ровная игра артистов, кстати, всё молодых с неизвестными именами.
Хочется также отдать должное композитору, режиссеру, балетмейстеру, декоратору, всем этим невидимым зрителю творцам и труженикам, воплотившим в видимые формы замысел авторов.
Но главным украшением постановки являются костюмы, созданные молодым, начинающим выдвигаться польским художником Владиславом Дашевским. Его костюмы людей оригинальны и фантастичны. И вместе с тем они кажутся реальными, их принимаешь, быстро привыкая к ним. Такова сила искусства – оно убеждает в реальности своей фантазии. Все небожители Дашевского сделаны точно из облачной ваты. Мягкие, белые расплывчатые фигуры. Даже дубинка Геркулеса и трезубец Нептуна ватные. Но лучшим является все-таки птичий маскарад. Всё остроумие, вся фантазия художника нашли здесь свое выражение.
Из театра уходишь переполненный впечатлениями. Слух полон птичьим хором, музыкой, звучными стихами Тувима, ослепленный от красок и взволнованный мыслями. Словом, ум и душа наполнены богатою пищей [172]172
Этот абзац, видимо, был вычеркнут Гомолицким из рукописи, но наборщик в газете не обратил на это внимания.
[Закрыть].
Словом, из театра уходишь с умом и душою полными новых впечатлений и мыслей. Слух еще полон птичьим хором, музыкой, звучными стихами Тувима, глаза ослеплены красками; уходишь взволнованный и насыщенный. А это редкий праздник для театрала.
Молва, 1933, № 110, 14 мая, стр.4. О постановке «Ptaki» в Театре Польском – спектакля в двух действиях, переделка Бернарда Циммера в транскрипции Юлиана Тувима (режиссер Александр Венгерко, декорации Станислава Сливинского, музыка Михаля Кондрацкого) – писал Д.В. Философов в статье «Посейдон, Прометей и Юлиан Тувим»:
Отчет о первом представлении давал у нас Л.Н.Гомолицкий. Он обиделся за Аристофана, который будто бы был богобоязненным гражданином афинской республики. По его мнению, новые приспособители допотопных «Птиц»к современному вкусу слишком «по-свойски» обошлись с Аристофаном.
Судить об этом не берусь, я тут не «копенгаген», как выражался один просвещенный большевик. Надо бы пойти к досточтимому проф. Зелинскому. Он бы нам объяснил, почему Аристофан, написавший 23 века назад «Облака», в которых высмеивал Сократа, и «Птиц», в которых высмеивал Олимп, Посейдона, Геракла, Прометея, ученого математика и астронома Менона, – считается богобоязненным, а Сократ, написавший хотя бы «Федона», был объявлен безбожным и отравлен? Сдается, что Аристофан, хотя и косвенно, был причастен к чаше цикуты, испитой Сократом ( Молва, 1933, № 127, 4 июня, стр.3-4).
«Орленок» в кинематографе «Адрия»
Нигде, может быть, так не обнаруживается враждебность областей театра и кинематографа, как в попытках построить кинематографический сценарий на драматическом произведении. Все подобные попытки были заранее обречены на неудачу.
Рамки сцены слишком тесны для кинематографа, театральное действие слишком ограничено пространством и временем, слишком неподвижно для экрана, стремящегося дать настоящую, а не условную, не стилизованную, жизнь. Кинематограф, даже звуковой, не терпит диалогов, того именно, на чем зиждется театральное действие. Он говорит движением, действием и только по необходимости прибегает к лаконическим репликам. Что может быть невыносимее длинных комментирующих действие надписей в немом кинематографе или томительных, связывающих артистов диалогов – в звуковом. С чем легко примиряешься в театре – монолог, декорация, реплики «в сторону», – совершенно невозможно на экране.
Кинематограф – эти ожившие тени жизни – по своей сущности фантастичен. Область его напоминает область сновидений. Потому так хорошо удается здесь воспроизведение неуловимых субъективных ощущений – сна, бреда (например, в «Атлантиде», поставленной по роману Бенуа с Бригидою Хелм в роли Антинеи), или утопий (постановки утопий Уэльса), или, наконец, фантастические картины (хотя бы «Франкенштейн» с Борисом Карловым в роли воскрешенного мертвеца) – как раз всё то, что мало доступно театру, больше того – чего театр по необходимости избегает.
Я помню жалкие попытки перенести на экран Шекспира. При наличии лучших артистов, при громадных затратах на постановку – картины эти оставляли тяжелое впечатление неудачи. Получалось до безвкусия грубо, томительно и скучно. Все специфические приемы драматургов, все театральные эффекты подчеркивались, усугублялись, кричали с экрана, как кричит с экрана грубыми мазками подмалеванная театральная декорация.
То же самое неизбежно должно было повторяться и с Ростаном. Что могло остаться от его пьесы в кинематографе? Самое прелестное в Ростане – живость и остроумие речи – должно было исчезнуть. Самое большее могло сохраниться несколько эффектных фраз. Но вырванные из текста, они должны казаться нарочитыми и производить впечатление фальшиво взятой ноты. Эффектные же положения, вся эта театральная бутафория, которой Ростан так любит разить в самое сердце сантиментального зрителя, в кинематографе, как я уже сказал, невыносимы.
Ко всему этому я был готов, идя на Ростановского «Орленка» [173]173
L’aiglon (1931). Сценарий В. Гертца, П.Ж. Вебера и А. Лишо (Wolfgang Goetz, Pierre Gilles Veber, Adolf Licho).
[Закрыть]. Опасения мои, к сожалению, оправдались.
Ставил «Орленка» Туржанский [174]174
Вячеслав Константинович Туржанский (1891-1976), русский актер и режиссер кино. О его творчестве в эмиграции см.: Рашит Янгиров. «Рабы Немого». Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. 1920-1930-е годы (Москва: Русский Путь, 2007); Наталия Нусинова. Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое зарубежье. 1918-1939 (Москва: Эйзенштейн-Центр, 2003).
[Закрыть] и, надо отдать ему справедливость, сделал всё возможное, чтобы украсить фильм, чтобы сделать его убедительным и правдоподобным. Каждая деталь костюмов, обстановки, даже музыкальная иллюстрация фильма переносит зрителя в эпоху, в которой происходит действие. Нужно также отдать должное артистам, которые все, за исключением, пожалуй, Дефонтена – Меттерниха, играют прекрасно. Роль «короля Римского», Рейхштадского герцога поручена Жану Веберу, женственная наружность которого вполне отвечает образу, созданному Ростаном.
Но, несмотря на всё это, легкий, остроумный ростановский гений не воплотился в фильме. Получилась густо насыщенная патриотизмом картина, почти совсем стершая самое важное для Ростана – личную трагедию «орленка», рвущегося из клетки на свободу, на трон Франции и вместе с тем с горечью сознающего, что он не «орел». Немало способствует этому и то, что ряд важных фактов в действии в кинематографе остались, не знаю по чьей вине, неистолкованными. Так, остается непонятным, почему Тибурций хочет убить герцога, а между тем сцена встречи его в охотничьем домике с графиней Камератой [175]175
Эту роль исполняла Jeanne Boitel.
[Закрыть], переодетой герцогом, ночь побега, чрезвычайно важна для действия, так как является причиной неудачи побега. Тибурций, эмигрант, враг Наполеона, не может перенести близости своей сестры к сыну великого корсиканца. Это нигде не объяснено в картине. Остается также совершенно непонятной роль ряда действующих лиц, как, например, Фанни Эльслер, фон Гентца и др.
Однако есть одно место в «Орленке» Ростана, которое написано как бы специально для кинематографа. Это бред умирающего Фламбо и связанная с ним сцена, когда поле Ваграмской битвы ожиает, наполняясь убитыми. Сцены эти, в театре трудные для постановки и малоубедительные, на экране приобретают изумительную силу. Особенно хорошо поставлена битва, оживающая в гаснущей памяти Фламбо. Она так реальна и вместе с тем так фантастична, что оставляет неизгладимое впечатление. Чувствуешь, только таким мог быть предсмертный бред старого гренадера.
Сцена эта должна быть вписана в историю искусства кинематографа как одно из лучших его достижений.
Молва, 1933, № 122, 30 мая, стр.4.
«Страна Прометея»
1
«Небо в горах потому и прекрасно, что оно досягаемо. В вас живет постоянное чувство необычайной близости и вещественности небесного свода. Вам предоставляется естественным и возможным взобраться вон на ту, подобную алмазу вершину, приподняться на кончики пальцев и прильнуть губами, грудью, всем восторженным вашим естеством к голубой густоте, именуемой небом. О, какая сладость осязать синие своды, за которыми живет Бог. Вам не надо знать: ни что такое вера, ни что такое разум. Вам достаточно отдать себя властной гармонии природы, и Вы узнаете и убеждаетесь, что есть небесные Силы, и что Они – невидимые, но внутренно зримые и осязаемые, – отражены в вас.
А в полдень, когда солнце останавливается на мгновение над Эльборусом и тысячью золотых рук венчает его короной из самоцветных камней, – весь правоверный мир падает ниц перед лицом Аллаха. В полдень снова возносится призывной звук с минарета, и тогда всюду – на склонах гор, в долинах, на рубке леса и под скрежещущий разговор жерновов – шевелятся беззвучные губы, простираются длани: – совершаются поклонения в Духе...»
Горная страна, вершины которой соприкасаются неба, исполненная голубого дыхания Божия, где близок Бог и его правда – страна Прометея, бессмертного безумца, мечтавшего низвести небо на землю. Это скалистая родина автора книги, священно любимая им, его рай, о котором он с такой трогательной торжественностью вспоминает в изгнании. Большие города Европы, с их блеском и роскошью, кажутся ему нищими по сравнению с богатством природы его прекрасной родины.
Описывая утро в горах Кавказа, он не может удержаться от следующего отступления:
«Теперь, когда я пережил войну, революцию, побывал во французских лагерях под Стамбулом, подышал воздухом болгарских кирпичных заводов, имел высокую честь гранить батовскими подошвами [Обувь, сделанная на чехословацкой фабрике Бати.] парижскую мостовую... теперь я говорю печально: зачем, зачем не послала мне судьба внезапную смерть в это утро, в этом ущельи... Я знаю, я чувствую, я весь пронизан уверенностью, что душа моя поднялась бы подобно высокому облаку; поднялась прямо к престолу Господню. Ибо престол Господа – там, около Эльборуса и Казбека.
...Когда в один солнечный сентябрьский день я вышел из вагона экспресса на Гар-дю-Нор, я увидел что-то далеко вверху, за облаками пыли, за пеленой отвратительно пахнущего автомобильного дыма ползет по неопределенного света небу бессильное парижское солнце. А здесь, внизу, в безудержной суете по исковерканной камнем и оскверненной насилием земле ползают люди.
И люди эти – богатые, бедные, молодые, старые – все смотрели вниз, на землю, на оскорбленную их же нечистотами землю. Они не видели солнца и солнце не видело их. И ту мне почудилось, что я очутился в царстве мрака, отчаянья и пустоты.
...Этот Париж называется центром мира, мировой столицей? – Да, да конечно! Это – центр мира. Но мира бессолнечных сумерек, автомобильной вони и человечьей пыли...»
2
Есть темы, которые делают писателя. Такова тема книги Чхеидзе. Она сама подсказывает ему величественные образы, строгую простоту языка.
И из простого воспоминания, «человеческого документа» книга Чхеидзе превращается в эпическую поэму.
Перед читателем проходят суровые картины горной природы, быта горцев, этих мудрых детей, народа, в своей строгой нищете обладающего богатством, которого не имеют народы Запада и которое называется на языке горцев «напа», т.е. лицо.
«Когда мы говорим “напа”, – пишет Чхеидзе, – мы говорим лицо. Но какое лицо? – Не то, которое образовано лбом, глазами и ртом. Мы говорим о другом лице. Напа – это вся жизнь человека, все дела его души, сердца и совести. Напа – это то, благодаря чему твой отец и дед смотрели открытыми глазами в лицо Бога, солнца и людей. Напа – это тот высокий завет, который ты передаешь сыну. Напа – это мы сами, пред лицом жизни и смерти».
«Тот не мужчина, кто не убивал, та не женщина, которая не рождала» – суровая поговорка горцев, которой Чхеидзе характеризует «потомков Прометея». И вместе с тем картинами их быта, нарисованными им с такою любовью, он говорит о их мягкости, отзывчивости, простоте сердечной, которые на Западе кажутся «безумием».
Во время полевой страды, когда каждый час «дороже золота», умирает горец Джамботу. Семья, оставшаяся после него, – вдова, ее старуха-мать и семилетний ребенок не знают, что делать: хоронить ли хозяина или убирать поле? И вот односельчане Джамботу сговорились помочь его семье. Они послали наиболее слабых работников помочь хоронить умершего, а сами, изнемогая от работы на своих участках, вечером переходили на участок Джамботу и убирали его поле. Собранное и обмолоченное джамботово зерно они повезли на своих возах на мельницу и там приказали мельнику смолоть его в первую очередь.
Сравнивая быт Европы с бытом родного Кавказа, Чхеидзе называет первый «диким полем», а второй возделанным культурным полем, так как истинная культура не в торжестве техники, а вот в этой воспитанной мудростью и сердечной простотой культуре человеческого духа.
Столкновение этих культур изображено Чхеидзе в столкновении Кавказа с русской революцией и борьбе горцев с большевиками. Столкновение это не могло не вызвать протеста в нетронутой душе горца, не могло не всколыхнуть Кавказа. И, всколыхнувшийся, он выбросил из массы своего народа героя, настоящего эпического героя, борющегося и гибнущего за идеалы страны Прометея, в лице Заур-бека.