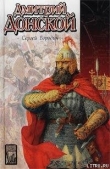Текст книги "Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3"
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Боженька, широко, неожиданно детски, улыбнулся. Странны в нем были эти переходы, к которым я не мог сразу привыкнуть. От старческой серьезности – к этой детскости, от суровости – к какому-то мудрому проникновению.
– Это вы насчет сапога – хорошо. Но позвольте мне вам напомнить, что мудрость у людей – безумие перед Господом. Мало ли человек намудрил и настроил себе понятий, которые теперь и преследуют его, как призраки. А вот я не побоялся снять сапоги и хожу босыми ногами по облакам. Но, знаете, Россия счастливая страна – скоро в ней все будут ходить без сапог. Это несчастье, это оголение вольное и невольное учит, и безумцы превращаются в рабов Божиих.
Он внезапно опять стал серьезным и, склонив голову набок, умолк, к чему-то прислушиваясь.
– Знаете, – начал он тихо, – у меня тоже были эти ложные понятия, и, чтобы успокоить свое стремление к небу, я на стены лез, корчился, как полоумный, и был недалек от безумия. Меня трепало, как в лихорадке, то экстазом, то отчаянием. А потом... сама пришла тишина... И знаете, что ее принесло? – люди, живое, «трепещущее жизни», слепое, несчастное, уродливое, ограниченное и всё же цепляющееся за жизнь. И тогда я как-то одною ночью понял, что на небо незачем лезть по стене, что небо вместе с воздухом само вплотную прилегает к земле, что вся земля и мы с ней постоянно, непрерывно, купаемся в голубой плоти Божией – в небе.
– А что, если и это всё ложь, только иное безумие? И все волнения, чувствования наши всего-навсего лишь движение каких-то невидимых потоков космических лучей, колебание мирового эфира, который проникает материю.
– А почем вы знаете, может быть, эти лучи, этот эфир и есть Божество. Может быть, мы, сами не зная того, играем огнем, – уловили, материализовали машиною дух Божий, и он горит в электрических лампочках и движет наши разрушительные адские машины... Но лучше не думать об этом. Как говорил старый китайский мудрец Конфуций: – узнайте сначала жизнь и научитесь жить с людьми, а потом думайте о потустороннем и непознаваемом... Поковыряйте-ка в моей похлебке и снимите с огня, она должна быть уже готова.
На корточках, морщась от дыма, стянув рукав и его краем взяв раскаленную дугу котелка, я снял его и поставил на землю. В нем, в мутной жиже, плавали куски картофеля и зеленые обрывки крапивных листьев.
– Я сейчас принесу хлеб, и мы заедим нашу первую встречу. – Он легко перепрыгнул на другую сторону окопа и исчез в узкой норе землянки. Я заглянул за ним внутрь. Это была земляная узкая щель. Вдоль стены во всю длину была сделана из земли приступочка. На ней лежала груда книг. Изнутри Боженька сказал:
– А знаете, прыгайте сюда и несите обед, здесь нет ветра.
В землянке голос звучал совсем пусто и бесцветно. Как-то терялся. И сам Боженька казался тщедушнее, жальче и человечнее. Я, однако, отказался разделить его трапезу. Он сел под вырубленным в земле окном, поместил на сжатых коленах котелок с мутным варевом и молча хлебал его, облизывая осколок свинцовой ложки и вытирая губы хлебом.
В это мое единственное посещение Боженьки он говорил гораздо больше и интереснее того, что передаю я, но я тогда еще не мог всего понять и оценить, а потому и не запомнил его слов.
Помню, что когда я, продрогнув от его земляного гостеприимства, спросил у него, как он будет жить в поле зимой, Боженька задумался и потом, глядя на меня отсутствующим странным взглядом, сказал:
– Зимой меня здесь уже не будет. Это моя временная пустыня. А впрочем, всё зависит не от нас, а от руки Господней, которую я крепко чувствую на себе. Я долго молчал и терпел, но сила, которую я сознаю в себе, распирает меня, и, наконец, придет день, когда она ополчится на всё ложное и высокомерное, и всё неправильно вознесенное будет унижено, и среди земных высот я один останусь непоколебимым в этот день, потому что мне будет дана власть и суд, и мера возмездия... [282]282
Отсылки к Ис. 2:12, Ис. 58:14, Мих. 1:3, Ис. 59:1.
[Закрыть]
Эту странную библейскую реплику он произнес глухим голосом, отчеканивая и отделяя слова, точно отвешивая их значение и силу. Когда вспоминаю теперь, мне кажется странным, как я, закоренелый уединист, тогда не рассмеялся ему в лицо или не спрятал хотя бы в себя злой улыбки. Но было, видимо, что-то в его лице и звуке голоса, заставлявшее чувствовать, что он имеет власть говорить так. Наоборот, во мне тогда росли восторг и умиление. И если бы к торжественной реплике он прибавил еще какой-нибудь торжественный жест – я подчинился бы этому жесту и мог стать на колени и целовать его вымазанные глиною ступни или рваную бахрому полотняных брюк. И вместе с тем я одновременно замечал всё. Мох волос на впалой груди из расстегнутого ворота рубахи и белые, живые пятна на стене землянки, которые я сначала принял за плесень, а приглядевшись, увидел, что это гнезда вшей. Ничего здесь, впрочем, удивительного не было, потому что тогда на города, лежавшие вблизи фронта, было истинное нашествие вшей, так что на тротуарах они щeлкали под ногами. Тем не менее, увидев их на стенах землянки, я почувствовал, как тысячи воображаемых жал впились в мою кожу. Я приготовился к бегству. Но тут-то и произошло самое значительное и необъяснимое в этой встрече. Боженька вдруг засуетился и вытащил из угла своей земляной норы толстую тетрадку в черном клеенчатом переплете и протянул ее мне.
– Я еще тогда выбрал вас, – сказал он, – и давно ищу, кому передать мое богатство. Теперь слово стало ничем, горстью пыли, разлетающейся по воздуху. Сказано столько красивых слов, что никто не ценит их, не желает слушать. Впрочем, и на дела тоже не обращают внимания – просто не доверяют никому. Да и каждый занят собою. А в вас мне почудилось что-то, что не принимает легко, не смотрится в отражение поверхности, но даже с опасностью задохнуться готово нырнуть на самое дно. Чувствуется еще вера в возможность чуда. Правда, заглушенная, правда, извращенная уже, но при приближении к живому человеку отвечающая живым трепетом. Это я хорошо вижу в вас, и потому не удивляйтесь... Здесь всё, за что я умру и чем я жил, и чем стоит жить, за что стоит умереть всему человечеству, поверьте. Это вечная книга. Не думайте, что мною говорит безумие. Откройте ее и вы убедитесь, что я прав. Тут мною собрано лучшее, что произвел человеческий дух, слова человечества, в которых чувствуется привкус Духа Божия. Вы, может быть, неверующий, но и не веруя уверуете. Вес этой маленькой тетради тяжелее веса всей массы земли. И огонь ее горячее огня земного и небесного. Помните это и храните для будущих веков, потому что этот век слеп, пуст и бесследен.
Я возвращался с горящим лицом, взволнованный, весь как бы вывернутый наизнанку. Всё внутри меня трепетало, всё было неустойчиво вокруг, и сама серая глинистая земля, скованная осенним холодком, колебалась под моими ногами. Я, помню, шел легким широким шагом, и за пазухой у меня, холодя тело, лежала тетрадка, пахнущая земляною сыростью и керосиновой копотью. И тетрадка эта казалась мне тяжелой, как тяга земная, а холод ее обжигал мою грудь.
Вскоре, когда произошли события, так трагически развернувшиеся и прервавшие жизнь этого странного человека, в котором всё же было что-то нечеловеческое, и когда стало опасно держать на виду у себя его рукопись, я закопал тетрадку на погосте, обернув в клеенку и обвязав накрест тесемкой. Место было замечено мною по подгнившему одинокому столбу от разобранного на дрова забора, отделявшего от нас соседний сад. Потом и этот столб был кем-то унесен ночью, и я бы никогда не нашел своего клада, если бы не случай.
Дело в том, что тогда, в то романтическое необыкновенное время, мы ходили подобно древним евреям, как это описано во Второзаконии, с лопатами в сад. У наших соседей была большая семья крепколобых, щетинистых детенышей. И вот один из них во время своего вечернего похождения, выбрав удобное место уже с нашей стороны, случайно, копая яму, наткнулся и на мой клад. С торжеством вырыл и, даже не справившись зачем пошел, с радостным криком влетел в дом. И случилось так, что я как раз сидел у них в гостях, узнал свой клад и спас. Надо же, чтобы в жизни столько зависело от случая. Нам кажется, что жизнью движет наша зрячая воля, но если оглянуться назад, – ясно, что наш истинный хозяин, толкающий иногда по ошибке на дорогу жизни или смерти, – он, дикий, бессмысленный случай.
Потом тетрадка лежала долго в пыли под ящиком, на котором я спал. А теперь, спасенная мною в иной, мирный быт, лежит спокойно на моем столе, лежит вещественным доказательством страшной кровавой сказки той фантастической и, как теперь порой кажется, неправдоподобной жизни.
В особенно тяжелые, запутанные, из которых, кажется, не распутаться, как мухе из паутины, минуты я раскрываю тетрадь Боженьки, и от нее всегда веет благим холодком умиротворенья. За ней я неизменно постигаю, что нет никакой паутины, ничего запутанного в жизни, и что в самом последнем, казалось бы, непереносимом и безвыходном есть как раз единственный блаженный выход к Богу.
Я теперь знаю ее почти наизусть. Это мое тайное евангелие, в чем я долго колебался сознаться и никогда бы не сознался, если бы не чувствовал земной тяги этой тетрадки, не понимал, что не смею унести ее с собой в небытие. А унести ведь так нетрудно. Помню, когда мой сосед по комнате – неразговорчивый скучный человек, раньше – капитан, теперь – грузчик на каких-то складах – поранил на работе гвоздем себе ногу через дырявый ботинок и его увезли в больницу и он уже не вернулся, – вещи его продали старьевщику, а книги и какие-то письма, тетрадки, найденные под тюфяком на его кровати, квартирная хозяйка сожгла, растапливая плиту на кухне...
_______
Рассказ мой приближается к трагической развязке.
Сам этого я не видел, но слышал часто, что к Боженьке стал стекаться народ. И хотя, как я понимаю его, а в моих руках ключ к его тайне – его тетрадка, вся сила Боженьки была в том, что он стоял выше всякого суеверия и изуверства, тем не менее понимали в народе его иначе и считали святым, человеком Божиим, чудотворцем, знаменьем Господним, – одни Христом, другие Антихристом, третьи сумасшедшим, сектантом, и скоро подняли вокруг него столько толков, сплетен и шуму, что к нему поползли паломники из всех затхлых и заплесневелых щелей соседних деревушек и городишек, вроде нашего. Что с ними делал Боженька, не знаю, но, видимо, на всех сумел угодить, потому что течение к нему живой струи верующих не иссякало. В городе он перестал появляться, отошел от искренних друзей своих из еврейской и русской «бывшей» интеллигенции. Может быть, чувствовал, что может скомпрометировать их, что за ним установлена еще пока неосязаемая, невидимая слежка. Зато город сам шел к нему. Стихия бесстрашна, но эта-то стихийность, в конце концов, не могла не обратить на себя внимания.
И вот, однажды, вернувшись к себе домой, я нашел приклеенный к своим дверям с внутренней стороны листок бумаги, исписанный печатными буквами – уединистическую газету. Полное название газеты было:
Завтрак уединиста!по прочтении газету съешь во имя конспирации!
Заборная газета интернациональный уед-орган полемики и хроники событий в освещении нового учения апостолов уединизма.
Газета «издавалась» одним из членов нашего кружка, высоким, как жердь, веснушчатым мальчиком. Он старательно (свидетельством старательности были чернила, затекшие под ногти, синяя щетина химического карандаша на языке и вокруг рта) переписывал ее на сером листе, вырванном из старой кассовой книги, и почему-то – латинскими буквами.
На этот раз весь лист занимала телеграмма:
Sensacija!
Arest Boga
Mestnyj komissar otdal raspor'azhenie
ob areste Boga, chto i bylo privedeno v
ispolnenie chlenami komjachejki. Na nebe
byl proizveden tschatel'nyj obysk, pri chom
bylo najdeno neskolko molnij i gromovykh
snar'adov. Bog pri areste ne okazal sopro-
tivlenia. On byl dostavlen v gorod i pome-
schon v gorodskuju T'ur'mu.
В действительности, как я узнал потом, дело обстояло так.
Комиссаром у нас в то время был некий Беленький, по одним версиям – в прошлом – матрос, по другим – писарь из канцелярии тылового этапа, в первые же дни революции произведший переворот на этапе, утопивший этапного коменданта и назначивший самого себя на его место. Это был высокий человек с лицом Отелло. Силу впечатления от своей наружности он знал и благодаря ей сделал свою революционную карьеру. В эти-то тяжелые, железные руки и попало тщедушное тело Боженьки. Участь его была решена в одну из вдохновенных минут Беленького. Беленький рассчитал, что Боженька может быть использован для антирелигиозной кампании, тогда только начинавшейся у нас, а заодно и послужить прекрасным примером острастки для таящейся где-то под боком еще не обескровленной, но взятой измором и страхом, многоглавой гидры контрреволюции [283]283
Гидра контрреволюции – выражение, восходившее к Великой французской революции и вошедшее в пропагандистский словарь ВЧК вскоре после Октябрьской революции.
[Закрыть].
В день ареста Боженька был доставлен в комнату комиссара. Беленький богословием и метафизикой, понятно, не интересовался, босой пророк его сам по себе занимал тоже мало, а потому допрос был краток. Комиссар сидел в гимнастерке с повисшим расстегнутым воротом, обнажавшим волосатую темную грудь. На столе перед ним, рядом с его тяжелою рукою, такой же тяжелый, темный и неумолимый, лежал револьвер.
Все понимали, что допрос делается для формы, что всё, как говорится, решено и подписано заранее. Стоило ли тратить время на пустые разговоры? Боженька не мешал поспешности, почти не отвечая на задаваемые ему вопросы. А предлагалось ему отвечать на обычное «имя и фамилия», «возраст», «род занятий» и прочее. В заранее, может быть, рассчитанный момент комиссар вскочил и, ударив о стол рукою, закричал в побледневшее лицо Боженьки:
– Отродье поповское!.. Старые штучки, дырявой рясой бунт прикрывать, святоша собачий... Богом быть захотелось! Так я тебе дам Бога...
Речь Беленького была выразительнее, но я не решаюсь восстановлять ее полностью. Движеньем пальца комиссар подтолкнул к краю стола клочок бумаги и, стуча по нему рукояткой револьвера, крикнул: – «Пиши имена сообщников...»
К всеобщему удивлению присутствовавших при допросе, Боженька покорно подошел к столу и, нагнувшись к бумаге, написал появившимся предупредительно сбоку пером несколько косых строчек. Вошедший было в роль Беленький, озадаченный этим, сразу обмяк и, выпятив губы, выжидательно опустился обратно на стул. Когда Боженька кончил, он рванул листок и, нахмурясь, долго его рассматривал. Потом поглядел поверх бумаги на жалкую фигуру, стоявшую перед ним во всем убожестве немытого, покрывшегося смертельным потом, запыленного, тщедушного тела, сквозившего в дыры рубашки и полотняных штанов, опустил опять глаза на бумагу и, внезапно отвернувшись, не глядя сделал жест, что-де допрос кончен. Когда за Боженькой закрылась дверь, комиссар расправил и бросил на стол смятую им было бумажку и, встав, кинул сквозь зубы – «подшить к делу».
На бумажке были Боженькой написаны имена сообщников контрреволюции: «Будда, Конфуций, Магомет, Моисей и Иисус из Назарета».
На следующий день в городе было расклеено объявление, в котором оповещалось, что сын дьякона такой-то, по прозвищу Боженька, уличенный в подготовлении вооруженного восстания и контрреволюционной пропаганде, будет публично казнен на площади перед собором.
К тому времени город уже пережил зверские расправы, несколько расстрелов, но о публичной казни слышал впервые. Сколько было подпольных возгласов возмущения о средневековье, готтентотстве, гекатомбах! Однако в назначенный день с утра все уцелевшие заборы и деревья вокруг площади скрипели под тяжестью зрителей, спешивших занять места поудобнее.
Как я уже говорил, жил я тогда в соборной ограде в старинной башне. И вот, чтобы не стать невольным свидетелем казни, с утра же я бежал подальше от страшного места. Неподалеку от дома я встретил старичка-учителя, который, сжимая толстую палку, прохрипел мне на ухо, что готов сбивать с заборов на землю палкой по головам собравшихся мальчишек, из которых половина была гимназисты, его ученики.
Задыхаясь от приливающей к шее крови, замирающими шагами я вышел из города и шел до тех пор, пока не свалился на колючую сухую межу. В поле было тихо. Пахло горькой полынной осенью. Густые облака волочили по дальнему лесу свои тяжелые складки, вкрадчиво обходя вокруг землю. Я взглянул вниз на город, мирно расположившийся на холме, разбросавшийся над рекою – и заломивший высоко два локтя – красную крышу гимназии и белые высокие купола собора. Собор отсюда казался белой игрушкой, вырезанной из дерева, густо побеленной и позолоченной, с нарисованными тушью окнами и главным входом. Внимание мое остановили черные фигурки людей, копошившиеся на крыше собора под барабаном главного купола. На самом куполе возле креста было тоже несколько человеческих козявок. Неужели оттуда смотрят? – подумал я и сейчас же, не веря, но уже не сомневаясь, понял... Главное было не внизу, а здесь, на верхушке собора, на виду у полей и соседних деревень, на виду у земли, вольного полевого ветра, этих облаков, скользящих по краю мира. Люди что-то привязывали к главному, самому высокому кресту, на котором раньше в Пасху зажигали цветные фонарики иллюминации.
Я закрыл глаза... Так я ждал минуту, две, три, слушая, как звучит кровь в венах на шее. Когда я открыл глаза, на куполе уже не было никого, с крыши собора толпа темным ручейком лестницы стекала вниз, а на большом кресте чернела, раскинув руки, маленькая человеческая фигура. И странно, единственный раз в жизни сердце мое дрогнуло величественным незабываемым трепетом предчувствия близкого, вот здесь, совсем рядом стоящего чуда. Если бы в этот момент осеннее небо раскололось громом и я бы увидел огромную руку Господню, простертую над городом, я бы принял это со слезами благодарного восторга... Но чуда не произошло, а в звоне полевой тишины я услышал отдаленный сухой треск, рассыпавшийся, как сухие горошины, ударивший дробью эха по лесу. Потом – еще несколько жидких хлопушек.
Я зажал уши и уткнулся лицом в сухую опустошенную жатвой, колючую щетинистую землю...
Этой ночью я ночевал у знакомых в другой части города. Утром, войдя в их сад, я не удержался, чтобы не взглянуть в сторону собора. Отсюда средний купол был слегка виден из-за деревьев. Беглым испуганным взглядом я успел различить только черную копошащуюся массу, бьющую крыльями, взлетающую и опять опускающуюся вниз, хлопочущую над чем-то на кресте, чего нельзя было увидеть...
Внешне город был спокоен. То, что кипело под этой каменною корою, все эти подпольные вулканы и броженья, оставались невидимыми. Но, казалось, камни молчат неспроста, и простое шуршание пыли по мостовой – было не простым, сеющим в молчании бури. Два дня после Боженькиной голгофы перед домом ревкома стоял выдвинутый на тротуар пулемет, и лошади в конюшне милиции стояли оседланными. Когда в город примчался автомобиль и, поворчав перед домом комиссара, увез Беленького по шоссе в сторону станции, – из дома в дом прошелестел зловещий понимающий шепот.
Но не только люди, – и камни тогда обманули. Беленький вернулся, контрреволюция попрятала свои головы, волнение пока улеглось... пока, конечно, потому что через месяц вокруг города затрепетали на ночном небе зарева пожаров, засуетились конные, загрохотали батареи – началось восстанье. Но это случилось уже позже.
Пока же всё было спокойно.
Как-то, в один из ближайших вечеров было маленькое уед-собрание.
Все были рассеянны. Шутки не удавались. Улыбки получались кривые. Кто-то было пошутил, что следовало бы уединистам распределить между собою кресты соседних церквей и что для самого грузного уединиста, пожалуй, не найдется подходящего креста – любой погнется, свернув набекрень купол. Пошутил и сам осекся, оглянулся, смяк и проглотил свою шутку. Разговор расклеился. Уединисты разошлись, бледные, потерявшие вкус к своему всепрезрению.
Это, кажется, было наше последнее собрание...
Когда я возвращался домой привычным путем, ставшим в этот вечер началом одинокого пути моего из затянувшегося безответственного детства в скудную суровую жизнь, в моей памяти возникли и зазвучали надо мною слова Боженьки, услышанные мною там еще, в поле над его землянкой: «храните ее для будущих веков, потому что этот век слеп, пуст и бесследен».
Дома я вытащил из-под ящика, на котором спал, его тетрадку (этим сокровищем с уединистами я не делился) и долго пытался найти смысл в параллельных выпусках из священных книг разных религий; но вместе со смертью того, чьей рукой были скоплены здесь эти волнующие фразы о милосердии, смирении и мудрости, как мне казалось тогда, отлетело от них что-то самое главное, то именно, для чего стоило собираться в этой ученической тетради сообщникам Боженьки, которых он выдал на допросе комиссару.
И я, помню, ощутил большую горечь за мир опустошенный, не принимающий чуда.
Меч. Еженедельник, 1934, № 15-16, 19 августа, стр. 14-18; № 17-18, 2 сентября, стр.9-14. В письме от 4 сентября 1931 Гомолицкий извещал А.Л. Бема о своей работе над романом в стихах «Памятник уединизму». Ср. строфу 19 в «Святочных октавах» (1939), № 315.