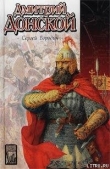Текст книги "Сочинения русского периода. Проза. Литературная критика. Том 3"
Автор книги: Лев Гомолицкий
Жанр:
Критика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 54 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
4
И еще потому, что оба – Розанов и Ремизов – перекликнулись с Достоевским самым сейчас для нас в эмиграции острым и огромной важности вопросом, от которого зависит всё наше становление, в котором вся наша миссия – это вопрос о человеческой личности, о чем говорит и А.Л. Бем в своей статье, о чем, впрочем, говорят с первых дней эмиграции... говорят, но делают, созидают только те, кто находится в кругу идей Достоевского.
5
«...бывает у меня такое чувство, точно я виноват перед всеми, и мне хочется прощения просить у всякого...» – у кого это? у Достоевского – «всяк и за всех виноват»? нет, у Ремизова «Взвихренной Руси», похождений Корнетова [246]246
Куски этой «эпопеи» печаталсь в Числах и Последних Новостях.
[Закрыть] – двух его эпопей – самого значительного и живого из созданного за рубежом – эпопей Революции и Эмиграции.
«Взвихренная Русь» – жестокая, жуткая песнь о последних годах войны, первых революции, в голодном Петрограде, под грохот рушащейся жизни, в торжестве беспощадных к человеческой единице теорий – вопреки всему – голос человека, «изгвожденного» сердца, в последнем падении, унижении и смирении. И тот же человеческий голос в эмигрантской одиссее Корнетова, – в чужом быту, благополучном, самодовольном – трепет мышиный «неблагополучного», тоже изгвожденного сердца, в последнем падении, унижении и смирении.
И у Розанова: – «...будь верен человеку, и Бог ничто тебе не поставит в неверность...» (Опавшие листья), «...никакой человек не достоин похвалы; всякий человек достоин только жалости» (Уединенное).
Догмат – беспощадная к человеческой единице теория – то, против чего восставал Розанов в религии и жизни во имя «интимности», индивидуальности. И с христианством мог помириться только через эту интимность: – «Смысл Христа не заключается ли в Гефсимании и кресте? т.е. что Он – собою дал образ человеческого страдания, как бы сказав или указав или промолчав – Чадца Мои, – избавить Я вас не могу (все-таки не могу!о, как это ужасно): но вот, взглядывая на меня, вспоминая Меня здесь, вы несколько будете утешаться, облегчаться, вам будет легче – что и Я страдал.
Если так: и Он пришел утешитьв страдании, которого обойти невозможно, победить невозможно, и прежде всего в этом ужасном страдании смерти и ее приближениях –
Тогда всё объясняется. Тогда осанна!..» (Опавшие листья).
6
да, о нем или не о нем, но о великой теме его. И когда поэт говорил об этой теме, он был не для самоуслаждения своего трагического одиночества, но для жизни и в жизни – проникал в самые дикие отдаленные уголки эмигрантского рассеяния и даже выплескивался за стены эмигрантского гетто (Кнута я слышал из уст людей совсем простых, к литературе никакого отношения не имеющих, даже самых нерусских, но только знающих русский язык, слышал так, как некогда слышали Лермонтова, Некрасова), а усомнившись, спросив «о чем?», замкнулся в себя, стал непонятен...
Кто еще ближе других приближался к этой теме – трагически погибший Буткевич, Газданов – это в прозе, в стихах – Кнут, Смоленский... Проза или стихи их были лучше других? гениальней они были? нет, невидимо, незаметно их создавала тема, жизненность им давало приближение к источнику «достоевских» идей. В этом была тайна – скрыто их действенности, – внешне их успеха.
7
Оба, и Розанов и Ремизов, писали прямо о нем. И в то время, как Розанов, разоблачая его, утверждал, Ремизов, кажется, утверждая, разоблачает.
Одна глава «Взвихренной Руси» посвящена Достоевскому [248]248
Глава «Огненная Россия». См.: А.М. Ремизов. Собрание сочинений. Том 5. Взвихренная Русь (Москва: Русская Книга, 2000), стр.358-363.
[Закрыть]. И по этой главе лишний раз можно убедиться, что ближе всего Ремизов чувствовал в Достоевском «тему эмиграции» – человека:
«Какое изгвожденное сердце, ни одно человеческое сердце не билось так странно и часто, безудержно и исступленно...
Весь мир перед ним застраждал неотступно... –
Но что может сделать для счастья человека человек?
Страдание и есть жизнь, а удел человека – смятение и несчастье.
И самое невыносимое, самое ужасное для человека – свобода оставаться со своим свободным решением сердца – это ужасно!
И если есть еще выход, то только через отречение воли – ведь человек-то бунтовщик слабосильный, собственного бунта не выдерживающий! –
Да захочет ли человек-то такого счастья безмятежногос придушенным «сметь» и с указанным «хочу»?
Но ведь бунтом жить невозможно!
Как же жить-то, чем любить – с таким адом в сердце и адом в мысли?..
...Трепетной памятью неизбывной, исступлением сердца, подвигом, крестной мукой перед крестом всего мира – вот чем жить и чем любить человеку.
Достоевский – это Россия...
И нет России без Достоевского.
Россия нищая, холодная, голодная горит огненным словом.
Огонь планул из сердца неудержимо –
Взойду ли я на гору, обращусь я лицом к Востоку – огонь!
стану на запад – огонь!
посмотрю на север – горит!
и на юге – горит!
припаду я к земле – жжет!..
Где же и какая встреча, кто перельет этот вспланный неудержимо огонь –
– из – гор – им! –
Там на старых камнях, там – встретит огненное сердце ясную мудрость.
И над просторной изжаждавшей Россией, над выжженной степью и горящим лесом зажгутся ясные верные звезды» (Взвихренная Русь).
Меч. Еженедельник, 1934, № 1-2, 10 мая, стр.16-18.
Владимир Слободник
1
В своем знаменательном стихотворении «К Музе» чего только не возвел Блок на свою «гневную лиру» – тут и «роковая о гибели весть», и «поругание счастья», и «попиранье заветных святынь». Много лермонтовского преувеличенного пафоса, но если взглянуть плоским житейским взглядом на заветнейшие стихи поэтов, нельзя не понять – да, проклятье заветов священных; да, поругание счастья... Не то что в разговоре первому встречному – в интимнейшей беседе, в дневнике, на святейшей исповеди нельзя сказать того, что говорят в стихах наиболее скрытные, целомудренные из них. Пушкинское «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» – самый стыдный, но и целомудренный пример.
По-видимому, в тайных моментах творчества есть какая-то неодолимая соблазняющая душу сила. Может быть, возникая в тайне, тайною своей соблазняет к высказыванию самого тайного, что иначе никогда не нашло бы своего воплощения. Дальнейшая судьба воплощенного зависит от мужества поэта. Лермонтов сознался в «Журналисте, читателе и писателе», что уничтожал такие разоблачающие стихи. Пушкин их не уничтожал, давая читателю доступ к своей «бесконечной интимности» (Розанов). Второй путь трудный, но верный, потому что по стихам этим можно распутать клубок судьбы дарования поэта, угадать не всегда очевидную для него самого «кровную» его тему.
2
Вл. Слободник – сложилась ли так его судьба или его душа – весь как преломляющий кристалл. В потоке явлений трехмерного мира, текущем через него, собственной его глубины сразу не разглядишь. Но и он соблазнился. И, соблазняясь, чувствовал, что делает – так и начал стихотворение:
Oto spowiedź moja najświętsza...
Исповедуюсь свято...
И рассказал: – когда ему было 16 лет, он жил в деревне у ксендза. Ксендз не догадывался, что в паспорте юноши против «вероисповедание» стояло «иудейского», да и как было догадаться – юноша ходил в костел, как правоверный католик –
в гром органов и шепот молитв.
Вместе с сермяжным людом бил поклоны перед «глиняным Христом», и огонь его поцелуев жег «холодную как тлен глину Распятья». Это не был ни обман, ни измена, это была первая любовь. И сколько воспринимающей нежности было к самому ксендзу. Но глубина, не измеряющаяся тремя мерами мира, ворочалась хаосом в душе, и ночами – в страстных снах ксендз являлся юноше необычным – «средневековым», в развевающейся черной сутане, – бил его крестом, крича: «Я знаю, кто ты! Кыш, брысь отсюда!» [249]249
Это стихотворение под названием «Во тьме кромешной» включено в издание: Современные польские поэты в очерках Сергея Кулаковского и в переводах Михаила Хороманьского(Берлин: Петрополис, 1929), стр.241-242. Ср. здесь же (стр. 239) характеристику творчества Слободника.
[Закрыть]
3
Здесь и завязался узел судьбы поэта.
Туго завязался – не развяжешь, только разве рассечь.
Поэзия его – бесконечное восторженное объяснение земле Мазовецкой в любви, неутолимая жажда звучания – в собственных устах – ее «солнечной речи». Костел – не столько внутри, сколько снаружи, – окруженный «рядами польских лип»...
...уже заря снимает
со лба созвездья, как венец терновый...
...как на кресте, на слове распял меня, Боже!
Строк этих можно было не прятать от глаза ксендза. Но были и другие строки – «попирающие заветные святыни» – ночная память, тяготеющая над душою – кровью, «потому что душа тела в крови» (Левит 17, 10) –
Гетто
Это было давно, далëко,
это часто во сне повторялось:
у двери жестяника бляха
в тупике над козой качалась.
Над стеною еврей юродивый
исходил песней убогой,
и выли собаки на месяц,
всходящий над синагогой.
. . . . . . . . . . .
Дед мой качался, качался
над зажелкшей от мудрости Мишной,
как страшные бабочки, свечи
пылали зловеще неслышно.
Не помню бабушки, только
ее руки иссохшие помню,
золотые бряцавшие серьги
и виденье – парик огромный.
Там никто не знал, что значит
Польша, райской горящая печью,
не знал я тогда, что будет
моя речь польскою речью.
Не знал я тогда, что Польшу
возлюблю – ее липы и камни,
и что всё мне будет далеким,
только Польша будет близка мне.
Горько кричал в колыбели,
испуган ночью и снами –
казались мне тени на стенах
бородатых пророков тенями.
Казалось мне – за рамой
в венце голубом созвездий
темнеет грозный косматый
Адонай – гневный Бог возмездья.
И мечтал я, мечтал о чем-то
голубином, чистом, как Висла,
что как неба в июне вишневость
над землей Мазовецкой провисло.
А в окно врывалось гетто,
врывалось черной луною,
и подобные темным подвалам
замыкались сны надо мною. [250]250
Перевод мой. Л.Г.
[Закрыть]
4
В стихотворении «Голем» Вл. Слободник писал:
Душа его остановилась между – Мадонной и смуглянкой Юдифью. Мадонна – вдохновляющая и мучительная; Юдифь кровная, но тоже мучительная. Обе любви, и небесная и земная, мучительны потому, что он, любящий, – между ними, неслиянными, несоизмеримыми.
В одном из последних стихотворений – еще нигде не опубликованном – у него: –
«Широкая серая Мазовецкая земля, кто раз полюбил твои суровые пески, – навсегда останется в тени твоих кровель и замкнет в душе своей твое солнечное слово...
И увидят его братья в этой любви измену отчизне древней, предвечной, а дети новой отчизны увидят ее в свете темноту его крови – чужой, старой, больной.
И будет идти между этими двумя ненавистями всё печальнее, всё одиноче, как шорох сметаемых зимним ветром листьев, как звук песни самою темною ночью»...
5
В этих простых, уточненных до последней скудости словесных строчках – истинный человеческий трагизм, большая тема.
Большая тема в руках Слободника. Почти совсем не тронутая им, но большая.
И где же его «преломляющая прозрачность»? Не в ней, конечно, сначала бросающейся в глаза, но в этом стихийном зове крови его оправдание, ведь сказано же, что «душа тела в крови» [252]252
Лев. 17:11.
[Закрыть].
Меч. Еженедельник, 1934, № 6, 10 июня, стр.8-10. Статья посвящена книгам: Włodimierz Słobodnik. «Modlitwa o słowo» 1927, «Cień skrzypka» 1929, «Nowa Muza» 1930, «Spacer nad Wisłą» 1931, «Pamięci matki» 1934. Об этой статье см.: Люциан Суханек (Краков), «Польская тематика в русском эмигрантском журнале “Меч”», Studia Polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко(Издательство Московского университета, 2003), стр.314.
Отзывы о книгах. Скит II. Прага 1934
Сравниваю первый и второй сборник пражского Скита. На одного автора (Кирилла Набокова), следовательно, на два стихотворения – на две страницы – меньше. В остальном всё то же: те же имена, те же стихи. За год, отделяющий сборники, в Ските, по-видимому, ничего не произошло. По-прежнему скитники находятся под сильным влиянием Пастернака. Сквозь рабски усвоенные чужие приемы можно расслышать собственный голос лишь у двух поэтесс Скита: Аллы Головиной и Татьяны Ратгауз. Головина, «голос» которой несколько сильнее, поместила в сборнике стихотворение «Весенняя распродажа», в свое время напечатанное в варшавской «Молве» [253]253
Молва, 1933, № 289, 17 декабря, стр.3, рядом со статьей: А.Л. Бем, «Письма о литературе» (об Алле Головиной).
[Закрыть], и удачную интерпретацию известной фабричной песни «Маруся отравилась...» – «Маруся»:
Мари, Маруся, разве райской Мэри
Не райские стихи посвящены?..
Скит обещает в скором времени издать сборник стихов А. Головиной «Лебединая карусель». Выбор сделан Скитом верно: Головина заслуживает предпочтения, ей оказанного перед другими скитниками. Напомню, что первой книгой, изданной Скитом, были стихи Вяч. Лебедева «Звездный крен». Это было в 1929 году. С тех пор дарование Лебедева вступило в какой-то роковой для него период творческой неустойчивости. В настоящее время он до остатка поглощен Пастернаком. Головина начала с того, чем кончил Лебедев, и, м.б., потому ее самобытный талант уже нашел в себе силы для преодоления чужого, несоизмеримо для него сильного, тяжелого влияния Пастернака. Молчание Скита на протяжении этих лет – 1929-1934 – кажется разумным и значительным. Может быть, не следовало торопиться и со сборниками, но выждать, когда лабораторная напряженная работа, ведущаяся в стенах Скита, принесет свои зрелые плоды.
Меч. Еженедельник, 1934, № 6, 10 июня, стр.14-15. Подп.: Л. Г-ий.
Не на большой дороге. Мистерия Кальдерона в Варшаве. – Еврейская студия
I
Рядом с большими театрами – большой дорогой искусства – «на задворках», во дворе костельного дома на Краковском Предместье начиная с 19 мая ежедневно вечерами идет мистерия Кальдерона «Тайна Божественной Литургии».
Почти безо всякой рекламы – в воротах были вывешены скромные афиши, да еще, наверно, ксендз в воскресных проповедях оповещал своих прихожан. Видимо, мистерии придавалось значение, главным образом, «учебное». В «Газете Польской» промелькнула репортерская заметка, отметившая факт постановки Кальдерона для «простачкув» (прoстого народа) в скромной обстановке двора варшавского дома, под шум, долетающий с улицы, и стук пишущей машинки – из открытого окна.
Действительно, обстановка проста – я бы сказал – «антично». В такой обстановке в древности в религиозном благоговении рождался театр.
Мощеный серый двор. Несколько неровных рядов стульев и скамеек. У слепой высокой стены костела построены простые открытые подмостки, покрыты серой материей. На подмостках – возвышение, изображающее алтарь. Несколько кустов фикусов в кадках. Перед помостом на двух столбах – прожекторы...
В тот день, когда я собрался «на Кальдерона», было пасмурно. Холодный ветер развевал легкие платья артисток, игравших Незнанье и Мудрость. В течение двух часов они недвижно сидели по краям помоста, скрестив на груди посиневшие от холода руки. По четырехугольному небу двора стлались темно-серые тучи, изредка бросая горстями холодные дождевые капли. Было страшно глядеть на оголенный торс Адама, на детей, одетых в легкие одежды ангелов. Когда Иисус, готовясь к Евхаристии, обратился к Иоанну Крестителю: «А теперь принеси мне воды крещенья из Иордана», – в снопах света прожекторов зарябил дождь. Ветер взметнул фикусами. По камням покатилась жестяная плошка с ладаном – рассыпались ладанные дымящие искры. Но ни среди артистов, ни среди зрителей не произошло ни малейшего замешательства. Действие продолжалось с той же медлительной торжественностью, и так же молитвенно и сосредоточенно следили за ним собравшиеся сюда «простачки» – старушки, школьники, простонародье. Мужчины сидели с открытыми головами. Никто не перешептывался, не переглядывался. Сидели так, как они сидят на своих скамьях в костеле.
На серых булыжниках обыкновенного городского двора, в серый холодный дождливый вечер из наивной символики Кальдерона творилось литургическое служение.
Здесь впервые я понял, что древняя религиозная душа театра бессмертна: стоит ему только выйти из роскошных дворцов искусства на задворки, и она снова воскреснет со всею своей первобытною силой. Пестрота декораций, золоченая рама сияющей рампы, занавес превратили театр в живые картины, идеалом которых оказалась подвижная фотография-кинематограф. Почти одновременно с расцветом кинематографа начались попытки вернуть театру его первобытную литургичность. Но оказалось, что путь этот далеко не прост и не легок. Недостаточно уничтожить занавес, декорации и рампу, недостаточно вынести сцену в зрительный зал или зрительный зал поднять на сцену. Нужно наполнить каким-то новым религиозным содержанием ветхие формы. В средневековых мистериях содержание это было. Но католическая Испания Филиппа II, который в агонии, длившейся 50 дней, с подушек своего одра страданий не отрывал глаз от главного алтаря храма, виденного им сквозь остекленную дверь, короля, залитого кровью еретиков, по чьей душе было отслужено 30.000 панихид; эта Испания, еще вдохновлявшая в XVII ст. Кальдерона, может быть теперь созвучна только немногим, сохранившим наивную средневековую веру. Но есть ли кроме религии другая сила, способная вновь творчески оплодотворить душу ветхого Адама – человечества? Думается, что нет. А без нее все ухищрения передовых режиссеров остаются только техникой, погоней за сенсацией. Чуда не происходит.
Но, может быть, эти поиски не исчезнут бесследно. Дух Божий, снова спускаясь на землю, найдет храмы для себя построенными и признает их своими домами...
II
Почти так же «на задворках», как и мистерия Кальдерона, в Варшаве существует такой театр исканий. Это – еврейская экспериментальная студия «Юнг Театр» (Театр Молодых), недавно открывшаяся на Длугой улице № 19. До сих пор студия успела сделать только три постановки: инсценировки «Бостона», «Трупы Таненкапа» и сценический репортаж «Красин».
Пройдя во второй двор и поднявшись на второй этаж, вы попадаете через тесное «фойе»... прямо на сцену. Зрительного зала в «Юнг театр» нет. Сломанным углами амфитеатром расставлены стулья. Действие происходит тут же, среди зрителей – сзади, спереди, сбоку. Вы можете протянуть руку и коснуться артиста. Сцена «на улице» – улицу заменяет проход между стульями. Сцена «в кафе» – три стола на маленьком помосте, возвышающемся среди рядов зрителей...
«Красин» – это история спасения советским ледоколом «Красиным» итальянской экспедиции Нобиле. По углам и в середине залы установлены громкоговорители радиостанций Рима, Осло, Москвы, Варшавы и т.д., которые перекликаются друг с другом, сообщая последние известия о судьбе потерпевших крушение. Один угол занимает модель ледокола, упирающаяся трубами в потолок. На ней происходит действие. Посредине расставлены подвижные низкие и покатые помосты, изображающие ледяные горы. Три отдельных помоста в разных частях зала – служат то митинговыми трибунами, то итальянским посольством в Петрограде, то берлинским кафе. Место, в котором в данную минуту происходит действие, освещается. Сцены сменяются с кинематографической быстротою. То в одной, то в другой части залы вспыхивает свет. Артисты заранее занимают свои места, проходя в темноте между рядами зрителей. Схематизированная действительность, кинематограф, перенесенный в театр. Всё на поверхности, ничего в глубине. Духа Божьего здесь нет. Стоило ли расколдовывать рампу, чтобы не найти в себе силы на новое колдовство, чтобы окончательно и тем непоправимее стереть грань между театром и кинематографом!.. Может быть и стоило – может быть, так резче определятся истинные границы театра, совпадающие с гранью между опустошенным безверием и верой.
Меч. Еженедельник, 1934, № 7, 17 июня, стр.11-12. Заметка упомянута в статье: Люциан Суханек, «Польская тематика в русском эмигрантском журнале “Меч”», Studia Polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко(Издательство Московского университета, 2003), стр.311.
Архитектурная Шехерезада
Как-то мне пришлось две-три ночи проспать в чужом волынском городке у незнакомого человека, проспать, подкладывая под голову кастрюльку, завернутую в сюртук. И сколько я тогда наслушался об Алжире, Сахаре, арабах и кактусах. Так эти три ночи и остались навсегда Шехерезадою моей жизни.
Молодой адвокат, русский офицер, африканский солдат, хозяин конторы прошений – очень по нашим временам несложно и просто. Интересно только, что лучшие воспоминания остались у него африканские. Русский адвокат и офицер увез из французских легионов в польский городок на Волыни, в свою «контору прошений» – африканскую душу. Сам вышил на оконных занавесках «конторы» зеленые волосатые круги, красные звезды – кактусы. Уже потушив свет и время от времени останавливаясь и – «Вы спите?», рассказывал о тернистых кактусных зарослях, арабах, сосредоточенно неподвижно слушающих древнюю сказку из тысячи и одной ночи...
Всё это – не ради Африки в «конторе прошений», ради Шехерезады – пришло мне на память при чтении «Вядомостей Литерацких», посвященных современной архитектуре [254]254
Le Corbusier, «Architektura we Francji», Wiadomości Literackie, 1934, nr. 23, Niedziela 10 czerwca, str. 1.
[Закрыть]. Наверно, араб моего африканца с бóльшим доверием слушает описание дворца в фантастическом сказочном царстве, чем европеец, может быть, безработный, может быть, бездомный, – рассказ о чудесах новой архитектуры.
Передовой французский архитектор Ле Корбюзье строит сейчас небоскреб из стекла. Стены, пол и потолок – из стекла; гигантская хрустальная призма. Вместо фасада – стеклянная стена, пропускающая море солнца, на плоских крышах – пляжи и парки – воздушные сады Семирамиды; под домами, вознесенными на железных столбах, – свободное движение – вот «солнечный город» Ле Корбюзье, похищенный им из Шехерезады. «Дом должен стать источником счастья для человека». Вавилонские башни новой интернациональной архитектуры – каменное эсперанто – серый бетон, штемпелеванное железо, прозрачное стекло – одинаковое на Гавайских островах, в Москве, в Нью-Йорке и Варшаве...
Еще ослепленный солнечной лекорбюзьеровой мечтой, сложив и сунув в карман «Вядомости», я вошел, как вхожу ежедневно, в прелую черноту эмигрантской столовки. Черный коридор – всегда боишься кого-нибудь прищемить дверью, наступить на кого-нибудь – желтый «подводный» мрак комнаты. В закопченных потных окнах, глядящих в каменную плесень, маячат тени. Когда приходит время обеда – здесь зажигают электричество. Но сходятся часа за два в мраке, чтобы успеть занять места – иначе настоишься.
За столом, за который я сел, уже читала свою мятую, разглаженную рукой газету старушка, давно знакомая по столовой. Читала рассеянно, беспокоилась, поглядывала на дверь в кухню – и я знал заранее – не решалась попросить стакан для воды: – «Стакана им жалко». И вот, начиная со стакана («с утра ничего не пила»), узнал я всё – как «живет» старушка. Снимает угол за 15 злотых. Еще когда в комнате с хозяйской девчонкой спала, приходилось стелить на пол газеты и на них класть платье, раздеваясь, – стула не давали. Теперь переселили в чулан за кухней – их голубятню. Живут под крышей, чулан – чердачный угол с голубями (разводят голубей). Голуби над головой летают, балки пыльные, в белом голубином помете, ветер – окно не закрывается. Пол в щелях, газетами прикрывает, чтобы не дуло («эта газета такая – знакомые дали, хоть и прошлогодняя – нечитанная, возьмешь голову чем-нибудь занять»). Ходит целый день по знакомым передним – продает шоколад – на фабрике без залога – «верят» – дают несколько плиток.
Столовая наполнилась мрачными тенями: такими же старушками, повязанными стариками не то в пальто, не то в халатах – понять трудно. Один в черном вязаном шлеме – спал за соседним столиком. Из шлема топорщились слипшиеся седые клочья бороды. Против него испуганно блестел очками «генерал» – и вправду, говорят в столовой, бывший генерал – тщедушный хиленький старичок, с горлом, повязанным торчащей возле ушей тряпочкой. На прошлой неделе я сидел с ним рядом. Когда я отодвинул свою тарелку с недоеденным гарниром – картошкой и морковью, – он весь затрепетал, заволновался, заерзал на стуле и подался ко мне: «Разрешите доесть»... [255]255
Этот эпизод упомянут в 8-й главе незавершенной автобиографической поэмы Гомолицкого «Совидец».
[Закрыть]
Зазвенели ножи и вилки. Барышня, проходя мимо, швырнула на генеральский стол ложку, и вспыхнула тусклая электрическая лампочка. Начался обед. К контролеру потянулся хвост штемпелевать карточки на даровые обеды.
Старушка, я знаю, приходит без карточек, за свои деньги. И точно почувствовав за собой вину, что я ем, а она нет – мне же неловко – начала оправдываться, что сегодня обязательно себе закажет – «просто как необходимое – силы нужны». Дома даже воды нельзя вскипятить. Тут не дают. Когда есть 20 грошей, зайдет в кавярню [256]256
В кафе.
[Закрыть] и закажет кипяток без ничего – «доктор прописал» – «все-таки хоть горячее что-нибудь в тебя войдет и от пены облегчает» – пена к горлу подступает, – пенится что-то и душит. Зашла в аптеку спросить, так аптекарь – первый раз ее видел, а сразу определил: – «Это от голода».
Но так и не заказала. Я ушел, оставив ее за газетой...
Нынче прочел в «Сегодня» заметку «Диэтические обеды для богатых собак». Какой-то американец Лерой Гофф открыл фабрику собачьих обедов. Обеды развозятся в автомобилях. На картонных тарелочках – куски чистого мяса с гарниром под «витаминовым» соусом. По пятницам мясо заменяется рыбой. Напитки – рыбий жир, козье молоко, бульон... и вспомнил «генерала» – «Разрешите доесть» – и мою старушку, у которой пена к горлу подступает, сидящую в столовой – только бы отдохнуть, – где кругом едят. Им бы глоточек этого бульона или хоть пол собачьей порции. И почему бы этому Гоффу не устроить при своей фабрике отделение пусть не диэтических, а каких-нибудь, даже не собачьих, обедов для людей, а человечеству заказать Ле Корбюзье хоть один барак для бездомных. Ведь в его солнечных городах в хрустальных комнатах уголка за 15 злотых для такой старушки не найдется, и что за бессмыслица – бездомный в висячих семирамидиных садах на зеркальных кровлях современной вавилонской башни! Какая торжествующая самодовольная слепота, и в то время, когда скоро весь мир станет бездомной старушкой, ютящейся на ветру в голубятне, и негде будет преклонить голову, если люди, ослепленные африканской мечтой, вовремя не опомнятся и не примутся строить просто-напросто хорошо отапливаемые бараки для бездомных...
Меч. Еженедельник, 1934, № 8, 24 июня, стр.11-12.