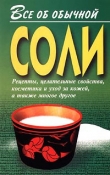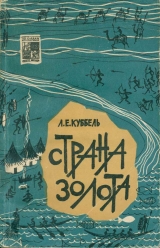
Текст книги "Страна золота - века, культуры, государства"
Автор книги: Лев Куббель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Величие и падение Древней Ганы
«Страна золота» и гараманты
«Говорит ал-Фазари, что... область Гана, страна золота, имеет размер в тысячу фарсахов на восемьдесят фарсахов». Эти слова взяты из большого исторического труда арабского ученого Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна ал-Масуди «Промывальни золота и россыпи драгоценных камней». Книга была в основном закончена к 947 г. (хотя автор вносил в нее дополнения до самой своей смерти в 956 г.), но слова, приведенные в начале этого абзаца, сказаны были на полтора с лишним столетия раньше – около 786 г., когда великий арабский астроном ал-Фазари завершал составление своих астрономических таблиц. До нашего времени эти таблицы не дошли, и поэтому именно ал-Масуди обязаны мы сохранением самого раннего упоминания названия «Гана» в арабоязычной литературе.
Конечно, ал-Фазари сильно преувеличивал размеры «области Гана»: один фарсах (это персидское слово в араб¬ской передаче обозначало расстояние, которое лошадь проходит шагом за час) был равен приблизительно шести километрам, так что такая Гана покрыла бы по долготе не только Западную Африку, но вообще – весь Африканский континент на уровне примерно 16 градусов северной широты. Видный польский историк Тадеуш Левицки предположил, что речь должна была идти не о фарсахах, а о милях. Средняя величина арабской мили (не будем забывать, что здесь и дальше нам придется иметь дело с мерами средневековыми, точные размеры которых далеко не всегда можно бывает установить) составляла около 2 км. Но и с такой поправкой окажется, что Гана ал-Фазари тянулась бы от верховий Сенегала чуть ли не до озера Чад. Это тоже несомненное преувеличение – самое малое втрое, – хотя вторая цифра с такой поправкой, т.е. 160 км по широте, выглядит более или менее реалистичной. Но все же то, что Гана была известна арабскому астроному второй половины VIII в., показывает, что к этому времени арабы определенное представление о положении дел во внутренних областях Западной Африки уже имели. Ал-Фазари был не одинок. Другой великий астроном и математик средневековья, наш соотечественник (он был уроженцем Средней Азии) Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми, умерший около 846 г., тоже упомянул Гану в своей «Книге облика Земли». Притом говорит он о ней так: «Гана, народ, который называют аграмантис». И вслед за ал-Хорезми астроном первой половины X в. Сухраб, автор «Книги чудес семи климатов», поясняет: «Страна Гана – народ, называемый аграмантис».
Так причудливо переплелась в трудах арабских астрономов античная и эллинистическая традиция, итоги которой как бы подводили труды александрийского ученого II в. н.э. Клавдия Птолемея, с новыми знаниями, которые приносила мусульманам живая практика, торговая и политическая. И такое переплетение было распространено очень широко, отнюдь не ограничиваясь интересующей нас в данном случае
Западной Африкой.
Еще в V в. до н.э. грек Геродот, прозванный «отцом истории», рассказывал о народе гарамантов, населявшем область Фазания – нынешний Феццан на юге Ливии. Этот народ, говорит Геродот, «имеет боевые колесницы, запряженные четверкой лошадей, на которых они охотятся за эфиопами-троглодитами» (так греческий историк называл далеких предков современного народа тубу – обитателей нагорья Тибести в Восточной Сахаре). Наскальные росписи, во множестве обнаруженные на западе и в центре Сахары, как будто могут служить подтверждением сообщений Геродота. И все-таки мы до сих пор очень немного знаем об этом народе. Сейчас можно говорить о том, что политическое объединение, получившее, скорее всего, свое название от города Гарама в Феццане, начало складываться, видимо, на рубеже XIV—XIII вв. до н.э. В него вошли различные ливийско-берберские племена, какие-то группы негроидного населения Сахары и довольно многочисленные выходцы из стран бассейна Эгейского моря. Те же изображения колесниц, например, повторяют стилевые особенности крито-микенского искусства.
Сведения Геродота относятся к эпохе расцвета гарамантской цивилизации. К этому времени в Феццане существовала держава с сильной военной организацией, позволявшей ей держать в страхе непосредственных соседей и выступать равноправным партнером в торговых контактах с карфагенянами, бывшими до конца Пунических войн, т.е. до начала второй половины II в. до н.э., хозяевами всего североафриканского побережья к западу от Египта. Га-раманты обменивали золото, страусовые перья, драгоценные камни и черных невольников на ремесленные изделия. Внутри гарамантского общества наблюдалось довольно четкое расслоение; в нем верхнюю позицию занимали скотоводы-всадники. Подчинив себе окружавшие их народы землевладельцев, часть из них обратив в рабов, они организовали строительство очень крупных и сложных по тем временам оросительных сооружений, питавших гарамантские оазисы в обстановке все ускорявшегося высыхания зеленой Сахары.
Гараманты сумели сохранить независимость и после перехода господства над Северной Африкой в руки Рима. Несмотря на несколько, казалось бы, успешных походов римских войск в глубину гарамантских владений, на этих землях не стояли римские гарнизоны. Опустошение плодородных оазисов, даже сожжение римлянами столицы Феццана – Гарамы не привели к созданию здесь еще одной римской провинции, как случилось это на всей территории Северной Африки. Больше того, гарамантам случалось выступать и в роли равноправного союзника, совершая вместе с римскими отрядами походы все на тех же «эфиопов-троглодитов».
Последние дошедшие до нас сведения о гарамантах относятся к VII в. – ко времени арабского завоевания Северной Африки; после этого гараманты бесследно исчезают из сообщений очевидцев, сохраняясь лишь в астрономических и географических трактатах, восходящих к Птолемею. Как и куда они исчезли – вопрос особый, на который наука пока что еще не нашла ответа. Но в поздней эллинистической научной литературе они традиционно остались могущественными и опасными соперниками римской мировой державы. И ничего нет удивительного в том, что писавшие по-арабски ученые, познакомившиеся с этой научной традицией раньше писавших по другим отраслям знания, связали в своем представлении с древними гарамантами то большое и сильное политическое объединение – созданное и управлявшееся африканцами с черным цветом кожи, – сведения о котором мусульмане начали получать от купцов, продолжавших по стопам своих предшественников старинную торговлю с Западной Африкой.
Но переняли они не только сведения. Именно гараманты проложили два главных торговых пути через Сахару, две «дороги колесниц», вдоль которых сохранились до наших дней многочисленные изображения этих колесниц. Один из этих путей ведет от Триполи до нынешнего малийского города Гао, а второй выходит к западной границе внутренней дельты Нигера, приблизительно около современного городка Гундам, начавшись в Южном Марокко. К этим дорогам нам еще предстоит вернуться.
Сахель и Сахара – земледельцы и скотоводы
Арабские географы были безусловно правы в одном: у африканских народов, живших ко времени первых контактов с мусульманами вдоль южной окраины великой пустыни, уже сложились достаточно развитые традиции хозяйственной деятельности и социальной организации. И возникли эти традиции намного раньше такого контакта. Правда, в Западном Судане новые пришельцы имели дело не с потомками древних гарамантов: здесь жил не тот народ и существовало, так сказать, не то государство (хотя сам по себе вопрос о том, можно ли считать Древнюю Гану государством в полном смысле слова, т.е. политической надстройкой над сложившимся классовым обществом, остается еще очень и очень спорным, и нам еще придется об этом говорить). Но бесспорно, что самое появление Ганы на карте тогдашней Западной Африки было итогом многовекового хозяйственного, культурного и общественного развития. Так же как бесспорно и то, что деятельными участниками этого развития были люди, издавна представлявшие две разные формы хозяйства – земледельческое и скотоводческое.
Отношения между земледельцами и скотоводами далеко не всегда были идиллическими, хватало и столкновений и кровопролития, но объективно они не могли обойтись друг без друга. К тому же, как уже говорилось, климатические условия на границе пустыни и Сахеля не оставались неизменными, а потому продолжалось и постепенное движение жителей Сахары в южном направлении. Так что Сахара вошла неотъемлемой частью в историю западно-суданского средневековья. И лучше всего это можно увидеть на западе региона, в нынешней Мавритании.
В центральных областях этой страны – Адраре и Таганте – несколько тысячелетий назад жило многочисленное население, которое вело смешанное земледельческо-ското-водческое хозяйство. И там и тут сохранились до наших дней остатки поселений, полей, зернохранилищ. Устная историческая традиция современных обитателей этой части континента связывает их с двумя народами – бафурами и гангара. Причем предание определенно считает бафуров людьми с белым цветом кожи, а гангара – черными.
Большинство современных исследователей склоняются к тому, чтобы первый из этих легендарных народов считать отдаленными предками некоторых берберских групп, и посейчас живущих в оазисах Адрара около современных городов Вадан или Шингетти, когда-то бывших довольно важными этапными пунктами на одном из главных караванных путей между Северной Африкой и Суданом. И, кстати сказать, одним из весомых аргументов в пользу того, чтобы считать бафуров «белыми», служит как раз то, что в этих местах с незапамятных времен возделывается финиковая пальма – культура, типичная именно для берберского населения сахарских оазисов.
Но для нашей книги больший интерес представляют районы, лежащие южнее и носящие теперь названия Тагант, Асаба, Ход. Дело в том, что в последнем из этих трех районов, немного севернее нынешней мавританско-малийской границы, располагалась столица средневековой Ганы – город Кумби, о котором нам еще придется говорить.
В Таганте, Асабе и Ходе все без исключения развалины приписывают народу гангара – предкам современных сонинке. В этом отношении полнейшее единодушие отличает исторические предания как самих сонинке, так и их соседей – кочевников-мавров (в нашей литературе их чаще обозначают как арабов Западной Сахары). Развалины эти состоят из остатков небольших каменных строений, обычно круглых в плане, в исключительных случаях – квадратных. Внутренний диаметр таких строений не превышает 2 м, а высота составляет около 1,70 м; в отдельных случаях над круглыми постройками сохранились остатки купольных покрытий из плоских каменных плит. На гораздо реже встречающихся -прямоугольных в плане сооружениях большего размера – иногда 5X2 м – покрытия не сохранились; для них, видимо, использовали дерево.
Эти строения иногда располагаются целыми поселками, окруженными оборонительной стеной, – такие стены всегда служат безошибочным указанием на то, что заметно ухудшился социально-политический климат: обострились отношения с соседями-кочевниками, меньше стало безопасности.
Но, пожалуй, интереснее и красноречивее всего оказываются находки внутри оград: жернова, остатки керамики, шлак от выплавки металла. Иными словами, гангара, если создателями поселений были они, представляли собой оседлый земледельческий народ, знавший производство и обработку железа и гончарство.
Тут стоит, наверное, сделать небольшое пояснение. Мы в Европе привыкли к такой последовательности материалов, из которых изготовлялись орудия труда: камень – медь (точнее, бронза) – железо. Так вот, в Африке металлы осваивались, как правило, в обратной последовательности: сначала железо и только потом медь или бронза. И единственным известным сейчас исключением из этого правила была как раз Мавритания.
В юго-западной части страны, около поселка Акжужт, французская исследовательница Ни коль Ламбер открыла в 60-х годах развитую металлургию меди; здесь присутствовали все необходимые составные части металлургического производства – рудники, следы добычи руды и ее плавки. Причем Ламбер открыла не только шлаки от плавки, но и остатки плавильной печи с дутьевыми трубками.
Расстояние между Акжужтом и местностями, которые населяли гангара, сравнительно невелико – немногим более тысячи километров. И тем не менее, каким это ни может показаться парадоксальным, влияние недальнего металлургического центра, относящегося примерно к VI—V вв. до н.э., оказалось не ощутимым ни в Таганте, ни в Ходе. Все связи Акжужта как центра производства меди были ориентированы на север, в сторону Марокко. И не случайно мавританский очаг медной металлургии располагался непосредственно у южной оконечности западной «дороги колесниц», о которой мы только что говорили в связи с гарамантами. «Дорога колесниц» напрямую связывала этот очаг с более ранним по времени центром металлургического производства в Южном Марокко. Иначе говоря, можно предполагать, что в район Акжужта эта отрасль производственной деятельности людей пришла из Северной Африки (где последовательность металлов была такой же, как и в Европе).
Предки же создателей Ганы знали уже и выплавку, и использование железа. Быть может, все дело было в хронологии: в Западную Африку железо пришло, видимо, из Средиземноморья не позднее начала второй половины I тысячелетия до н.э. (рождение знаменитой культуры Нок, культуры железного века, в Северной Нигерии датируется V в. до н.э.) и могло появиться в сахельских районах Мавритании и Мали еще до сложения очага медной металлургии в районе Акжужта. К тому же теперь мы достоверно знаем, что не позднее III в. до н.э. выплавка железа и изготовление железных орудий были хорошо известны в междуречье Нигера и его правого притока Бани, где около этого времени возник древнейший городской центр Западного Судана – Дженне.
Но ведь и гангара не были, вероятно, первооткрывателями земледельческого хозяйства в тех местностях, где предстояло несколько столетий спустя сложиться Древней Гане. В те же 60-е годы американский археолог Патрик Мансон начал раскопки в Южной Мавритании, в районе скалистого уступа Дар-Тишит, и обнаружил здесь множество следов существования оседлого земледельческого населения еще в конце II тысячелетия до н.э. По-видимому, поначалу речь шла, собственно, не о регулярном земледельческом хозяйстве, а о постоянном сборе зерен дикорастущих злаков. Лишь позднее обитатели этих мест перешли к сознательному возделыванию отобранных в течение веков растений. Для ранних фаз заселения Дар-Тишита характерно было и развитое рыболовство: в этом районе сохранилось множество следов существования озер, а в кухонных отбросах – немалое количество рыбьих костей: сухость климата позволила им уцелеть, не в пример органическим остаткам в более южных областях Судана.
Выделенные Мансоном восемь фаз развития культуры обитателей Дар-Тишита засвидетельствовали нам не просто эволюцию хозяйства ее создателей. Они показывают и то, как менялась жизнь этих людей под влиянием, с одной стороны, изменений климатических, а с другой – вследствие перемещения населения с севера на юг, происходившего в конечном счете из-за этих самых изменений климата, проще говоря – из-за все усиливавшегося высыхания Сахары.
Первоначальные поселения размещались на краях впадин, которые когда-то были озерами, т.е. у самой воды. Они могли быть довольно велики по размерам, а главное – не имели оборонительных оград. Именно в таких поселениях и сохранились следы рыболовства. Постепенно поселения становятся меньше, начинают взбираться на холмы, и вокруг них обязательно возводятся стены. Совершенно очевидно, что, во-первых, гораздо труднее стало с водой (появляются колодцы, причем чем дальше, тем глубже они делаются, возникают и бассейны для сбора дождевой воды), а во-вторых, заметно осложнились отношения с соседями: теперь приходилось думать о том, чтобы от них оборониться. Речь явно шла о миграции с севера каких-то скотоводческих народов.
К концу неолитической эпохи, в последней фазе развития культуры обитателей Дар-Тишита, пришедшейся на время между 600 и 300 гг. до н.э. (Мансон назвал ее «фазой Акжинжейр» по названию одного из поселений), археологические материалы свидетельствуют о все нараставшем давлении на Дар-Тишит какого-то народа (или группы народов), знавшего уже железо и, вероятно, рабовладение; скорее всего, это были какие-то берберские племена. Именно с этим натиском мигрантов с севера связаны были легенды о якобы «белых» основателях Древней Ганы, принесших-де полудиким африканцам Судана свет культуры и государственности.
Такими носителями культуры и государственности считали разные народы – от североафриканских берберов до неких выходцев из Сирии и Палестины, которых будто бы изгнали с их родины римские завоеватели и которым якобы и была обязана своим возникновением Древняя Гана. Препятствием на пути к окончательному утверждению таких концепций служило, правда, то, что арабоязычные авторы в один голос и совершенно однозначно утверждали: Гана – страна черных людей и правители ее тоже были черными по цвету кожи. Да и общая логика развития науки вместе с изменением всего социально-политического климата в мире после 1945 г. заставляли ученых на Западе с определенной долей осторожности и скепсиса относиться к тезису о «белых» основателях Ганы.
Правда, одно из исторических сочинений, созданных гораздо позднее времен существования Ганы, в XVI—XVII вв. (об этом труде, его авторах и обстоятельствах создания нам еще предстоит говорить подробно), донесло до нас предание о каком-то перевороте, будто бы происшедшем в Гане, когда Аллах-де уничтожил власть ее правителей «и воца-рил самых низких из них над великими их народа». Автор этого сообщения склонен был считать прежних ганских правителей выходцами из берберского племени, точнее – группы племен, чаще всего именуемой санхаджа (хотя весьма вероятно, что это искаженная в арабской передаче форма названия знага, или азнаг). Он, впрочем, не скрыл и того, что иные относили правившую в Гане династию к народам с черным цветом кожи – уакоре (одно из названий современного народа сонинке) или вангара (так обычно именовалась часть народа сонинке, занимавшаяся торговлей). Но все же предпочел в конечном счете сказать, «что они не были из числа черных», однако завершил этот пассаж типичной для средневековой арабо-язычной литературы формулой: «а Аллах лучше знает». И пояснил: «ведь время их и место удалены от нас. И не способен историк этих дней представить истину о чем-либо из дел их».
Основываясь на этом тексте, французский ученый Морис Делафосс, один из основателей научной истории Западного Судана, предположил, что речь идет о свержении и истреблении белых потомков основателей Ганы и о приходе к власти правителей из народа сонинке. События эти он относил к рубежу VII—VIII вв. – времени, когда арабы начинали знакомиться с Сахарой и с ее южным «берегом».
Археологические исследования Дар-Тишита позволили дать этому преданию более рациональное истолкование. Оно, по всей видимости, отразило усилившиеся еще в последние столетия до нашей эры столкновения землевладельцев с надвигавшимися с севера кочевниками-скотоводами. Возможно, на какие-то периоды гегемония в этих местах действительно оказывалась в руках пришельцев. Но те же археологические материалы позволяют утверждать, что у оседлых носителей земледельческого хозяйства развитая общественная организация и относительно крупные и сложно построенные структуры власти (назовем их условно политическими) возникли еще между 900—700 гг. до н.э., а по мнению некоторых исследователей, даже раньше. Общественное развитие оседлого населения шло быстрее, чем у кочевников. И в итоге созданные гангара (ибо речь идет о них), или, если угодно, «протосонинке», структуры власти оказались достаточно развитыми и действенными, для того чтобы надолго воспрепятствовать продвижению кочевников-берберов в эту часть Сахеля и Судана. Именно на базе этих единиц и выросло в первые века н.э. и окончательно оформилось к рубежу IV в. первое крупное раннеполитическое образование – Гана. Его и застали, придя в Западный Судан, арабы. Его-то и прозвали они «страной золота». И именно рассказы арабских путешественников составили основу фонда наших знаний об этой стране в пору ее расцвета – в VIII—XI вв.
Пути через пустыню
Арабы начинали «осваивать» маршруты через Сахару довольно рано. Первое конкретное предприятие такого рода, известное по сочинениям историков и географов, относится уже к 20-м годам VIII в., когда наместник омейядского халифа Хишама – Убейдаллах ибн Хабхаб – отправил из Марокко военную экспедицию на юг, в сахарские оазисы. Вероятно, это было не единственное предприятие военного характера. И все же не военные походы стали основным источником сведений о народах, обитавших к югу от Сахары.
Арабское завоевание, как уже говорилось, не разрушило давнюю традицию торговли с Западным Суданом – те, кто ею занимался раньше, продолжали это и при новых правителях, приняв, во многих случаях чисто формально, новую религию. И более того, с установлением на Севере власти завоевателей в торговле наступило несомненное оживление. А в этом оживлении немалая роль выпала на долю людей, представлявших одно из трех важнейших политико-религиозных течений в раннем исламе – хариджитов, грандиозное восстание которых в 40-е годы VIII в. на время привело к фактической ликвидации власти халифата Омейядов на всей территории Северной Африки к западу от границ современной Ливии.
Многочисленные общины ибадитов – одного из крупнейших (а главное, не отличавшегося склонностью к военному решению спорных вопросов политико-правового характера) внутри мусульманской общины ответвлений хариджитства оказались на протяжении VIII в. в конечном счете оттеснены к южной, сахарской, окраине нынешних Алжира и Марокко. Они-то, рассеянные на этой огромной территории, и вступили первыми из мусульман в торговые связи с западными областями Судана и поддерживали эти связи достаточно тесными в течение как минимум трех столетий – пока в Северной Африке не восторжествовал окончательно один из четырех главных толков «правоверного» ислама, маликитский. Можно почти уверенно утверждать, что и самый-то ислам как вероучение впервые появился в торговых поселениях Западного Судана в форме ибадитства.
Во всяком случае, уже в конце VIII в. в сахарских оазисах, а очень скоро и в сахельско-суданской зоне жило множество ибадитов. А придя в Западный Судан, мусульмане (и ибадиты и неибадиты) застали на востоке региона, там, где Нигер чуть выше города Гао поворачивает к юго-востоку, уже сложившееся княжество сонгаев – княжество, которому предстояло шесть столетий спустя вырасти в одну из могущественнейших держав доколониальной Африки, а к северо-западу от большой излучины реки – крупное и сильное политическое образование – Гану. Еще западнее, по обоим берегам среднего и нижнего течения Сенегала, располагалось еще одно политическое образование, привлекавшее внимание арабоязычных авторов, – Текрур. Правители этих стран, в первую очередь, конечно, Ганы, держали в руках ту отрасль торговли, которая больше всего интересовала новых хозяев Северной Африки, – торговлю золотом (в последующие века заметно увеличилась роль такой статьи экспорта, как невольники, но первое место все-таки неизменно оставалось за золотом). Как раз это и обеспечило Гане такое усиленное внимание арабских географов. Больше всего и прежде всего старались они подчеркнуть в своих сочинениях обилие драгоценного металла в «Билад ас-Судан» – «Стране черных», как с самого первого знакомства прозвали арабы необозримые пространства к югу от Сахары. Золото надолго стало для них главным отличительным признаком Западной Африки вообще и Ганы в частности. Вот что писал, например, один из ранних и самых серьезных историков и географов Ахмед ибн Якуб ал-Якуби в 70-х годах IX в.: «Затем государство Гана. Царь их также велик достоинством. В его стране есть золотые рудники, а под его властью находятся многочисленные цари... И по всей этой стране – золото».
Здесь, наверно, следует сделать оговорку. Только что мы встретились и будем встречаться во многих местах последующего текста с такими понятиями, как «царь», «царство», «княжество» и им подобные. В нашем языке все эти слова имеют многовековую традицию употребления, и мы почти подсознательно связываем с ними определенный комплекс черт и особенностей, присущих данным понятиям. ,Так вот, те средневековые африканские правители, которых мы привычно ими обозначаем, за редкими исключениями имели мало общего с тем образом, что возникает в нашем с вами сознании, например, при слове «царь». Уж слишком разным был уровень развития африканских обществ средневековья и тех, которые соответствуют привычному нам понятию. И о такой «условности» терминологии придется помнить все время.
Ал-Якуби не случайно связал Гану с золотыми рудни¬ками. Из нескольких торговых путей, что вели из Средиземноморья в Западную Африку, два выводили прямо в доли¬ну Нигера. Самый западный начинался на юге Марокко, в не существующем в наши дни богатом торговом городе Сиджилмасе, шел через Тегаззу (в этом захудалом поселке посреди пустыни добывался второй важнейший товар западноафриканской торговли – соль), а оттуда разветвлялся на два: одна ветвь выводила непосредственно в долину Ниге¬ра, у западной оконечности большой излучины реки, а другая – через важный торгово-ремесленный город Аудагост, о котором мы еще будем говорить подробно, к столице Ганы, городу Кумби. В наши дни – это необитаемое городище Кумби-Сале неподалеку от современной границы Мавритании и Мали, на мавританской стороне ее. Из столицы же прямой путь шел в золотоносные области в верховьях Нигера и Сенегала.
Из Аудагоста же начиналась дорога в Текрур, т.е. на запад-юго-запад: столица Текрура находилась в районе современного сенегальского города Подор (правда, позднее был проложен еще один путь из Марокко к низовьям Сенегала, шедший недалеко от побережья Атлантики).
Вторая главная торговая артерия вела от побережья Триполитании через оазисы Гадамес и Гат к восточной оконечности большой излучины Нигера. Здесь находился Гао (или Гаогао) – один из главных торговых городов в бассейне среднего течения реки. Основанный, видимо, в VIII в. у выхода к Нигеру сухой долины (уэда) Тилемси, он быстро сделался важным центром торговли через пустыню. Тот же ал-Якуби говорит: «Затем государство Гаогао – это наибольшее из государств черных, славнейшее из них властью и величайшее из них деяниями. Все царства черных повинуются его царю. Гаогао – название города. А кроме того, множество царств повинуется ему и признает его главенство, хотя их цари – цари в своих странах». И далее следует длинный список таких подчинявшихся правителю Гао «царств». Конечно, почти все они были небольшими – территория их чаще всего ограничивалась каким-нибудь одним оазисом. Но вот что в данном случае показательно: все они лежали к северо-западу от Гао – на большой караванной дороге в Триполи, а оттуда – в Египет.
Этот второй торговый путь тоже разветвлялся. Дорога на Гао, о которой только что шла речь, уходила от города Агадес на плато Аир в западном направлении; и от Агадеса же начинался путь на юг и юго-восток – в страны, населенные народом хауса (нынешняя Северная Нигерия), и в район озера Чад. Но примерно до XIV в. это ответвление играло значительно меньшую роль.
Правда, арабы, познакомившись с Западной Африкой, застали еще действующей старинную дорогу, которая некогда напрямую связала Египет с Ганой. Но этот путь уже отмирал; к X в. от него совсем отказались. Абул-Касим Ибн Хаукал, один из крупнейших арабских географов домонгольского времени, человек, объездивший чуть ли не весь тогдашний мусульманский мир как купец (а, может быть, и как негласный агент египетских халифов-Фатимидов), очень наблюдательный и точный, писал об этом пути в своей «Книге облика Земли»: «По этим пустыням проходила дорога из Египта в Гану; но непрестанные ветры обрушивались на караваны и одиноких путников... и погубили не один караван и не одного путешественника. Нападали на них и враги и не раз губили их. И эти народы отказались от той дороги, оставили ее и стали ездить по дороге на Сиджилмасу». Написаны эти слова были в середине 70-х годов X в.
А почти через два столетия, в начале 50-х годов века двенадцатого, другой видный арабский географ – Абу Абдаллах Мухаммед ибн Мухаммед ал-Идриси – вернулся к рассказу о запустевшем пути из Египта в Гану. По его сообщению можно более точно себе представить, как он проходил; начало этого пути лежало в сахарских оазисах к западу от Нильской долины. Эту область в арабо-язычной географической литературе так и называли «Оазисы» – ал-Вахат. Можно себе представить, сколь давними были связи Египта с Западной Африкой, если Ибн Хаукал в последней четверти X в. уже мог говорить о прямом пути Гана – Египет, так сказать, в давнопрошедшем времени. Впрочем, практически на всех караванных путях через Сахару купцам и прочим путешественникам приходилось иметь дело со всеми теми трудностями, которые заставили отказаться от дороги ал-Вахат – Гао. Не говоря уж о недостатке воды и продовольствия, об очень трудных климатических условиях, успешный ход торговли и самое пересечение Сахары в очень большой степени зависели от хороших взаимоотношений с хозяевами пустыни. А ими были туареги – воинственные племена берберов-кочевников, потомков древних ливийцев. Арабы называли их ал-мулассамин – «завешивающие лицо покрывалом». Дело в том, что лица туарегов-мужчин всегда закрыты особой повязкой, прикрывающей от пыли нос и рот; над повязкой – она называется «лисам» – остаются только глаза.
С незапамятных времен туареги взимали нечто вроде пошлины со всех проходивших караванов за «покровительство», а по существу, – за беспрепятственный проход через районы кочевий. Ибн Хаукал, к примеру, рассказывает об одном из крупнейших кочевых племен Западной Сахары – мессуфа: они-де «собирают надлежащую долю с тех, кто проезжает мимо них по торговым делам – с каждого верблюда и с каждого вьюка; также и с тех, кто возвращается с золотым песком из страны черных. Это одно из их занятий».
Купцам приходилось беспрекословно платить: без согласия кочевников нечего было и думать пытаться пересечь пустыню. Но надо отдать должное и туарегам: они все же старались не отягощать торговлю такими поборами, каких она не смогла бы выдержать (хотя, конечно, не всегда могли устоять перед соблазном пограбить – но это все же были исключительные случаи). Больше того: как бы ни складывались отношения между разными туарегскими племенами – а столкновения между ними случались в пустыне нередко, – столкновения эти, как правило, на торговле не отражались. Ведь и для туарегов торговля была необходимостью. Они нуждались в зерне, а его можно было получить только из областей с оседлым земледельческим населением: зерна из подвластных кочевникам оазисов не хватало. Поставка верблюдов для караванов тоже была важной статьей дохода кочевников Сахары. И в итоге туарегам приходилось соблюдать какие-то разумные пределы в своих претензиях.