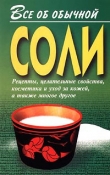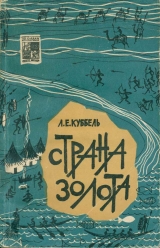
Текст книги "Страна золота - века, культуры, государства"
Автор книги: Лев Куббель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
По всем этим причинам решающее значение имело социальное положение матери или жены. Сонгайские правители обеих династий строго следили за соблюдением соответствующих правил. При этом первенствующую роль играло, конечно, желание обеспечить сохранение за собственником возможно большего числа зависимых людей. Мужчинам из все тех же 24 «племен», унаследованных ал-Хадж Мухаммедом 1, еще в ту пору, когда они были собственностью правителей Мали, было строжайше предписано: жениться на свободных женщинах они могут только в тех случаях, когда внесут большой выкуп семье невесты. «Из опасения, как бы женщина и ее дети не потребовали для себя свободы, и желая, чтобы они со своими детьми оставались в собственности малли-коя», – так разъясняет смысл запрета «История искателя».
Другими словами, зависимому разрешалась женитьба на свободной женщине только при условии, что родня этой женщины попросту согласиться продать в рабство ее, а значит, и ее детей. Аския ал-Хадж Мухаммед после консультации с факихами внес изменение в форму запрета. По установленному им порядку, при отце-свободном и матери-несвободной ребенок безоговорочно признавался несвободным; а при несвободном отце и свободной матери он считался рабом только в том случае, если оставался в семье отца и продолжал заниматься тем же, чем занимался отец. Уйдя в семью матери, он получал свободу. Легко заметить, что, несколько изменив правило в пользу хозяина раба, аския все-таки вынужден был сохранить его основной смысл: социальное положение человека определено социальным статусом его матери. Мусульманской правовой теории пришлось и здесь отступить перед древним обычаем.
«История искателя» включает довольно любопытный рассказ, в котором очень хорошо видно отношение и самого ал-Хаджа, и его преемников к соблюдению таких запретов. В местности Анганда, к востоку от озера Дебо, рассказывает хронист, некогда обитало смешанное население, состоявшее из свободных сонгаев, зинджей и дьям-кириа (так называлась одна из ремесленных каст). Сонни Али завоевал Анганду,
сонгаев перебил, а части зинджей и кузнецов дьям-кириа сохранил жизнь. Когда воцарился аския Мухаммед I, уцелевшие мужчины этой местности обратились к нему с покорнейшей просьбой: дать им жен. Аския просьбу выполнил, но довольно своеобразно. В жены жители Анганды получили женщин, тоже принадлежавших к зинджам, а кроме того, новобрачным было предписано сохранять эндогамию внутри каждой пары.
Что в этой истории интересно? Во-первых, то, что аския дал соизволение на смешение людей, принадлежавших к разным зависимым группам только при условии, что сохранится их зависимое состояние. А во-вторых, создавая новые неполноправные группы, он сразу же постарался их сделать еще более замкнутыми.
Но на этом дело не кончилось. Очень много лет спустя, когда аскии ал-Хадж Мухаммеда I давно уже не было в живых, к его внуку, аскии Исхаку II, явились трое мужчин, прося аскию принять их под свою высокую руку. Исхак по¬началу обошелся с просителями милостиво, но когда узнал, что все трое родом из Анганды, то не только возвратил владетелю этой местности зависимых – кузнеца и зинджа, – но и объявил собственностью того и третьего просителя. А он был свободный сонгай, имевший неосторожность взять в жены женщину из Анганды. И при этом в обосно¬вание своего решения Исхак сослался именно на давний указ ал-Хаджа I.
Большое число невольничьих сельскохозяйственных посе¬лений сильно расширило экономическую базу центральной власти. Обилие продовольствия на западносуданских рынках, которое поразило Льва Африканского, во многом как раз этим и объяснялось. Ведь помимо посаженных на землю рабов в Сонгайской державе существовало и свободное крестьянство. И невольники, сидевшие на земле, должны были заметно облегчать его положение. Их эксплуатировали гораздо сильнее, чем в Мали; и свободные благодаря усилению эксплуатации зависимых имели возможность сохранять большую долю плодов своего труда, которую иначе постаралась бы у них отобрать и уж, во всяком случае, основательно ограничить «своя» же сонгайская знать. Впрочем, мы уже имели возможность убедиться в том, что Льва Африканского отличала помимо всего прочего и незаурядная трезвость взгляда. Именно такой трезвый взгляд и обусловил не лишенную иронии оценку молодым марокканским «интеллектуалом» того, как жило большинство населения «Гаго и его королевства»: царская казна явно обходилась с этими людьми без чрезмерной снисходительности. Так что и облегчение оказывалась, вероятно, довольно относительным.
Конечно, непрерывное усиление сонгайской аристократии по необходимости должно было сопровождаться и столь же непрерывным (хотя вовсе не обязательно синхронным) ухудшением положения свободных земледельцев-сонгаев даже при том, что сохранение большой семьи могло и замедлять этот процесс. Не исключено, что какая-то часть аристократии уже в XVI в. использовала на своих землях труд свободных сонгаев наряду с невольничьим. Свободное трудовое население, так же как и в Мали, постепенно попадало в зависимое состояние, когда отличие его от невольников становилось почти исключительно правовым (но также, что очень немаловажно, и идеологическим, отражавшимся в общественном сознании), тогда как экономическая разница мало-помалу переставала чувствоваться. Везде и по¬всюду в истории сложение общественного класса крупных собственников неизменно сопровождалось другим явлением: постепенно рождался и противоположный класс – зависимое крестьянство. Причем в его общей массе поначалу совсем разных, по выражению одного исследователя, «категорий свободы, полусвободы и несвободы» понемногу пропадала разница между бывшим рабом и бывшим свободным. С разных сторон и тот и другой приходили к одному и тому же по своей социальной сущности зависимому состоянию. Об этом нам уже пришлось говорить в главе, посвященной Мали; а в Сонгай развитие на протяжении времени расцвета державы шло в том же направлении. Только в первый период после прихода к власти второй сонгайской династии, в конце XV – начале XVI в. в этом непрерывном процессе на некоторое время усилилась его рабская «составляющая».
И все же, даже если учесть усиленное использование подневольного труда, положение тех, кого мы на всем протяжении этой главы называем рабами, очень сильно отличалось от того, что мы привыкли видеть в классических, если можно так сказать, странах рабовладения – Древней Греции и Древнем Риме. В сущности, так же как и в Мали, рабы в Сонгайской державе скорее были полурабами-полу-крепостными. Они сохраняли какое-то собственное хозяйство. Настоящая барщина (единственную попытку ее ввести предпринял, как мы видели, сонни Али) просуществовала очень недолго: просто не под силу было царской адми¬нистрации обеспечить тот жесткий полицейский контроль, ко¬торый один только и может сделать успешной такую форму применения труда зависимых.
Но кое-что и отличало полурабов-полукрепостных времен аскиев от их малийских предшественников – прежде всего то, что они были ближе к крепостному, нежели к рабскому состоянию. Но зато в Сонгайской державе не существовало тех довольно широких рамок, в которых мог изменяться во времени социальный статус раба у мандингов, хотя и признавалось, так сказать, в принципе, что рабы, рожденные в доме господина, имеют преимущество перед «новенькими». Но в целом все здесь было намного жестче, сословное не¬равенство между свободным и несвободным сохранялось гораздо строже, а следов рабства патриархального, домашнего оставалось куда меньше!
«История искателя» содержит очень любопытный рассказ, из которого хорошо видно, насколько различались взгляды на положение раба в Мали и в Сонгай. Один из фанфа – на¬чальников невольничьих сельскохозяйственных поселений – сумел накопить немалые богатства, так что не только покрыл за счет своих запасов риса от предыдущего урожая взнос за следующий год, но и роздал в виде благочестивой милостыни тысячу сунну зерна (ни много ни мало как около 250 тонн!). Аскии Дауду это очень не понравилось: «Он мне прибавил раздражения, – заявил аския своим советникам, – тем, что этот раб, при его положении, бедности и ничто¬жестве, дает милостыню с посевов, с которых выходит тысяча сунну. А что же буду раздавать милостыней я? И чего он домогается этим, если не прославления своего имени, которым бы выделился среди своей общины?!».
Аския отправил доверенного евнуха с ревизией. И виновник происшествия, как и обещал, передал посланному все, что с него причиталось в казну. Дауда – а ведь хронисты всячески восхваляют его благочестие и справедливость! – это привело в еще большее раздражение. «Разве я вам не говорил, – обратился он к приближенным, – что этот раб насытился до того, что равняет себя только с нами или нашими детьми?».
Но советники успокоили Дауда. «Все рабы одинаковы, – пренебрежительно заметил один из них при единодушном одобрении прочих, – ни один не возвышается иначе, как возвышением своего господина, а его достояние – достояние господина его. И когда возгордится царь из подобных тебе... тем, что раб, который ему принадлежит, подарил-де то-то и то-то, то им говорят: раб аскии подарит бедным тысячу сунну!». А остальные, почувствовав, что Дауд сменил гнев на милость, добавили к этому: «И где твой дар, а где дар раба твоего? Разница между ними та же, что между Плеядами[32]32
Плеяды – звездное скопление в созвездии Стрельца.
[Закрыть] и сырой землей...». Иначе говоря, как бы ни был богат зависимый человек (а таких начальников рабов, как герой этого рассказа, наверняка было немало), он и думать не мог сравняться со свободным сонгаем в социально-политическом отношении.
Именно царствование аскии Дауда, сына ал-Хадж Мухаммеда I, стало высшей точкой расцвета Сонгайской державы. И все та же «История искателя» сообщает нам о Дауде, что «он был тем, кто начал получать наследство воинов; он говорил, что они – рабы его. Раньше того так не бывало, и от воина наследо¬вались только его лощадь, щит и дротик – и только, не более». Правда, как бы желая предупредить дальнейшие обвинения, которые могли бы «подпортить» создаваемый им образ праведного государя, хронист тут же сокрушенно свидетельствует: «Что же касается взятия аскиями дочерей их воинов и обращения их в наложниц, то этот несчастный случай предшествовал времени его правления. Все мы принадлежим Аллаху и к нему возвратимся!» Но оговорка эта не в состоянии затемнить социально-экономический смысл того, что делал Дауд: его руками правящая верхушка начала наступление на права не только наемников из Хомбори, но и служилого слоя сонгайской знати (лошади были только у нее), стремясь понемногу уравнять его со своими рабами и вольноотпущенниками, слить все эти категории людей – «подданных», отпущенников, зинджей, ремесленников, воинов – в единый в социальном смысле класс зависи¬мого крестьянства.
Власть имущие: царевичи, сановники, факихи
Но и для господствующей верхушки изменение условий по сравнению с Мали имело очень существенные последствия. Только что у нас была речь о сравнительной жесткости сословных границ у сонгаев. Отсюда следовал совершенно недвусмысленный вывод: полоняники, захватывавшиеся сонгайскими отрядами в непрестанных военных предприятиях, могли быть либо посажены на землю, либо использованы для продажи на север. Ни о каком рабском войске не было речи до самого конца 80-х годов XVI в., когда хронисты впервые отмечают существование отрядов евнухов-телохранителей при особе аскии Исхака II. И сонгайская военная знать могла не страшиться опаснейшего конкурента – военачальников и прочих вельмож рабского происхождения. Они были, но никогда не составляли в Сонгайской державе самостоятельной группы, тем более корпорации.
И главные наши источники, хроники Томбукту, целиком подобный вывод подтверждают. Они называют множество высших государственных, военных и придворных должностей, но напрасно стали бы мы искать на пятистах с лишним страницах арабского текста «Истории Судана» и «Истории искателя» – а там названы не одни только должности, но и имена тех, кто их занимал в разные годы и при разных царях, – хоть что-то похожее на всесилие «ближних рабов», мандингских дьон-сантиги-у. Нет, почти на всех этих постах сидели свободные люди. И не просто свободные, а, так сказать, сливки сонгайского общества: царевичи всех рангов и всех степеней родства с царствовавшими особами – сыновья, братья, дядья.
При этом все эти сановники, царевичи и нецаревичи, подчинялись достаточно строгим и последовательно соблюдавшимся правилам прохождения службы. Можно сказать, что в Сонгай существовала настоящая табель о рангах, главным отличием которой от известных нам по отечественной и зарубежной истории был разве что неписаный ее характер. Но в общественном сознании весьма четко было запечатлено: кто есть кто и кто следует за кем – ив смысле ранга, и во время церемонии выезда аскии из дворца. Больше того, сановники разного ранга различались как раз и по их церемониальным одеждам, причем пожалование аскией нового одеяния равнозначно было повышению в ранге. Не случайно один из преемников аскии Мухаммеда, как рассказывает хронист, разделил одно из таких одеяний на два, исключив из него тюрбан. А другой, желая выразить свое презрение к опальному чину, называл того именно «стариком, за всю жизнь не выслужившим себе тюрбана». Этот головной убор явно служил признаком принадлежности к верхнему эшелону царской администрации.
Самую вершину чиновной пирамиды занимали шесть высших государственных чинов. Это были: курмина-фари, или канфари, – наместник всего запада державы, в особенности внутренней дельты, первое лицо после аскии; балама – наместник центральных областей, от Томбукту до Гао; денди-фари – наместник Денди, колыбели Сонгай; фари-мундио – сановник, ведавший контролем над локальными правителями; бенга-фарма – начальник орошаемых земель; хи-кой – глава царского флота. Конечно, как в любом из средневековых обществ, каждый из этих сановников мог выступать и как военачальник. Некоторые из этих титулов нам уже знакомы; часть их существовала и до прихода к власти ал-Хадж Мухаммеда I, другие были учреждены им.
Четыре из этих высших званий носили обычно царевичи. Пожалуй, единственным, кто отклонился от этого принципа, был все тот же аския Дауд: придя на царство с должности курмина-фари (что само по себе вовсе не было правилом, даже наоборот: обычно к моменту борьбы за престол носитель этого звания оказывался слишком далеко от Гао, где все решалось), он одного за другим назначил на свой прежний пост своих доверенных вольноотпущенников. Но два поста – денди-фари и хи-коя – в силу нерушимой традиции всегда принадлежали лицам, не входившим в состав царской фамилии. При этом хи-кой, начальник флота, должен был обязательно назначаться из числа сорко – группы рыбаков, занимавшей в структуре сонгайского общества подчиненное и даже не вполне полноправное положение. И именно эти два поста, да еще гисиридонке, начальник царских гриотов (ибо они были и у сонгайских правителей), как бы олицетворяли тот компромисс между исламом, ревностными поборниками и защитниками которого старались себя зарекомендовать аскии, и сугубо традиционной, почти никак не связанной с исламом политической культурой древнего Сонгай, компромисса, на котором, можно сказать, держалась сама власть потомков Мухаммеда Туре. Потому что большинство народа, даже подавляющее его большинство, было затронуто мусульманством в лучшем случае весьма поверхностно.
И в этих условиях денди-фари был живым выражением связи династии с, так сказать, исконным Сонгай в Денди. Хи-кой же представлял в администрации «хозяев реки» – сорко, и вряд ли яснее можно было показать ту роль, какую всегда играл Нигер в истории сонгаев. А гисиридонке, выражаясь современным языком, обеспечивал идеологическое обоснование и оправдание действий правителя-мусульманина в глазах простых сонгаев, во многом сохранявших (и даже сейчас еще сохраняющих) свои доисламские верования.
Конечно, не следует представлять себе дело так, что эти три сановника были единственными исключениями среди занимавших высокие должности царевичей. Не менее важным исключением была и должность кабара-фармы – наместника уже встречавшейся нам Кабары, гавани Томбукту: на ней всегда сидел доверенный раб или вольноотпущенник аскии. И вот характерная деталь. Там же, в Кабаре, находилась и резиденция баламы – второго по рангу государственного чина. Но сама Кабара была изъята из его ведения. «Кабара-фарма был поставлен над гаванью и судами путешествующих, взимая налог с каждого судна, входящего и выходящего. Балама же состоял начальником над воинами. И каждый из двоих имел свое ведомство», – так говорит об этом хроника. Аскии предпочитали не отдавать слишком большую власть в руки баламы – всегда лица царской крови. Тем более что речь-то шла о доступе в главный торговый город государства.
Административные должности среднего и низшего уровней занимали, конечно, люди, не связанные родством с царским домом. Но в составе административной верхушки решительно преобладали царевичи.
А были они очень многочисленны. Авторы «Истории искателя» постарались как можно аккуратнее перечислить всех детей аскии ал-Хадж Мухаммеда I. Но и они, насчитав тридцать одно имя сыновей основателя второй сонгайской династии, вынуждены были закончить перечень такими словами: «и прочие, коих не счесть из-за множества их. Это те, что мне сейчас помнятся, а большая их часть пропущена».
При таком количестве лиц, которые, по крайней мере, теоретически имели право на престол, – ведь в Сонгай, как и во всех мусульманских государствах средневековья, не существовало твердо урегулированного порядка престолонаследия – интриги и склоки между претендентами были совершенно неизбежны. В этом пришлось убедиться на собственном печальном опыте даже самому аскии ал-Хаджу I. А уж последние дни Сонгайской державы были омрачены мелкой и смешной в тогдашних трагических обстоятельствах усобицей между претендовавшими на престол аскии Исхака II царевичами. И как ни странно, но среди десятков этих царских родственников очень мало оказывалось в нужные моменты не то что незаурядно способных и мужественных, но и просто мало-мальски распорядительных людей. Зато вся история царского семейства полна заговоров, предательств, подлостей и выглядит – при самой снисходительной оценке – на редкость несимпатично. В этом смысле отсутствие аристократии рабского происхождения вполне «возмещалось» существованием многочисленной царской родни, к которой примыкали сонгайская военно-административная знать и правители вассальных княжеств.
Но в состав власть имущих в Сонгайской державе входили не одни только царевичи и царские чиновники. Уже самые условия, при которых осуществлялся переход власти в руки династии ал-Хадж Мухаммеда, предопределили важнейшее место, которое в сонгайской правящей верхушке заняли купечество и факихи главных торговых центров западной части государства – Дженне и Томбукту. Об этом уже была речь, и сейчас стоило бы, наверно, просто присмотреться к тому, какова же была эта часть правящего слоя населения Сонгайской державы.
В результате уступок, которые пришлось сделать первому аскии, факихи и купцы Томбукту и Дженне почти сравнялись по силе и влиянию с военно-административной аристократией. С кадием Махмудом ибн Омаром ибн Мухаммедом Акитом и его сыновьями, фактически управлявшимиТомбук-ту почти на всем протяжении XVI в., мы уже встречались, как встречались и с откровенно высказывавшимися «отцом благословений» (так именуют Махмуда ибн Омара хронисты) притязаниями на признание за ним верховной власти над городом. По мнению многих исследователей, весь XVI в. «благочестивцы» из Томбукту сознательно создавали и поддерживали напряженность в отношениях между своим городом и Гао – между экономическим и политическим центрами державы. Причем с годами отношения между кадиями Томбукту и царским двором в Гао не делались лучше. Последние десятилетия существования великой Сонгайской державы духовные князья Томбукту вообще были чем-то вроде полуоткрытой, молчаливой оппозиции – а впрочем, совсем не всегда такой уж молчаливой. Недаром один из последних государей династии аскиев, потерпев унизительное поражение во время карательной экспедиции в Гурму, больше всего огорчался тем злорадным шушуканьем, кото-рое-де поднимется в Томбукту, когда туда дойдет весть о его неудаче.
За кадиями Томбукту и Дженне тянулись судьи городов поменьше. Еще в первое десятилетие правления ал-Хадж Мухаммеда I некий кадий Омар, поставленный аскией в одном городишке неподалеку от Томбукту, публично обругал не кого-нибудь, а самого же государя за то только, что тот, используя свое законное право, назначил самостоятельных кадиев в Томбукту и в этот городишко. Справедливости ради надо сказать, что дело-то началось с ябеды, выражаясь старинным приказным языком, кадия Махмуда ибн Омара на своего коллегу. И вот на какое обстоятельство здесь надо обратить внимание.
Только что описанная ссора между факихами была отнюдь не единственной, да и не самой серьезной. Вообще отношения между самими факихами были довольно далеки от идиллии. Помимо личных амбиций речь шла и о более серьезных вещах. Скажем, в том же Томбукту существовали определенные трения между кланами факихов, связанными с разными мечетями города – соборной Джингаребер и сравнительно молодой Санкорей. Именно на последнюю опирались потомки Мухаммеда Акита – берберский клан, меньше чем за два поколения превратившийся из военно-кочевого, каким он был еще в первой четверти XV в., в оседлый, марабутический. В то же время мечеть Джингаребер была опорой факихов местных, по преимуществу с черной кожей. Я упоминал уже о попытке «оттереть» Махмуда ибн Омара от судейской должности, воспользовавшись его отъездом в хадж. Это было как раз одним из проявлений соперничества между группами богословов. Цвет их кожи в таком соперничестве, впрочем, никакой роли не играл – ставкой были в высшей степени существенные материальные выгоды. Случались и другие столкновения, и поведение сторон в этих конфликтах нередко основательно отклонялось от канонов добродетели. К тому же лиц, условно говоря, духовного звания – кадиев, имамов и хатибов мечетей, а особенно шерифов, настоящих и ненастоящих, стало столько, что они и по численности стали догонять военную аристократию, а их претензии и паразитизм съедали все большую долю общественного богатства. И дележ этой доли неизбежно сопровождался склоками и вымогательствами.
Но едва дело доходило до противостояния претензиям царской власти, все разногласия и ссоры оказывались отодвинуты в сторону. И царские чиновники встречали единый .сплоченный фронт. Конечно, аскии иной раз пытались столкнуть лбами две группировки знати и за счет этого обеспечить себе большую свободу действий. Однако политика эта себя не оправдывала, и в конечном счете знать духовно-купеческая оказалась для центральной власти не лучше военной аристократии. Во всяком случае, она ей не уступала ни своевольством, ни алчностью. А в перспективе-то именно приближенные факихи предадут последнего правителя уже развалившейся великой державы – аскию Му-хаммеда-Гао, отдав его в руки марокканских завоевателей, тогда как высшие военные чины останутся ему верны до конца и готовы будут продолжать сопротивление (кстати, вовсе еще не бывшее в тот момент безнадежным).
С разного рода мелкотой царская власть еще кое-как справлялась, хотя и не всегда. Но открыто ссориться с аристократией Томбукту и Дженне, в руках которой находилась добрая половина всей внешней торговли державы, – этой роскоши аскии себе позволить не могли. Особенно последние. Вот и пришлось ал-Хаджу II в 80-х годах XVI в. по-корнейше испрашивать у кадия ал-Акиба разрешение на то, чтобы ему, аскии ал-Хаджу II, участвовать в расходах на перестройку мечети Санкорей.
Сила князей духовных заключалась, конечно, не только, да и не столько в их духовном авторитете. В их руках скопились огромные богатства. Мы только что видели, как государи раздаривали им сотни и тысячи душ зависимого населения, порой вместе с местностями, где это население обитало. В начале марокканского вторжения, например, один из множества суданских шерифов владел 297 «домами» зависимого населения. Слово «дом» в тексте «Истории искателя», скорее всего, обозначает патриархальную семью, живущую в одной усадьбе, – речь, следовательно, шла о нескольких тысячах человек. А ведь Мухаммед ибн ал-Касим, которому они принадлежали, вовсе не был самым богатым из шерифов! Притом раздавали не одних только земледельцев, но и ремесленников.
Постепенно (с ходом XVI в. все быстрее) стиралась граница между военно-административными сановниками и высшим мусульманским духовенством, составлявшим на практике единое целое с высшим купечеством: князья духовные превращались одновременно и в светских князей. Но все же сохранялись две области жизни, в которых мусульманское духовенство в истории Сонгай неизменно оказывалось сильнее не только военной аристократии, но и самой царской власти, – внешняя, т.е. транссахарская, торговля и культура. Что касается последней, где власти и в голову не могло прийти не то чтобы оспаривать позиции факихов, а просто самой играть хоть какую-то роль, – то о ней речь впереди. А в торговле у духовенства существовали давние и прочные традиции, оно располагало обширными налаженными связями и немалым опытом. За несколько веков факихи настолько переплелись с купцами, что их порой очень непросто было отличить друг от друга, особенно когда такие, казалось бы, довольно разнородные занятия совмещал один и тот же человек.
Абдаррахман ас-Сади, автор «Истории Судана», с глубоким и искренним уважением относившийся ко всем благочестивым мужам, когда-либо жившим в Томбукту, выделял в числе особо почтенных шерифа Сиди Яхью ат-Таделси (его именем и сегодня называется третья большая мечеть этого некогда процветавшего города). И вот он рассказывает о шерифе историю, которая, пожалуй, современному читателю хроники может показаться довольно ехидной насмешкой над святым мужем – хотя, конечно, сам ас-Сади, человек совсем иной эпохи, почти наверняка не ощущал этого несколько иронического подтекста.
«В начале дела своего, – рассказывает хронист, – Сиди Яхья, да помилует его Аллах Всевышний, воздерживался от торговых дел; впоследствии же он в конце концов ими занялся. И рассказывал он, что до того, как занялся торговлей, видел во сне пророка каждую ночь... Потом стал он его видеть только раз в неделю, затем – раз в месяц и, наконец, – раз в год. Его спросили, что тому причиной. Шейх ответствовал: "Я считаю, что только те торговые дела...". Ему сказали: "Почему же ты их не бросишь?". Он же возразил: "Нет, я не люблю нуждаться в помощи людей!"». Ас-Сади добавляет к этому – и он, вне сомнения, здесь вполне искренен! – такую сентенцию: «Взгляни же, да помилует Аллах нас и тебя, сколь вредоносна торговля...».
Так, впервые в истории Западного Судана в державе аскии ал-Хадж Мухаммеда I и его преемников появился единый господствующий класс, который сумел объединить в своих руках руководство всеми сторонами жизни общества – хозяйственной, военно-политической и идеологической. Восторжествовала – во всяком случае, на уровне этого класса – новая идеология, которая в большей степени соответствовала достигнутому уровню развития производительных сил и производственных отношений. В Сонгайской державе уже восторжествовали феодальные отношения – тоже в их ранней форме; это, конечно, было довольно далеко от привычных наших представлений о европейском феодализме. Но все же открывалась дорога к дальнейшему росту общественного производства на основе форм эксплуатации, близких к крепостничеству. И поэтому мы вправе говорить, что с точки зрения уровня социально-экономической эволюции эта держава оказалась высочайшим достижением народов Западной Африки в доколониальный период.