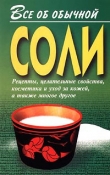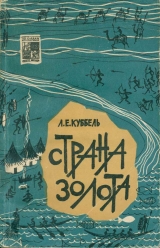
Текст книги "Страна золота - века, культуры, государства"
Автор книги: Лев Куббель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Бремя былой славы
В 1360 г. умер манса Сулейман. И снова вопрос о том, кому стать мансой – сыну прежнего правителя или его двоюродному брату, – решала гвардия, «начальники рабов». Это уже превращалось тоже в своего рода традицию. На сей раз гвардейские командиры высказались в конечном счете в пользу старинного мандингского принципа наследования; Камба, сын мансы Сулеймана, их почему-то не устраивал. И Дьята, претендент на мансайя – верховную власть (вспомните, он был «сын дяди государя по отцу»), о заговоре в пользу которого рассказывает Ибн Баттута, – получив поддержку рабской аристократии, выступил против мансы. Камба погиб в бою, и Дьята стал верховным правителем под именем Мари Дьяты II. В литературе его обычно называют «вторым», потому что в некоторых вариантах предания и у части арабоязычных историков именем Мари Дьята обозначается основатель Малийской державы – Сундьята Кейта.
Мари Дьята пробыл на престоле четырнадцать лет, с 1361 по 1375 г. За эти годы упадок Мали сделался уже совершенно очевиден. Конечно, отблески прежней славы еще падали время от времени на царствование Мари Дьяты II. Например, в 1366 г. мансу посетил претендент на марокканский престол Абд ал-Халим, потерпевший неудачу в борьбе с соперниками. Он, вероятно, надеялся получить от мансы помощь для дальнейшей борьбы. Но тот уже не располагал для этого никакими возможностями.
Историк Ибн Халдун очень резко отзывается о правлении Мари Дьяты II: он-де был извергом и тираном, он промотал сокровища, накопленные предшественниками. Вполне возможно, что манса этот действительно был личностью малосимпатичной. Но дело, конечно, было не в этом. Просто ко времени его правления многие внутренние пороки политической и общественной организации Мали, не выступавшие прежде на поверхность, проявились с полной силой. И было это вполне закономерно. А залезать в казну мансе приходилось потому, что доходы резко уменьшились: от Мали начинали отпадать данники.
Главной причиной все ускорявшегося упадка державы было то, что крупные сановники и отдельные зависимые правители упорно старались освободиться от зависимости, стремились превратиться в самостоятельных государей. Основы этого заложил еще Сундьята, хотя, конечно, он не мог предвидеть такого развития событий. Предание рассказывает, что после победы над Сумаоро Сундьята на общем сборе войска роздал целые области своим ближайшим сподвижникам, обязав их только выплачивать дань и выставлять по требованию мансы вспомогательные военные отряды. К чему это привело, мы видели на примере Факоли Курумы, которого пришлось лишить пожалованных ему владений всего через год после их пожалования.
Но пока продолжался территориальный рост мандингского государства, у высшей малийской знати (да и у военных чинами поменьше) не было особых причин выступать против центральной власти. Ведь сильная центральная власть была необходима для успешного осуществления широкой завоевательной программы. Завоевания же увеличивали фонд свободных земель, и за счет этого фонда мансы жаловали своим воинам земельные участки, население которых обязывали платить дань уже не царской казне, а новому владельцу. Здесь, в Западной Африке, на краю тогдашнего цивилизованного мира, историческое развитие в принципе должно было идти тем же путем, каким оно шло в других частях света. Конечно, темп такого развития был несравненно более медленным; конечно, оставались многочисленные местные особенности – это были прежде всего устойчиво сохранявшиеся следы родового, доклассового общества, которых давно уже не оставалось ни на большей части Европы, ни у большинства народов Ближнего Востока. Особенности эти замедляли развитие, часто они маскировали совершенно новые явления, прикрывали их древними формами хозяйственной и общественной организации. Но смысл развития оставался тот же: возникало и укреплялось эксплуататорское, раннеклассовое общество. Ведущую тенденцию в его развитии можно, видимо, достаточно уверенно определить как феодальную, хотя были предложения ввести в обиход, даже понятие «африканского способа производства», построенного на монополии верховной власти на внешнюю торговлю в сочетании со слабым развитием эксплуататорских отношений внутри общества. Да, действительно, такие отношения рождались в среде самих мандингов очень замедленно; но ведь уже обнаружились и зачатки эксплуатации сажаемого на землю полоняника. И эта оказывалось в конечном счете ближе к использованию труда зависимого крестьянина, чем раба в привычном нам смысле, – об этом уже была речь. А в то же время и феодальный строй неправомерно воспринимать по одним только «классическим» его образцам, таким, как северофранцузский или японский. Феодализм мог быть и был очень разноликим – как говорил В.И. Ленин, от крепостной зависимости до просто сословной неравноправности крестьянина. Так что, говоря о феодальной тенденции в развитии мандингского общества, мы не грешим против истины (хотя полностью эта тенденция едва ли реализовалась повсеместно в Западном Судане даже ко времени колониального его завоевания).
Но раз мандингское общество превращалось в раннефеодальное, то и внутри него действовали те же главные, принципиальные закономерности, что и в любом другом феодализирующемся общественном организме. Одной из таких закономерностей и было стремление отдельных местных владетелей обособиться, раздробить единое политическое целое на множество мелких княжеств. И как только прекратились завоевания, отпала необходимость в существовании единой политической структуры, и центробежные устремления аристократии немедленно проявились во всей их полноте. А завоевывать было больше нечего: на юге захват золотоносных областей сулил прямые невыгоды из-за сокращения добычи металла, а кроме того, и в лучшие-то свои времена Мали бессильно было справиться с моси; на севере и на востоке соседей надежно прикрывала от малийских войск пустыня. Да к тому же как раз в конце XIII и в XIV в. очень усилился восточный сосед – государство Канем-Борну, центр которого располагался юго-западнее озера Чад.
Раздача земель военачальникам еще больше увеличивала влияние верхушки клановых рабов: они превращались в настоящих удельных правителей. А сделавшись ими, «начальники рабов» старались стать самостоятельными ничуть не меньше, чем родня самого мансы. В итоге власть верховного правителя делалась все более и более призрачной, а сам он понемногу превращался в марионетку соперничавших группировок знати.
И когда умер Мари Дьята II, его сын и преемник Муса II оказался фактически пленником одного из своих военачальников, которого звали тоже Мари Дьята. Манса пребывал под стражей и ни к какому участию в делах царства не привлекался.
Вероятно, его вдохновлял при этом пример почти столетней давности – Сакура. Так, следуя примеру своего знаменитого предшественника, он попытался вновь подчинить малийской власти отпавшие было владения на востоке. Увы! Времена были уже не те: Мали очень ослабло, войска было недостаточно, да и боевые его качества резко упали – не было больше побед, вселяющих в воинов уверенность и отвагу. И попытка возвратить под власть номинального мансы медные рудники в Такедде к северо-востоку от Гао, на плато Аир, закончилась постыдным провалом. А ведь еще при Ибн Баттуте вывоз меди составлял важную статью доходов малийской казны!
Но Муса II хотя бы по видимости оставался мансой. А вот его преемнику Магану II повезло гораздо меньше: на престол он вступил в 1387 г., а всего через год некий Сандиги, которого Ибн Халдун называл арабским словом везир, т.е. «помощник; министр», сверг мансу с престола и сам занял его место. Здесь интересно вот что: Сандиги – не собственное имя, как полагал Ибн Халдун, а название должности. Мандингское слово сантиго означает «начальник», а в данном случае – «начальник рабов».
Как видите, пример узурпатора Сакуры продолжал вдохновлять честолюбцев из числа командиров рабской гвардии – они по-прежнему рвались к царскому сану. Но у новых узурпаторов оказывалось много соперников: продержаться у власти Сандиги смог всего несколько месяцев. Потом его убили – сделал это какой-то «человек из числа родных Мари Дьяты», сообщает Ибн Халдун. Причем так и остается неясным: то ли речь идет о «законном» мансе Мари Дьяте II, то ли о временщике при Мусе II. Однако после этого убийства прошло не менее года, прежде чем на престоле Мали оказался манса Маган III – династия Кейта была восстановлена на престоле (Ибн Халдун считал Магана потомком Сундьяты). Но для достижения столь благого результата понадобился год или даже полтора. И в течение всего этого времени «начальники рабов» клана Кейта дрались между собой: каждый надеялся захватить верховную власть. Несмотря на упадок авторитета и военно-политического могущества Мали, к началу XV в. в составе державы еще сохранялись почти все важнейшие ее области. Даже беспокойные сонгайские правители в Гао – и те еще признавали свою номинальную зависимость от Ниани, хотя на самом-то деле давно уже были вполне самостоятельными. Но мандингское государство уже не в состоянии было удержать все эти земли
под своей эффективной властью. И с началом XV в. Мали стало терять контроль над одной областью за другой.
Вновь оживились моси: в 1400 г. их опустошительному набегу подвергся район озера Дебо во внутренней дельте. В наступление перешли и правители Гао. И с этого времени Мали в источниках – и местных и написанных иноземцами – упоминается чаще всего как цель и объект сонгайских военных экспедиций.
Почти одновременно с моси предводитель сонгаев Мухаммед Дао совершил набег на малийские земли. Несколько лет спустя другой сонгайский государь, Сулейман Дама разоряет область Мема. Наконец, в 1433 г. туареги, которых больше уже не сдерживал страх перед малийскими карательными экспедициями, захватывают Валату, Араван иТом-букту – это означало, что активному участию мандингов в транссахарской торговле приходит конец. А окончательно вытеснил Мали из этой торговли сонгайский царь – сонни Али Бер, с которым мы не раз еще встретимся в дальнейшем. Через 35 лет после успеха туарегов его отряды овладели Дженне и Томбукту. В руках сонгаев оказался весь торговый центр Западного Судана: ведь Ниани имел торговое значение, лишь пока был столицей великой державы, гегемонию которой безоговорочно признавали во всем Судане.
Теперь уже мало кому из местных правителей, независимо от размеров их владений, могло прийти в голову соблюдать верность ослабевшим манден-мансам, неспособным ни защитить от опасных соседей, ни покарать за попытку проявить самостоятельность. Один из позднейших западносудан-ских историков рассказывает о довольно любопытной фигуре: некоем Мухаммеде Надди. Он управлял важнейшим экономическим и культурным центром – городом Томбукту. Сначала он делал это от имени малийских государей. Потом, когда туарегский вождь – аменокал – Акил аг-Малвал выгнал из города мандингский гарнизон, Мухаммед Надди остался править городом, но уже от имени Акиля. Это не помешало ему впоследствии обратиться к сонгайскому сонни Али с предложением передать последнему город при условии, что он, Мухаммед Надди, останется его наместником, теперь уже – сот айским. И, рассказав об этом, хронист совершенно спокойно, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся, поясняет: «А при перемене державы менялся только его титул».
Тем не менее все, как известно, познается в сравнении. Конечно, Мали XV, тем более XVI в. окончательно пере– стало быть великой державой Западного Судана. Но до полного распада было еще далеко. Утратив политическую гегемонию и контроль над торговлей через Сахару, Мали оставалось еще достаточно сильным и обширным политическим образованием. И происходило это потому, что в его составе сохранялись не только коренные мандингские области, но, по существу, и вся западная часть региона до самого побережья Атлантики. Ранние европейские мореплаватели получали от жителей побережья такие сведения, как те, которые передает в своей записке уже знакомый читателю да Мосто. О жителях местностей, прилегающих к реке Гамбия, венецианец пишет: «Их главный синьор – форофанголь. Этот форофанголь подчинен императору Мелли, который и есть великий император черных...».
Больше того, Мали избежало и экономического краха, хотя практически и потеряло доступ к торговле с Северной Африкой. Сложившуюся ситуацию можно было бы определить нашим присловьем «не бывать бы счастью, да несчастье помогло». Появление с 30-х годов XV в. у западноафриканского побережья португальцев быстро привело к частичной (но, видимо, достаточно ощутимой) переориентации торговли с транссахарских путей на берега океана. И это спасло Мали от угрозы «экономического удушения», по выражению одной современной исследовательницы.
Что это значило для мандингов, можно себе представить хотя бы по тому, что португалец Андре Алвариш д'Алмада еще в 1594 г. описывал низовья Гамбии как район с самым большим объемом торговли на всем Гвинейском побережье.
Западные владения сохранялись за ослабленным Мали довольно долго. В начале XVI в., в 1507—1509 гг., правитель великой Сонгайской державы аския ал-Хадж Мухаммед I совершил поход на запад и завоевал область Галамбут, или Галам, – современная традиция сонинке именует ее Гадьяга, – лежавшую на среднем течении Сенегала в районе современного города Бакель. И автор «Истории Судана» сообщает об этом так: аския-де «ходил в поход на Галамбут, а это – Малли». Иными словами, авторитет манден-мансы в это время в той или иной степени признавали на среднем течении Сенегала. И даже более того. В одном из исторических сочинений, написанном в XVIII в. в княжестве Гонджа (на севере современной Республики Гана) и носящем название «Деяния предков наших», содержатся какие-то неясные намеки на попытки малийских государей XVI в. наступать на юг, в сторону золотоносного района Биту, или Биту, располагавшегося в северных областях Ганы, между реками Черная и Белая Вольта.
Оговорка насчет «той или иной степени» признания в данном случае касается не только Галама-Гадьяги, но и всех западных окраин земель, населенных мандингами. Дело в том, что окраины эти, пребывая до поры до времени в стороне от воздействия караванной торговли с Северной Африкой, не слишком часто имели дело с главными распространителями ислама – купцами-вангара. Да и дьяханке в этих местах появились сравнительно поздно. И у мандингов западных устойчиво держались в общественной жизни и в религиозных верованиях многие черты, никакого отношения не имевшие к исламу. Религия пророка не получила здесь в XV—XVI вв. и даже позже такого распространения, как в долине Нигера. Скажем, власть всегда наследовалась по материнской линии, а у подавляющего большинства населения религиозные представления оставались традиционными, доисламскими.
То же самое можно, видимо, сказать и о характере суверенитета Мали над западными владениями: дело, скорее всего, ограничивалось признанием некоего морального авторитета и даннической зависимостью. Но ведь так обстояло дело во всех крупных политических образованиях Судана, и Западного и Центрального, в средние века.
Но каким бы огромным подспорьем для дряхлеющего Мали ни служили западные земли, остановить начавшуюся агонию некогда великой державы Кейта они уже не могли, хоть и замедляли ее. Уж слишком изменилось соотношение сил в Западном Судане, особенно со второй половины XV в. Набеги моси и сонгаев учащались. Оказывать им сопротивление не было сил. И в 1493 г. Мали, по сути дела, спас от набега моси другой враг – все тот же сонгайский сонни Али. Столкнувшись во время похода с сонгаями, моси потерпели жестокое поражение и были обращены в паническое бегство.
Мандингам приходилось искать союзников. В Западной Африке это было бесполезно: здесь в тот момент не было силы, которая посмела бы противостоять победоносным армиям сонни Али и его соратников. Сонгайская держава уверенно шла к зениту могущества. И в Ниани, видимо, не без интереса присматривались к тому, как внедрялись на побережье Гвинейского залива португальцы. Со своей стороны и португальцы не прочь были завязать непосредственные сношения с таким могущественным государем, каким представлялся им по рассказам прибрежных жителей манден-манса.
И вот в 1481 г. португальский король Жуан II отправляет посольство к «королю Мандиманса» (к этому времени название «Мали» все чаще вытесняется старинным «Мандинг», или «Мандинга»), Об этом посольстве мы знаем по рассказу португальского чиновника Жуана де Барруша, который в 30-х годах XVI в. был королевским уполномоченным в главной португальской фактории на берегу Гвинейского залива – Сан-Жоржи-да-Мина. Эта фактория, которую чаще называли просто Эльминой, находилась в районе современного города Аккра – столицы Республики Гана.
Послы благополучно прибыли к «королю» по имени «Ма-хамед бен Манзугул» (т.е. Мухаммед, сын мансы Уле). Этот государь выразил послам свое удивление по поводу такой неслыханной вещи, как посольство христианского короля. Держался манса весьма независимо и всячески старался показать и древность своей династии, и ее могущество: по его словам, до него царствовали 4404 государя из этой династии! Помощи у португальцев он не просил: по-видимому, к этому времени уже становилось ясно, что столкновение между моси и сонгаями неизбежно, а для Мали это на какое-то время означало передышку.
Но зато, когда в 30-е годы XVI в. скотоводы-фульбе и родственные им земледельцы-тукулеры двинулись вверх по Сенегалу в Бамбук и при этом вытеснили, а частично и истребили мандингское население, жившее вдоль реки Фале-ме, манса Мамаду (Мухаммед), внук того мансы Мухаммеда, который впервые принял в своей столице португальское посольство, сам отрядил к Баррушу в Эльмину своих посланцев за помощью.
С ответной миссией Барруш отправил одного из своих подчиненных – некоего Перу Фернандиша. Тот прибыл к ма-лийскому двору; во время переговоров выяснилось, что в Ниани помнят о предыдущем посольстве. Мандинги даже выразили удовлетворение по случаю возобновления наметившихся когда-то связей. Конечно же, реальную военную помощь против фульбе португальцы были не в состоянии оказать, но к этому времени, как и в прошлый раз, обстановка на западных окраинах Мали немного разрядилась сама собой. В 1535 г. тукулеры и фульбе ушли за Фале-ме, и нашествие прекратилось.
Но весь XVI в. продолжались опустошительные походы на Мали сонгайских царей. Эти походы сопровождались жестоким разорением страны (вспомните рассказ Льва Африканского!) и угоном в рабство многочисленного полона. Единственной передышкой было время между 1509 и 1545 гг. Обстановка в этот период была настолько спокойной, что мандинги даже могли себе позволить предоставлять убежище свергнутым сонгайским правителям и претендентам на престол. Но зато с 1545 г. страна подверглась нескольким нашествиям подряд. Не раз сонгаи брали столицу и разоряли ее. А в 1558 г. победитель, аския Дауд, даже женился на дочери царя Мали и тем закрепил свои права на мандинг-ский престол. Ведь хотя власть в Мали и передавалась от брата к брату или от отца к сыну, но родство по матери и здесь сохраняло важное значение. И даже такого благочестивого мусульманина, как Муса I, именовали «Канку Муса», по имени его матери – старинный обычай оказался сильнее норм мусульманского права, для которого счет родства по материнской линии просто немыслим.
К концу XVI в. некогда грозное Мали уже окончательно превратилось в третьестепенное княжество. Не могло ему принести пользы и нашествие марокканцев, разгромивших Сонгайскую державу: не было сил для того, чтобы воспользоваться благоприятной обстановкой. Правда, манса Мамаду III попытался было завладеть частью «сонгайского наследства» и даже на очень краткое время занял Дженне. Но возвратились ушедшие было на восток марокканские войска, и мансе пришлось со всею возможной поспешностью удалиться восвояси. В 1598 г. тот же Мамаду попробовал, на сей раз в союзе с фульбским правителем Масины, овладеть районом Томбукту – и снова неудачно. И, наконец, год спустя, в 1599 г. марокканский гарнизон Дженне, подкрепленный стрелками из Томбукту, нанес мандингскому войску жесточайшее поражение в окрестностях Дженне.
Так плачевно завершались последние попытки возродить великодержавную политику династии Кейта. Причиной неудачи, не говоря уже о неблагоприятной общей обстановке в Западном Судане, было в немалой степени то же самое обстоятельство, которое в предшествовавшие столетия вызвало фактический распад Мали на множество мелких независимых владений. Из трех наместников главных областей только один откликнулся на требование мансы явиться к нему с войсками. Двое остальных даже не сочли нужным вообще ответить на это обращение правителя. Раздробление бывшей великой западносуданской державы завершилось Когда в 1644 г. автор «Истории Судана» совершал поездку по области Кала в междуречье Нигера и Бани ниже области Масина, малийское владычество в этом районе, вплотную примыкающем к Дженне, было уже не более чем воспоминанием. В Масине вовсю хозяйничали фульбе, а бывшие мандингские владения к западу и югу от Дженне «затопила» волна анимистов – народ бамана. Вообще же быстрый рост могущества этого народа – ему предстояло к концу XVII в. создать сильные политические образования вокруг города Сегу на Нигере и в области Каарта дальше к западу – был как бы косвенным результатом разгрома мандингов сначала фульбе, а потом марокканцами в 1599 г. Собственно, эти княжества бамана продолжили традиции политической организации, некогда заложенные мандингами в XIII– XIV вв., пусть и на иной этнической основе, и в иной общеисторической обстановке.
Само же Мали оказалось сведено к древнему Мандингу, откуда оно в свое время начиналось, и нескольким небольшим владениям к западу и юго-западу от него: Габу, Кита, Диома, Кьюмаванья. Но непосредственно в руках правителей клана Кейта от некогда огромной державы остался только район селения Кангаба, или Каба, на левом берегу Нигера, близ нынешней малийско-гвинейской границы. И здесь их крохотное княжество просуществовало до начала нашего столетия.