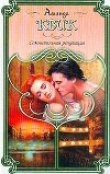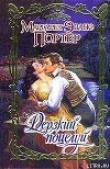Текст книги "Смертельный номер (рассказы)"
Автор книги: Лесли Поулс Хартли
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Тем временем собственной рукой мистер Рамбольд взмахивал в такт задорной музыке, а ногой подстукивал ритм. Дети оживились, осмелели, запели слаженнее, раскованнее. Игра пошла лучше некуда; пыл, страсти и темперамент ворвались в небольшую комнату, где сидел мистер Рамбольд. Волны звуков втекали густыми клубами дыма, они обволакивали все вокруг и похищали разум, отравляли его сладкими испарениями, легкими дуновениями заставляли его воспламеняться. Мистер Рамбольд ощутил прилив воодушевления.
Слух его обострился – потому что временно присмирели, оставшись без работы, другие органы чувств – и начал воспринимать новые звуки; к примеру, имена детишек, которых тянули в свою команду маленькие капитаны, имена этих капитанов. Для слушателей результаты борьбы оставались неясными. Удалось ли Нэнси Прайс перетащить Перси Кинэма в свой отряд? Возможно. Взял ли Алек Уортон верх над Мейзи Дрю? Кто-то явно одержал легкую победу: состязание длилось чуть больше секунды и тут же – взрыв смеха. А Вайолет Кинэм? Неужели она положила на обе лопатки Хорейса Голда? О-о, тут борьба шла не на жизнь, а на смерть, сопенье перемежалось с пыхтеньем. Внутренним взором мистер Рамбольд видел, как два капитана, раскачивая взад и вперед, тянут в разные стороны белый неподвижный платок, личики их покраснели, сморщились от натуги. Вайолет или Хорейс, кому-то из них суждено проиграть; возможно, Вайолет крупнее Хорейса, зато он мальчик; так что игра шла на равных, уступать никто не хотел. Но чья-то воля обязательно ослабнет, тело обмякнет, и тогда – распад, сдача на милость победителя. Выходит, и в этой игре было что-то неистовое, отталкивающее. Кто-то из детей, Вайолет или Хорейс, уже страдал; и даже плакал от унижения – ведь его перетянули!
Игра началась заново. На сей раз в детских голосах звенело нетерпение: сейчас встретятся два бывалых бойца – это будет битва гигантов. В песенке запульсировал военный клич.
Кого мы выберем в жертву себе,
В жертву себе, в жертву себе;
Кого мы выберем в жертву себе
Холодным морозным утром?
Его выберем, Виктора Рамбольда, Виктора Рамбольда, Виктора Рамбольда, до чего мстительные у них голоса, неужто они жаждут его крови?
Кого мы пошлем за жертвой своей,
За жертвой своей, за жертвой своей;
Кого мы пошлем за жертвой своей
Холодным морозным утром?
Раздался ответ – призывный звук горна, боевой клич:
Мы пошлем Джимми Кига за жертвой своей,
За жертвой своей, за жертвой своей;
Мы пошлем Джимми Кига за жертвой своей
В сырой и туманный вечер.
Возможно, последнюю строчку изменили с учетом погодных условий, поближе к реальности. Но мистер Рамбольд скорее всего не слышал, что его хотят еще и похитить. Лицо «жертвы» уже побледнело, голова откинулась на спинку кресла…
– Вина, сэр?
– Да, Клатсем, бутылку шампанского.
– Очень хорошо, сэр.
Мистер Рамбольд осушил первый стакан залпом.
– Кроме меня, кто-нибудь сейчас будет ужинать, Клатсем? – поинтересовался он.
– Нет, сэр, уже девять часов, – с укором в голосе ответил официант.
– Извините, Клатсем, перед ужином я был не в форме, вот и решил поспать.
Официант смягчился.
– Я сразу заметил, сэр, что вид у вас не очень. Надеюсь, никаких дурных вестей?
– Нет, ничего. Немного устал с дороги, вот и все.
– А в какую погоду вы уезжали из Австралии? – полюбопытствовал официант, чтобы доставить удовольствие мистеру Рамбольду – тот явно хотел поговорить.
– Погода была лучше, чем здесь, – ответил мистер Рамбольд, опустошая второй стакан и примеряясь глазом к остатку жидкости в бутылке.
По стеклянной крыше равномерно тарабанил дождь.
– Добрый климат – это еще не все, – заметил официант. – В гостях хорошо, а дома лучше.
– Вы правы.
– Во многих уголках земли хоть что готовы отдать за один хороший дождичек, – убежденно заявил официант.
– Безусловно, – ответил мистер Рамбольд, чувствуя, что этот разговор его убаюкивает.
– Вы много рыбачили, сэр, когда жили за границей? – продолжал допрос официант.
– Случалось.
– Вот, значит, и вам дождь нужен, – провозгласил официант, будто доказал что-то важное. – А в Австралии рыбу от браконьеров не охраняют, как здесь?
– Нет.
– Значит, и браконьерства нет, – философски заключил официант. – Каждый отвечает за себя, вот и все.
– Да, в Австралии именно такой порядок.
– Не бог весть какой порядок, – поддел его официант. – Законом его не назовешь.
– Смотря что понимать под законом.
– Как что, мистер Рамбольд? Ясное дело, сэр. Взять преступность. Допустим, вы там в Австралии ухлопали человека – то есть убили, – вас бы повесили, если бы поймали?
Мистер Рамбольд помешал шампанское плоским концом вилки и снова пригубил.
– Могли бы и повесить, если не нашлось бы смягчающих вину обстоятельств.
– А если бы нашлись, могли бы отвертеться?
– Мог.
– Вот я про это самое и говорю, – заявил официант. – Ведь закон, он и есть закон; если вы его преступили, будете наказаны. Я, конечно, не имею в виду лично вас, сэр, я говорю «вы» как бы для примера, для наглядности.
– Да, разумеется.
– А когда закона нет, а есть, как вы говорите, порядок, – развивал свою мысль официант, ловко убирая со стола остатки цыпленка, – учинить над вами расправу может любой. Кто угодно, к примеру, даже я.
– Но почему же у вас или у кого-то другого, – спросил Рамбольд, – возникнет желание учинить надо мной расправу? Ни вам и никому вокруг я ничего не сделал.
– Обязательно возникнет, сэр.
– Но почему?
– Как же мы будем спокойно спать в своих постелях, сэр, зная, что вы, убивец, гуляете на свободе? Возьмете да еще кого пристукнете. Вот кто-то вами и займется.
– А если некому?
– То есть как?
– Допустим, у убитого нет ни родственников, ни друзей; он просто исчез, никто и не знает, что он умер.
– Раз так, сэр, – сказал официант, торжествующе подмигивая, – ему самому придется пойти по вашему следу. Он не будет спокойно почивать в могиле, сэр, нет, ни в коем разе, зная, что за него некому вступиться.
– Клатсем, – внезапно перебил его мистер Рамбольд, – принесите мне еще бутылку, только безо льда.
Официант взял выпитую бутылку со стола и поднес к свету.
– Да, сэр, эта приказала долго жить.
– Приказала долго жить?
– Да, сэр, окочурилась; пришел бедняге конец.
– Вы правы, – согласился мистер Рамбольд. – Конец ей.
Время подошло к одиннадцати. Гостиная снова была в полном распоряжении мистера Рамбольда. Клатсем вот-вот принесет кофе. И что это судьбе вздумалось донимать его случайными напоминаниями? Неблагородно с ее стороны, все-таки он первый день, как вернулся. Ох, неблагородно, бормотал он, а огонь тем временем грел подошвы его шлепанцев. Но шампанское было великолепно; оно ему не повредит; остальное довершит коньяк, который сейчас принесет Клатсем. Клатсем – миляга, чудесный слуга старого покроя… чудесный дом старого покроя… От вина мистер Рамбольд разомлел, мысли его пошли гулять сами по себе.
– Ваш кофе, сэр, – сказал голос у него над ухом.
– Спасибо, Клатсем, очень вам обязан, – рассыпался в благодарностях мистер Рамбольд, от винных паров впадая в чрезмерную вежливость. – Вы замечательный малый. Побольше бы таких.
– Стараюсь, сэр, будем надеяться, – произнес Клатсем несколько невпопад, отвечая на оба замечания сразу.
– Что-то никого не видно, – переменил тему мистер Рамбольд. – В гостинице постояльцев хватает?
– Очень даже хватает, сэр, все люксы заняты, да и обычные номера тоже. Каждый день приходится кому-то отказывать. Только сегодня звонил один джентльмен. Сказал, что подъедет позже – вдруг повезет. Да где там – птички улетели в дальние края.
– Птички? – переспросил мистер Рамбольд.
– В смысле, что номеров-то свободных нет, хоть тресни.
– Весьма ему сочувствую, – сказал мистер Рамбольд с неподдельной искренностью. – Да любому, хоть другу, хоть врагу, кому приходится бродяжничать по Лондону в такой вечер. Будь у меня в номере лишняя кровать, я бы его приютил.
– Она у вас есть, – заметил официант.
– Верно. Какой я бестолковый. Н-да. В общем, жаль мне этого несчастного. Жаль всех бездомных, Клатсем, странников земли нашей.
– Полностью с вами согласен, – вставил богопослушный официант.
– А взять докторов, которых за полночь вытаскивают из постели. Нелегкая у них жизнь. Вы никогда не задумывались, Клатсем, какая у докторов жизнь?
– Как-то не приходилось, сэр.
– Так вот, жизнь у них нелегкая. Можете мне поверить.
– Когда позвать вас к завтраку, сэр? – спросил официант, не видя особых причин прекращать разговор.
– Не надо меня звать Клатсем, – скороговоркой пропел мистер Рамбольд, словно запрещал официанту называть себя Клатсемом. – Когда проснусь, тогда и проснусь. Не исключено, что как следует поваляюсь в постели. – Последние слова он произнес, причмокивая от удовольствия. – Хорошо поспать – что может быть лучше, верно, Клатсем?
– Вы правы, сэр, спите хоть до вечера, – поддержал его официант. – Вас никто не потревожит.
– Спокойной ночи, Клатсем. Вы замечательный малый, я готов это повторить где угодно.
– Спокойной ночи, сэр.
Мистер Рамбольд снова опустился в кресло. Оно нежно приняло его, окутало теплом, приуютило, он словно слился с ним в одно целое. И не только с ним – с огнем, с часами, со столом, со всей мебелью. Все полезное и ценное, что было в окружающих его предметах, потянулось навстречу всему полезному и ценному, что было в нем, свойства эти встретились – и сразу подружились. Кто может помешать их благому взаимовлиянию, кто способен ограничить живущее в них добро? Никто – и уж конечно не тень прошлого. В комнате стояла полная тишина. Звуки с улицы доносились непрерывным низким гулом, жужжание убаюкивало. Мистер Рамбольд уснул.
Ему приснилось, что он снова ребенок и живет в своем старом загородном доме. Во сне он охвачен неодолимым желанием: он должен собирать дрова, везде, где ни попадутся. Стоит осень, он в дровяном сарае, с этого и начался сон. Дверь приоткрыта, через нее льется свет, но как он очутился в сарае, он не помнит. На полу валяется кора, тонкие прутья, но кроме пня, который все равно в дело не пустишь, в сарае нет ни единого подходящего бревна, чтобы разжечь костер. Ему неуютно в дровяном сарае одному, однако он не уходит оттуда, а ищет, ищет во всех уголках. Ничего. Пустота. Какая-то хорошо знакомая тяга манит его наружу, он выходит в сад. Ноги сами несут его к высокому дереву, заросшему у основания густой травой, оно стоит неподалеку от дома, само по себе. Его недавно обкорнали: ствол наполовину без веток, только торчат хохолки листьев, торчат где ни попадя. Он знал, что увидит, если поднимет глаза к темной листве. Так и есть: длинный отживший свое сук, голый там, где отшелушилась кора, и согнутый посредине, как рука в локте.
Он начал карабкаться на дерево. Надо же, как просто – тело его будто стало невесомым. Но чем выше он взбирался, тем сильнее ощущал какое-то жуткое угнетение. Сук, что тянулся вдоль ствола, не хотел принимать его, враждебно щетинился корой. С каждой секундой Виктор приближался к месту, что всегда внушало ему ужас; люди называли его наростом. Он торчал из ствола огромной круглой опухолью, густо окутанной ветками. Лучше умереть, чем задеть головой об эту мерзость.
Но вот он все-таки добрался до сука, сумерки уже сгустились, наступила ночь. Он знает, что делать: надо сесть на сук верхом, иначе до него не дотянуться, и давить вниз обеими руками, пока он не треснет. Кое-как упершись ногами в ствол, он прижимается спиной к дереву и что есть силы давит. Приходится опустить глаза к земле, и он видит: внизу под ним расстелено белое полотнище, словно чтобы поймать его; и он сразу понимает – это саван.
Он вцепляется в неподатливый закоченелый и корявый сук, яростно раскачивает его, вверх-вниз, вверх-вниз. Сломать его! Сломать! Он наклоняется вперед всем телом, перехватывает сук за «локоть» и тянет на себя. Раздается треск, Виктор опрокидывается и видит, что снизу на него несется саван…
Мистер Рамбольд проснулся в холодном поту, рука его крепко стискивала искривленную ручку кресла, на которую официант поставил коньяк. Стакан свалился, горячительный напиток растекся по кожаному сиденью лужицей. Нет, так не пойдет. Пусть принесут еще. На его звонок явился человек, которого он не знал.
– Официант, – сказал он, – через четверть часа принесите мне в номер коньяк и содовой. Меня зовут Рамбольд.
Вслед за официантом он вышел из гостиной. В коридоре стояла полнейшая темнота, лишь светилась голубизной струйка газа, под ней виднелись сваленные в кучу подсвечники. Он вспомнил, что в этой гостинице к темноте по традиции относились с почтением. Поднося фитилек свечи к газовой горелке, он неожиданно для себя забормотал:
– «Вот и свеча, чтобы путь осветить».
Но ему сразу вспомнился зловещий конец двустишия, и произносить вторую строчку он не стал, хотя и был в изрядном подпитии.
Вскоре после того как мистер Рамбольд удалился к себе, в колокольчик на двери гостиницы позвонили. Три резких звонка подряд, без всякого перерыва.
– Кому-то невтерпеж, – пробурчал себе под нос ночной портье. – Ключи небось забыл, а теперь торопится.
Он не стал спешить на зов – забывчивого гостя надо немножко проучить, пусть подождет. Движения портье были столь степенны, что, пока он прошествовал через вестибюль к входной двери, звонок затренькал снова. Что за назойливость такая, подумал портье: он нарочно вернулся к своему месту, поправил стопку газет и только потом впустил этого торопыгу. Чтобы подчеркнуть свое к нему безразличие, он даже встал за дверью, открыв ее, и потому сначала увидел вошедшего только со спины; но и этого оказалось достаточно, чтобы определить: это не постоялец гостиницы, а незнакомец.
В длинной черной накидке, которая почти целиком спадала на одну сторону и торчала торчком с другой (будто под мышкой он держал корзинку), человек этот походил на ворона со сломанным крылом. Лысого ворона, подумал портье, потому что между белым полотняным шарфом и шляпой виднелась голая кожа.
– Добрый вечер, сэр, – сказал он. – Чем могу служить?
Незнакомец не ответил, он бесшумно проскользнул к боковому столику и принялся правой рукой перебирать письма.
– Вам должны были что-то оставить? – спросил портье.
– Нет, – ответил незнакомец. – Мне нужна комната на ночь.
– Это вы звонили вечером?
– Да.
– В таком случае мне велено сказать, что принять вас мы, к сожалению, не можем: все номера в гостинице заняты.
– Вы уверены? – спросил незнакомец. – Подумайте как следует.
– Я выполняю распоряжение, сэр. Тут и думать нечего.
В эту секунду у портье возникло странное ощущение, словно какая-то важная его часть, может быть жизненно важная, сорвалась с якоря и закружилась, закружилась где-то у него внутри. Но ощущение исчезло, едва портье заговорил.
– Я позову официанта сэр, – сказал он.
Едва он это сказал, официант появился сам, озабоченный чем-то своим.
– Слушай, Билл, – заговорил он, – в каком номере остановился мистер Рамбольд? Он просил принести ему выпить, а в каком он номере, я не спросил.
– В тридцать третьем, – слабым голосом произнес портье. – Двухкомнатном.
– Эй, Билл, что стобой! – воскликнул официант. – У тебя такое лицо, будто ты увидел привидение.
Они оба огляделись по сторонам, потом взглянули друг на друга. В вестибюле никого не было.
– Господи! – сказал портье. – Неужели померещилось? Он был здесь минуту назад. Смотри.
На каменном полу лежала маленькая – дюйма в два – сосулька, вокруг нее растекалась лужица.
– Эй, Билл, – вскричал удивленный официант, – как она сюда попала? Сейчас разве заморозки?
– Наверное, ее принес он, – ответил портье.
Они уставились друг на друга в оцепенении, которое сменилось ужасом, когда где-то в недрах гостиницы зазвенел колокольчик.
– Там Клатсем, – прошептал портье. – Пусть идет и разбирается, кому это не спится.
Клатсем уже снял галстук и готовился отойти ко сну. Спал он в полуподвальном этаже. Кого это нелегкая занесла в курительную в такой час? Надев куртку, он пошел наверх.
У камина он увидел ту самую особу, чье появление и исчезновение так встревожило портье.
– Да, сэр? – сказал он.
– Я хочу, чтобы вы пошли к мистеру Рамбольду, – сказал незнакомец, – и спросили его: не предоставит ли он свободную постель в своем номере в распоряжение друга?
Через некоторое время Клатсем вернулся.
– Мистер Рамбольд шлет вам привет, сэр, и хочет знать, кто вы.
Незнакомец подошел к столу в центре комнаты. Там лежала газета из Австралии, которую Клатсем раньше не заметил. Претендент на гостеприимство мистера Рамбольда перелистал страницы. Потом ногтем, который даже стоявшему у двери Клатсему показался необычайно заостренным, он вырезал прямоугольную заметку размером с визитную карточку и, отойдя в сторону, жестом пригласил официанта с ней ознакомиться.
При свете газовой горелки, висевшей в коридоре, Клатсем прочитал вырезку. Это было что-то вроде некролога; но почему мистеру Рамбольду будет интересно узнать, что тело некоего мистера Джеймса Хэгберда было найдено при обстоятельствах, предполагающих насильственную смерть?
На сей раз Клатсем отсутствовал дольше и вернулся с озадаченным и слегка испуганным выражением лица.
– Мистер Рамбольд шлет вам привет, сэр, но человека с таким именем он не знает.
– Тогда спросите вот что, – велел незнакомец. – Желает ли он, чтобы я сам к нему поднялся, или ему удобнее спуститься ко мне?
Клатсем отправился выполнять распоряжение незнакомца в третий раз. Вернувшись, он, однако же, не открыл дверь курительной, а прокричал сквозь нее:
– Мистер Рамбольд советует вам убираться в преисподнюю, потому что ваше место там, и говорит: «Пусть поднимется, если посмеет!»
И дал деру.
Через минуту из своего убежища – подвала для угля – Клатсем услышал звук выстрела. В нем шевельнулся какой-то древний инстинкт – упоение опасностью, презрение к ней, – и он взбежал по ступеням с такой скоростью, с какой не взбегал никогда. В коридоре он споткнулся о ботинки мистера Рамбольда. Дверь в его спальню была приоткрыта. Пригнув голову, он ворвался туда. В ярко освещенной комнате никого не было. Но почти все в ней, что можно было перевернуть, было перевернуто, а на постели… Пятна крови Клатсем заметил на подушке с клетчатой наволочкой. И тут же увидел – они повсюду. Вдруг он застыл на месте и долго стоял как вкопанный, не в силах побежать вниз и разбудить остальных, – на подоконнике лежала сосулька, тонкая льдышка-клешня, искривленная словно коготь дракона, а на конце ее висел кусок плоти.
Мистера Рамбольда он больше не видел. Однако полицейский, совершавший обход по Кэррик-стрит, заметил человека в длинной черной накидке, плечо его было отведено в сторону, будто он нес что-то тяжелое. Он окликнул этого человека, побежал за ним; казалось, незнакомец идет не очень быстро, но догнать его полицейскому так и не удалось.
СИМОНЕТТА ПЕРКИНС
перевод М. Загота
1
«Любовь, – прочитала мисс Джонстон, – это величайшая из страстей, она начало и конец всему».
Она подняла глаза от книги и увидела серый купол церкви Санта Мария делла Салюте, торчавший волдырем из воспаленной и налившейся гноем каменной кладки. Мутные воды канала словно приближали церковь, и на душе становилось неуютно. Ненавижу барокко, подумала мисс Джонстон. А ведь это, я слышала, лучший его образчик. Тогда почему я не могу его оценить? Наверное, потому что я родом из Бостона. Но Джонстоны из Бостона должны быть способны оценить все. Все прекрасное, разумеется.
Она продолжила чтение.
«Прочие страсти лишь нагнетают и усиливают то, что уже есть, а любовь преображает. Жертва любовной страсти словно освобождается от себя самой. Предметы в поле ее зрения более не кажутся ей бледным отражением собственной посредственности; они становятся символами внутреннего возрождения. Лучезарное сияние свыше озаряет все ее существо».
Сколько раз я читала подобное, подумала мисс Джонстон, стараясь не обращать внимания на Салюте и останавливая взор на более целомудренных очертаниях церкви Сан-Грегорио, почти напротив. К примеру, эти служанки, продолжала она внутренний монолог, поглядывая вдоль залитой солнцем террасы, на ступени которой с плеском набегали волны: хоть одна из этих служанок хоть на минуту озарялась лучезарным сиянием свыше? Сомневаюсь. На глупую ухмылку проходившего мимо консьержа она ответила укоризненным взглядом. Но все они, надо думать, замужем или имеют то, что в их Венеции принято вместо замужества.
Ей захотелось обратиться к книге, и она стала читать дальше.
«Любовь – это сокровищница, из которой черпает все человечество. Гнев, зависть, ревность, жестокость; жалость, сострадание, смиренность, отвага – эти чувства не всеохватны, выпадают далеко не всякому. Кого-то они посещают, кого-то обходят стороной. Но ни одного из рожденных женщиной не минует любовь. Не важно, каков твой возраст, читатель, помни: огнедышащая стрела Амура может поразить тебя в любую минуту».
– Ну и ну! – воскликнула мисс Джонстон, бухнув книгу раскрытыми страницами вниз на плетеный столик. – Какая пресная болтовня, какое занудство! Да еще и брехня в придачу, жуткая, неистребимая и вредная брехня.
В ответ на эту вспышку в ее сторону повернулось несколько лорнетов, и мисс Джонстон, укротив чувства, снова предалась размышлениям. Но разум ее, все ее существо проявляли себя с поистине воинственной отчетливостью. Все в ней, с головы до пят, воплощало несогласие. Это ложь, мысленно возмущалась она, жестокая бездарная ложь. Будь я – раз уж писатель после бестолковых обобщений набрался наглости и обращается ко мне, – будь я способна на эту страсть, разве не пробудили бы ее во мне Стивен Селесис, Майкл Спротт, Теодор Дрейкенберг и Уолт Уотт? Ведь в других женщинах они ее пробудили, даже в моей маме! Она огляделась: нет, мать пока не появлялась.
Девушка на выданье, выгодная партия, вот каким ореолом я была окружена, и меня это снова ждет через месяц, и снова посыплются предложения вступить в брак. Пока что они волновали меня не больше, чем приглашение на ужин, хотя некоторые мне было велено принимать всерьез. Нет, я совсем невосприимчива к любви. Если и выйду замуж, это будет брак по расчету.
Бот бы читатель мог ответить писателю! А так черкнешь замечания на полях, но ведь автор их никогда не увидит! О-о, этот сердцевед поступил разумно, вон какие широкие поля оставил! Ну, что он там насочинял дальше? Ага! Перешел к угрозам!
«Что касается эгоистов и эгоцентристов, приливная волна любви, тайно вожделенная (мисс Джонстон нахмурилась), пробивается к ним мучительно трудно. Слишком много препятствий встает на ее пути, слишком много впадин ей предстоит затопить. Таким людям надо подавить привычку к самоанализу; тихие радости в уединении, столь милое сердцу многих ощущение ухода в себя, когда задернуты все занавески, – от этого надо отказаться и отречься. Закоренелый эгоист должен приучиться находить удовольствия вовне. Сам себе склад, сам себе рынок – с этим покончено, за покупками придется выйти из дому. Он больше не думает: „Я буду сидеть в такой-то и такой-то позе, мне так удобнее“, или „Я прокачусь сегодня за город и немного развеюсь“, или „Завтра я пройдусь по магазинам и куплю себе новый костюм“. Нет, ибо удовлетворение насущных потребностей уже не доставляет ему удовольствия. Скорее он скажет: „Если я подопру пальцем щеку, как к этому отнесется Хлоя?“, или „Я буду ждать Мелиссу в ландо, хотя я ненавижу тряску“, или „Коль скоро Джулии нет, я буду ходить босым и неприбранным, ибо как же я выберу одежду или обувь без ее благословения?“ Для тех, кто привык на первое место ставить других, любовный шквал будет бескровной революцией; но для эгоистов, этих себялюбцев, пестующих собственные прихоти, перемена будет бурной, разрушающей и болезненной».
Может, я и есть эгоистка? Мисс Джонстон задумалась. Кое-кто меня так и называет. Но они хотят сказать этим только одно – мне нет никакого дела до них. Разборчивая, привередливая – вот что они имеют в виду. Увы, через неделю сюда заявится Стивен Селесис. Между прочим, однажды он сказал: «Лавиния, меня привлекает не только ваше очарование, но и ваше нежелание видеть очарование в других. Даже во мне», – добавил он. Что я могла ему ответить? Нет, конечно, я не эгоистка. Я пунктуальна, но сношу непунктуальность других. Это признак святости, как-то сказал мне Уолт Уотт. Но почему я вспоминаю эти глупые комплименты? Как я вообще допустила их в свой дневник? Может, эти молодые бездельники льстили мне, потому что якобы влюблены в меня? Но автора этого одиозного манускрипта (все-таки исхитрился поддеть меня) такой ответ явно не устроит. Может, я просто тщеславна? Иначе зачем решила сберечь эту оскорбительную похвальбу? А когда мама учит меня уму-разуму, ее наставления влетают в одно ухо и вылетают в другое.
В эту минуту мимо Лавинии прошли два туриста. Один дернул головой назад, будто его душил воротник; но мисс Джонстон инстинктивно поняла, что он показывал на нее, потому что услышала его вопрос:
– Красивая, да?
– Не сказал бы, – возразил его товарищ. – Красивой ее не назовешь.
Дальше она не слышала – мужчины ушли. Растерянно моргнув, мисс Джонстон, как за спасительную соломинку, схватилась за трактат о любви, и от волнения даже забыла хмыкнуть, прочитав начало фразы.
«Любви, как и всем великим явлениям, сопутствуют ложные пророчества. Люди часто говорят: „Не знаю, влюблен я или нет“; но ваше сердце, читатель, никогда не даст вам такого двусмысленного ответа. Да, порой неясно, чем вызваны возбуждение, раздражительность, бессонница; но когда око желания видит вожделенный предмет, предмет любви – тут никаких неясностей быть не может».
Смутившаяся было мисс Джонстон снова пришла в себя. «Какая безвкусица! – воскликнула она. – Око желания! Тьфу!» Она подняла глаза, как бы намереваясь передать свой протест на небеса, но ее гневному взгляду не суждено было добраться до зенита. На его пути возник некий предмет, а именно гондола. Невесть откуда взявшись, она покачивалась прямо перед Лавинией. Оба конца ее были привязаны к голубым стойкам, и мисс Джонстон лишь теперь смутно поняла их назначение, а раньше считала, что это экзотика и не более того. На корме, глядя на гостиницу, сидел гондольер. Впрочем, нет, решила мисс Джонстон, не на гостиницу – он глядит на меня.
Ну давай, кто кого переглядит. Что-то в этом взгляде ее беспокоило. Он был живой, но и отрешенный, неподвижный. Словно луч исходил из обжигающих голубых глаз.
Она обернулась, отчасти ожидая увидеть что-нибудь чудное, скажем, служанку, корчившую рожицу, тогда интерес гондольера стал бы ясен и о нем можно было забыть. Сзади оказалось лишь пустое окно да глухая стена. Глаза ее неохотно совершили обратный путь в поисках прибежища понадежнее, но безуспешно. Они снова остановились на гондольере. Тот сидел ссутулившись, но не выглядел неловким или скованным. С колена свисала загорелая рука, на фоне загара поблескивали золотые кольца. Похож на черную птицу, которая села и не сложила крылья.
Наконец их взгляды встретились. Не летает же он в самом деле, подумала мисс Джонстон. И вообще между нами вода. Вон как в ней все отражается. Осмелев, она принялась разглядывать его лицо. Кофейные усы лихо подкрученны… это они делают его похожим на хищника, пирата? Нет, пожалуй, что нет. Интересно, как это он обзавелся этими рыжевато-коричневыми волосами? Вон как пенятся под черным лихо изогнутым сомбреро. Впрочем, шатены в Венеции дело обычное. Под его настойчивым взглядом она снова опустила глаза и в ту же секунду ощутила перемену в поведении слонявшихся без дела слуг и услышала знакомый голос.
– Лавиния! Лавиния! – Окрики матери словно прошили террасу автоматными очередями. – Мне что, всю ночь тебя ждать?
– Иду! – сложив руки рупором, крикнула мисс Джонстон и начала пробираться мимо расставленных в беспорядке столиков туда, где, покачивая горделивой светловолосой головой, стояла ее мать, а вокруг нее суетились слуги.
– Где моя гондола? – вопросила эта дама, окидывая Большой канал столь властным взором, что дочери подумалось: вот сейчас судно, подобно Венере, восстанет прямо из волн. – Я заказала гондолу на одиннадцать. Прихожу в половине двенадцатого, а ею и не пахнет.
– Эмилио, Эмилио! – закричал консьерж, до того уменьшившись в размере, что алый жилет повис на нем, как на пугале. – Он здесь, мадам.
– Что же он не подплывает, если он здесь? – возмутилась миссис Джонстон и, чуть смягчившись, добавила: – Да, вижу, отвязывается. До чего несподручно управляться с этими гондолами! Ничего, скоро кончится их время.
Эмилио, вытянув руку, хватался за столбики, и суденышко, неохотно повинуясь его воле, подплыло к ступеням. Жестом, который так и хотелось назвать напыщенным, гондольер снял с головы шляпу и приложил к груди, ветер подхватил и вздыбил его волосы. Словно во сне мисс Джонстон увидела, как ее мать, ступив на шаткую дощечку, наградила гондольера пристальным взглядом, перед которым трепетал весь Бостон, а потом – беспрецедентное проявление слабости! – веки ее на миг дрогнули, но это не укрылось от внимания дочери.
– Comandi, Signora?[17]17
Куда прикажете, синьора? (ит.) (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть] – спросил гондольер, пока мисс Джонстон внедрялась в пространство, только что освобожденное матерью.
– Что он сказал? – спросила миссис Джонстон, ошеломленная такой наглостью – к ней обратились на иностранном языке!
– Он хочет знать, куда нас везти, – пояснила Лавиния.
– Разве он не знает? – поразилась ее мать: как это ее желания, даже самые сокровенные, могут быть кому-то не ведомы?
Гондольер, словно стремясь помочь, шагнул вперед и почтительно склонился над ними.
– La chiesa dei Santi Giovanni Paolo?[18]18
Церковь Святых Иоанна и Павла? (ит.)
[Закрыть] – предложил он. Он произнес эти слова мягко, нежно, врастяжку, словно они очень ему нравились.
– Они это говорят всегда: везут туда всех и каждого, – провозгласила миссис Джонстон, давая понять, что все разговоры и все маршруты венецианцев сводились к словам, сказанным гондольером. – Нет, там нам делать нечего. Посмотри в свою книгу, Лавиния, что она предлагает на третий день?
– Боюсь, нам за ней не угнаться, – сказала Лавиния. – Поздно выезжаем. В двенадцать все церкви уже закрыты. Давай поплывем по Большому каналу к мосту Риальто, а назад вернемся по маленьким каналам.
– Так и распорядись, – велела миссис Джонстон, устраиваясь поудобнее на подушках.
– Gondoliere, – неуверенно начала Лавиния, словно собиралась испрашивать его мнение по какому-то частному делу. Она обернулась и увидела его лицо совсем рядом; унизанная кольцами левая рука, лежавшая на колене, оказалась на одном уровне с ее глазами. До чего эти венецианцы любят произвести впечатление! Подготовленный вопрос улетучился из головы. Она дала ему команду обрывочными словами и туманными жестами. Гондола тронулась в путь. Мимо заскользили дворцы; и вот они уже плывут под железным мостом. Еще немного – и большой поворот.