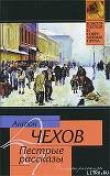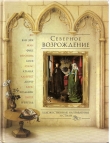Текст книги "Смертельный номер (рассказы)"
Автор книги: Лесли Поулс Хартли
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Но почему Коппертуэйт отказался от работы куда выше оплачиваемой, куда более шикарной, работы у американского джентльмена, живущего в другом конце квартала, престижной работы за рулем «роланд-рекса»?
«Дорогой Коппертуэйт!
Если Вы хотите вернуться ко мне, двери открыты. Я наводил справки насчет другого шофера, но окончательно ничего не решил, и если Вы хотите вернуться – милости просим, разумеется, я буду рад Вас видеть.
Моя машина так и стоит в гараже. После Вашего ухода я ею почти не пользовался, и в ней наверняка что-нибудь разладилось: сел аккумулятор, спустили шины, вытекло масло, – впрочем, во всем этом Вы разберетесь лучше меня.
Пожалуйста, дайте знать, когда Вы готовы вернуться, что бы я мог ответить желающим, откликнувшимся на мое объявление.
Искренне Ваш
Энтони Истерфилд».
Ответ последовал незамедлительно.
«Сэр, буду у Вас в понедельник».
Значит, американца Коппертуэйт уведомил об уходе до того, как получил письмо с разрешением вернуться. Энтони это слегка задело: выходит, Коппертуэйт и не сомневался, что будет встречен с распростертыми объятьями. Зато как приятно сознавать, что привычный ритм и распорядок его жизни, нарушенный столь внезапно, войдет в свою колею!
Поначалу никаких слов, никаких замечаний. Никакого любопытства.
Таковы были некоторые решения, принятые Энтони в субботу, за два дня до возвращения Коппертуэйта. И однако звонок в дверь уже назавтра, в воскресенье, в восемь утра, застал Энтони врасплох. Кто это? И с какими новостями? Консьерж – он неплотно закрыл кран, и квартиру внизу залило водой? Письмо со службы Ее Величества с требованием немедля уплатить подоходный налог? Почтальон? Но почтальон звонит лишь в одном случае – если ноша его (обычно зловещая) не влезает в почтовый ящик. Впрочем, почту не разносят по воскресеньям.
Воображение рисовало Энтони пессимистические картины, куда ни кинь, а звонок в восемь утра ничего хорошего принести не может, только беду, а то и катастрофу. Энтони охватил ужас – взломщик с обрезом или с каким-нибудь иным орудием не напугал бы его так сильно.
У дверей стоял Коппертуэйт.
– Я пришел пораньше, сэр, потому что в восемь часов, как мне известно, вы обычно пьете чай.
– Да, действительно, – согласился Энтони, давая всем своим мыслям задний ход. – Полагаю, и вы не откажетесь от чашки чая.
– Всему свое время, сэр, всему свое время, – сказал Коппертуэйт. – А пока, если позволите, я освобожу руки от этой мелочи.
«Этой мелочью» оказались два тяжелых и дорогих чемодана из белой кожи. Энтони с восхищением поглядел на них и подумал: откуда такое у Коппертуэйта? Впрочем, ясно откуда – американец. Энтони даже позавидовал, хотя видел: если эти чемоданы набить барахлом, как сейчас, когда их так и распирало, ему не пронести их и ярда.
– Ну, дорогу вы знаете, – сказал он, натужно улыбаясь, – по коридору направо. В комнате ничего не изменилось, после вас у меня никто не жил. Но все равно, – добавил он внезапно, – я думаю, матрац надо проветрить. А белье – простыни, одеяла – в полном порядке. Оно в сушильном шкафу.
– Не беспокойтесь, сэр, – сказал Коппертуэйт, наклоняясь за чемоданами. – Проветрить, не проветрить – мне без разницы.
Коппертуэйт был человек сильный, сколько ему: сорок три, сорок пять? Но лицо его напряглось, когда он взялся за чемоданы.
Энтони снова лег в постель; его переполняли различные чувства, главным образом, облегчение. Он никогда не молился по утрам, но тут отступил от правила и коротко отблагодарил Господа за ниспосланную благодать.
Через несколько минут появился Коппертуэйт с подносом в руках. В своем кителе он был так похож на себя прежнего, этакий прирученный индеец, что Энтони даже вздрогнул: неужели его не было три, четыре или сколько там недель?
– На обед бифштекс, сэр?
– Нет, Коппертуэйт, не надо. Бифштекс мне не по зубам, не по моим последним зубам. Лучше котлету.
– Конечно, сэр, прекрасную, нежную котлету. А на вечер – прекрасный кусок рыбы, допустим дуврской камбалы.
– Если камбалу, то лучше лимонную. Она не так давит на желудок, да и стоит дешевле.
– Я и имел в виду лимонную камбалу, – сказал Копертуэйт.
Неужели? Энтони скосил глаза на удаляющуюся широкую спину Коппертуэйта, на его иссиня-черные волосы, подстриженные аккуратным армейским ежиком. Интересно, он запоминает мои просьбы как автомат или все-таки их обдумывает?
Звук голосов отвлек его от размышлений. Оказалось, приходящая прислуга уже здесь.
– Явился не запылился, – услышал он ее голос. – Как фальшивая монета, сколько от нее ни избавляйся, а она все возвращается.
Энтони выпрыгнул из постели и захлопнул дверь, которую Коппертуэйт оставил приоткрытой, поэтому он не услышал ответного выпада Коппертуэйта: мол, некоторым фальшивым монетам и возвращаться не надо, они все время здесь.
Когда Энтони позже вышел к завтраку, они ворковали как голубки – так ему показалось.
Вскоре Коппертуэйт удалился к себе в комнату, видимо, распаковывать свои внушительные чемоданы, и Энтони обратился к прислуге (ее звали Олив):
– Итак, Коппертуэйт вернулся.
– Да уж вернулся, мистер Истерфилд, – сухо ответила она и легонько ткнула его в бок, как бы давая сдачи, щеткой для ковра. – Да уж вернулся, – повторила она, – только надолго ли?
– Ну, этого я не знаю, – беззаботно произнес Энтони. – Мало ли какие у него планы, если они вообще есть. Может, вы знаете больше, чем я?
– Я ничего не имею против мистера Коппертуэйта, – сказала Олив, распрямившись во весь рост и подперев себя, насколько возможно, щеткой для ковра. – Я против него ни чего не имею, – повторила она, – но одно знаю: он уйдет, когда ему заблагорассудится и куда, – добавила она с нажимом на это слово, – заблагорассудится.
– Но тогда почему, – подхватил Энтони, – он оставил место много лучше этого: у миллионера на другом конце квартала – и вернулся сюда, где не заработает и половины, да и свободного времени у него будет вдвое меньше?
Ну, тут она и зачешет в затылке, подумал он. Оказалось, ничего подобного.
– Мне почем знать, – сказала она, принимаясь драить ковер щеткой, – почем мне знать, что там у мужчин на уме. Мало ли, вдруг этот американец, да и не обязательно американец, – добавила она, глядя Энтони прямо в глаза, – был одним из тех, кто… Можно не объяснять, и так ясно. Нет, я ничего не имею против Коппертуэйта, но ему могло показаться, что игра не стоит свеч.
– Каких свеч?
– Сэр, вы меня прекрасно понимаете.
– Не понимаю, – возразил Энтони, хотя искорка озарения уже забрезжила в его мозгу, – но если он отказался… что там от него требовали, ведь это только делает ему честь?
– Делает или нет – этого я не знаю, – хмуро проговорила Олив. – С такими людьми пойди разберись. Лучше держаться от них подальше, я так считаю.
– Вот Коппертуэйт и ушел от него, – поспешил вставить Энтони.
– Время покажет, – сказала Олив, имевшая склонность повторять свои крохотные сентенции. – Время покажет.
Энтони никогда не отличался чрезмерным любопытством, однако туманные намеки Олив сделали свое – его так и подмывало спросить Коппертуэйта, почему место гораздо лучшее он променял на худшее? Впрочем, не стоит, сказал он себе и, копируя привычку Олив, тут же повторил: не стоит. Всему свое время, всему свое время.
Громоподобные звуки – это Коппертуэйт распаковывал чемоданы – внезапно прекратились, и в дверях гостиной появился Коппертуэйт. Да, это явно был он, в шоферском наряде с иголочки, новенький и блестящий, в руках форменная фуражка.
– Сэр, вас куда-нибудь отвезти?
Ага, подумал про себя Энтони, сэр, а не мистер Истерфилд, как в былые времена.
– Пожалуй, нет, Коппертуэйт, – ответил Энтони, поднимаясь с кресла, дабы приветствовать столь пышное явление. – Ехать мне некуда, и я не уверен, что машина (лучше бы ее не вспоминать, эту беспородную колымагу)… как говорится, на ходу. Ею давно не пользовались… – Он умолк, решив, что продолжать бестактно.
– Понимаю, сэр, – сказал Коппертуэйт, словно предвидел нечто подобное. – Предоставьте это мне. Но прежде я облачусь в рабочую одежду. – Он обозначил прощальное приветствие, собираясь уходить.
– Но сейчас обед, – робко вставил Энтони.
– Да, сэр, я обо всем позаботился, Олив мне очень помогла.
Он исчез, и Энтони принялся писать письма. Здорово, что Коппертуэйт вернулся, прямо гора с плеч! Но тут он подумал: а сколько стоит этот шикарный шоферский наряд? На душе заскребли кошки. А вдруг Коппертуэйт или он, Энтони, должен вернуть этот костюм последним хозяевам Коппертуэйта?
Американцам такие расходы по карману, можно не сомневаться. Но в ушах неприятно засвербила циничная поговорочка: «С богатых – три шкуры».
Надо что-то сказать Коппертуэйту? Намекнуть, что костюм не худо возвернуть владельцам? Когда Коппертуэйт состоял на службе у Энтони, он недвусмысленно давал понять, что носить форменную одежду не желает: это, мол, будет значить, что он как бы находится в услужении; да и в любом случае Энтони ни к чему такой шик, такая показуха, запросы у него обыкновенные. Энтони и сам представлял: друзья приходят проводить его в дорогу (такое иногда бывало) и видят у тротуара его подлатанную, далеко не первосортную машину, а рядом шофер в форменной одежде – и какой! «О-о, Энтони, – говорят они, – ну ты силен!»
В квартире стояла тишина, но Энтони было не по себе, он вышел из дому и сделал круг по квадратному кварталу (если по квадрату можно ходить кругами). Шел он медленно, точно ноги были закованы в кандалы мыслей, ища какой-то компромисс с моральными принципами. Может, лучше вернуться? Идти в спасительную обитель или нести свой крест? Сказать Коппертуэйту, чтобы вернул американцу нажитое неблагим путем, или махнуть на это рукой?
На противоположной стороне квартала стоял «роланд-рекс» (теперь Энтони знал его очертания слишком хорошо), припаркованный возле дома его владельца. За рулем в безукоризненной форменной одежде, точь-в-точь как у Коппертуэйта, сидел, а точнее, дремал шофер. Он выглядел частью интерьера машины, частью самой машины. Одет в цвета машины, фигура его словно дополняла, воспроизводила линии машины, неподвижность его была под стать неподвижности машины, два механизма слились воедино, и разве есть между ними разница?
Энтони описал полный круг и вернулся к своему дому.
Его машины перед домом не было. Тогда он пошел к гаражу и нажал кнопку. Двери распахнулись, и взору его предстали несколько скособоченных металлических коробов, в которых жильцы держали свои машины. Он вспомнил номер своего: 5А.
Поначалу он увидел свою машину и ничего больше, но тут же приметил: из-под капота торчит пара ног в крагах.
– Коппертуэйт! – позвал он, почти не ожидая ответа.
Однако, немного поелозив, как уж, Коппертуэйт выбрался на свет божий – такой замызганный в своем комбинезоне, столь не похожий на лощеную личность, каковой он был лишь час назад, что поверить в это превращение было выше человеческих сил.
Чуть запыхавшись, Коппертуэйт поднялся.
– Да, сэр?
– Просто хотел узнать, – сказал Энтони, – как у вас идут дела.
– Очень хорошо, сэр, – ответствовал Коппертуэйт, стремясь скрыть легкое раздражение – вот, пришел мешать. – Очень хорошо. Правда, боюсь, с машиной придется здорово повозиться. Ее, сэр, совсем забросили.
Энтони промолчал.
– Да, сэр, забросили, а машины, само собой, этого не любят.
– Как и люди, надо полагать, – эти слова напрашивались сами собой.
– Да, как и люди, – повторил Коппертуэйт, вытирая лоб влажным платком, но не стал подлаживаться под Энтони, вставать на его точку зрения. – Только люди могут сами о себе позаботиться.
Он окинул машину хозяйским взглядом, в котором читались сострадание, забота и обожание – да, именно обожание.
Внезапный импульс побудил Энтони задать вопрос, который он нипочем не задал бы при обычных обстоятельствах, будь у него время подумать:
– Почему вы оставили великолепную работу у американского джентльмена на другом конце квартала? Мне казалось, да вы и сами говорили, что мечтаете работать на «роланд-рексе».
– Так оно и было, сэр, – сразу ответил Коппертуэйт, переводя взгляд на видавшую виды машину Энтони. – Я скажу, почему… почему я там не остался. Конечно, и деньги там хорошие, и хозяин давал мне все, чего я желал, и форменную одежду, которой я не желал вовсе. Я ушел, потому что…
– Почему?
– «Роланд-рекс» – машина идеальная. Работает как часы.
– Так в чем же дело?
Коппертуэйт посмотрел на Энтони с жалостью – надо же, не понимает простых вещей.
– Да в том, что она не нуждалась в моей помощи. Она всегда была в полном порядке, я ей был не нужен, не мог… не мог слиться с ней, она была мне как чужая. Я сидел там будто чучело – эта машина может сама ухаживать за собой, она, если на то пошло, и водить себя может сама, без меня…
Он смолк и еще раз посмотрел на дряхлую колымагу Энтони.
– Ваша машина, сэр, – не «роланд-рекс», но пока вы в ней ездите, вы будете ездить со мной.
Это замечание показалось Энтони несколько туманным.
– Конечно, с вами, сам-то я не вожу, но что вы хотите этим сказать: я буду ездить с вами и с ней?
– Хочу сказать, что я и машина – одно целое.
Энтони постарался постичь смысл сказанного.
– Неужели эта машина так много для вас значит? – спросил он в крайнем изумлении.
– Да, сэр. Очень даже много, как и вы, сэр, хотя чуть по-другому, уж не взыщите.
До Энтони донесся звон церковных колоколов.
– Боже правый, сегодня воскресенье! – воскликнул он. – Все в голове перемешалось – я-то вас ждал только в понедельник.
– Один день погоды не делает, верно?
– Разумеется. – Интересно, подумал Энтони, а где Коппертуэйт провел субботнюю ночь? – Между прочим, я тут гулял по кварталу и заметил, что у вашего бывшего хозяина – новый шофер.
Коппертуэйт пожал плечами.
– Да, мистер Дьюк не из тех, кто размышляет и приноравливается, а во-вторых, кругом полно типов, которые и от выходного откажутся, если им замаячит солидная работа с форменной одеждой в придачу.
Колокола зазвонили громче. Дело шло к одиннадцати.
– Пожалуй, мне пора, – сказал Энтони Коппертуэйту, который, извиваясь, ползком, на сей раз ногами вперед, медленно скрывался из вида, будто машина сильными осьминожьими щупальцами неотвратимо засасывала его в свое темное нутро.
На сосредоточенном лице Коппертуэйта появился румянец блаженства.
– Если вы идете в церковь, сэр, – сказал он, подергивая плечами, будто в конвульсиях, – помолитесь за меня.
– С удовольствием, – согласился Энтони. – Какую молитву предпочитаете?
– Право, сэр, не знаю, вы в молитвах разбираетесь лучше моего, просто помолитесь чуть-чуть за меня и как следует за машину.
– Но ей, наверное, уже никакие молитвы не помогут?
– Пока я здесь – помогут. – И с этими словами изможденное, грязное, но счастливое лицо исчезло под капотом.
Может, молитвы Энтони сделали свое дело?
МИЛЫЙ СТАРЫЙ ДОМ[5]5
Популярная английская песня, написана в 1823 г.
[Закрыть]
перевод С. Володиной
Это все тот же старый его дом, вот что он сразу почувствовал, входя в отворенную дверь, правда, кто ему открыл, он вспомнить никак не мог, но кто в те далекие времена обращал внимание на подобные пустяки? Надо полагать, один из родительских слуг, которые так часто менялись, впрочем, сам он тут появлялся редко, все больше колесил по свету; однако это ощущение – чувство родного дома (независимо от знакомых очертаний передней, холла) было по-прежнему острым и неизбывным: будоражащее, как запах, нет, не запах, точнее сказать, целый клубок из мыслей, чувств, переживаний, ароматов прошлого. Чувство это разом ожило и стало, как когда-то, неотъемлемой частью его естества.
Он не задумывался о том, зачем, собственно, сюда едет – почему бы и не съездить, – но потом вспомнил, что ведь сам пригласил гостью – на ужин, и вообще, на все выходные, это его близкая подруга, родители, конечно, слышали о ее существовании, но все ждали ее приезда, чтобы познакомиться.
Какое же это было время года? А время суток? Ближе к ужину, точно, ибо свет из большого окна с северной стороны, достигая холла, превращался в полумрак, и очертания так хорошо ему знакомых предметов интерьера были расплывчаты и едва заметны. Что, впрочем, не мешало его внутреннему зрению легко узнавать их – словно они были залиты светом прожектора, и даже еще легче, ведь они состояли из той же материи, что его память.
Все еще пребывая во власти скорее призрачных чар памятных с детства предметов, отображавших отчасти и его «эго», он вдруг очнулся, пронзенный куда более приземленной и более насущной мыслью – где же Хелен Федермор, ради которой он столь внезапно нагрянул в родительский дом? О ней надо позаботиться, – а это мог сделать только он, ведь она ни с кем из гостей не знакома, ведь это (догадывался он) его родственники, преимущественно из старшего поколения. Впрочем, как знать, он же еще никого не видел – хотя они должны быть где-то поблизости, ну и они с Хелен, разумеется, никогда не встречались.
Конечно, Хелен могла опоздать, хотя она редко опаздывает и даже гордится своей пунктуальностью, но водитель такси – должны же они были заказать ей такси, – мог ее не узнать на станции, и вот теперь она бродит взад-вперед по перрону, обуреваемая досадой и типичными для невстреченного гостя страхами: что теперь делать, куда идти: ведь на этом захолустном полустанке другого такси могло и не оказаться. Он словно наяву видел, как она ходит из стороны в сторону, всякий раз минуя небольшую кучку из своих сумок и чемоданов – хотя, не такую уж и маленькую: Хелен не привыкла путешествовать налегке… А сумерки делаются все гуще, и кучка становится все менее отчетливой, и все менее отчетливо Хелен представляет, как ей теперь добраться до места, и вот уже она не может думать ни о чем другом…
И тут она внезапно возникла – нет, не перед ним, а сзади и как бы вокруг – он лишь ощутил ее присутствие. Кто-то, видимо, впустил ее в дом, как только что и его самого, как именно, ему уже было не вспомнить, поскольку парадная дверь открывалась в небольшую переднюю, а в данный момент он стоял посреди холла, отделявшегося от передней большими двустворчатыми застекленными дверями.
Да, это была она, Хелен. Обернувшись, он сразу ее узнал – не столько по лицу, потому что оно было скрыто под темной вуалью, которую она изредка надевала, сколько по тем, совершенно особенным, очертаниям фигуры, которые были неотделимы от самой ее личности, от всего ее облика.
– Валентин!
– Хелен!
Кажется, после этих возгласов последовали еще какие-то приветствия, которые для него и, возможно, для нее прозвучали как крики неудержимой радости, словно им обоим чудесным образом удалось избежать какого-то ужасного несчастья. Он не заметил, как и кто это сделал, но вроде бы багажом ее кто-то заботливо распорядился; и еще он помнил, что ощутил настоятельную потребность – а его мозг так устроен, что может генерировать только одну мысль в данный конкретный момент – представить ее другим гостям.
С чего бы им сидеть в столовой, а не в гостиной? Он и сам не знал с чего, однако, оказался провидцем, ибо, распахнув перед Хелен дверь, увидел их всех, освещенных яркой люстрой, шесть или семь человек, за пустым обеденным столом, словно предназначенным не для ужина, а для зала заседаний, за которым собрались члены совета директоров (безумно скучающих, ибо одному богу известно, сколько они уже там заседали).
Все подняли головы, и Валентин, почувствовав, что необходимо извиниться – и за себя, и за нее, произнес: «А вот и мы, боюсь, что немного опоздали. Это Хелен Федермор», – и поспешил пропустить ее вперед, дабы она произвела тот эффект, который всегда производила, – как вдруг свет погас, и комната погрузилась в темноту.
Что теперь делать? Правила приличия требовали, чтобы он обязательно представил Хелен присутствующим, и он должен это сделать. Но как, если их невозможно даже увидеть? Ничего страшного, свет сейчас зажжется, думал он. Но тот не зажигался, а среди гостей тем временем пронесся легкий ропот, ропот недовольства, словно это Валентин собственноручно вывел из строя пробки.
Хелен, похоже, нисколько не удивилась тому, что ее привели в эту темную комнату с длинным столом, за которым смутно маячили чьи-то головы, плечи и спины. Но она отличалась исключительной благовоспитанностью, которая не раз ее выручала, причем в куда более серьезных, хоть менее экстравагантных ситуациях; и Валентин, приободренный стойкостью своей спутницы и вдохновленный пожатием ее руки, которую он тайком стиснул в своей, начал обходить стол.
– Вы кто? – спросил он, наклонившись к первой голове, возникшей – если уместно так выразиться – в кромешной тьме.
– Я твой дядя Юстас.
– Дядя Юстас, это леди Федермор (он не собирался называть ее титул, но ситуация вынудила его к столь официальному тону), она приехала к нам на выходные, о чем вам, разумеется, известно. Позвольте вас представить.
Голова повернулась, демонстрируя впалую щеку, несомненно, принадлежавшую дяде Юстасу.
– Конечно, мой мальчик, я безмерно счастлив познакомиться с леди Федермор. Надеюсь, она не обидится, если я не стану подниматься, в этой темноте гораздо увереннее чувствуешь себя сидя.
Голос его заметно дребезжал. Сколько же дяде Юстасу лет?
– Пожалуйста, не вставайте, – проговорила леди Федермор. – Я с нетерпением жду, когда наконец вас увижу… если позволит освещение.
Ощупью они вдвоем продвинулись еще на шаг или на два. Валентин нагнулся к другой склоненной голове.
– Кто вы? Прошу прощения за столь бестактный вопрос, но даже вблизи ничего не видно, и никого. – Он старался говорить шутливым тоном.
– Я твоя тетя Агата.
Как неприятно, что «они» все его узнают, а он их – нет. Но голоса с годами меняются; вот и у тетушки голос стал совсем старческий.
– Дорогая тетя Агата! Как я рад вас видеть – точнее, был бы рад, если бы видел! – Шутка, он сразу это почувствовал, вышла довольно плоской. – Тем не менее хочу вас познакомить со своим большим другом, леди Федермор, которая приехала к нам на выходные. пропустить ее вперед, дабы она произвела тот эффект, который всегда производила, – как вдруг свет погас, и комната погрузилась в темноту.
Что теперь делать? Правила приличия требовали, чтобы он обязательно представил Хелен присутствующим, и он должен это сделать. Но как, если их невозможно даже увидеть? Ничего страшного, свет сейчас зажжется, думал он. Но тот не зажигался, а среди гостей тем временем пронесся легкий ропот, ропот недовольства, словно это Валентин собственноручно вывел из строя пробки.
Хелен, похоже, нисколько не удивилась тому, что ее привели в эту темную комнату с длинным столом, за которым смутно маячили чьи-то головы, плечи и спины. Но она отличалась исключительной благовоспитанностью, которая не раз ее выручала, причем в куда более серьезных, хоть менее экстравагантных ситуациях; и Валентин, приободренный стойкостью своей спутницы и вдохновленный пожатием ее руки, которую он тайком стиснул в своей, начал обходить стол.
– Вы кто? – спросил он, наклонившись к первой голове, возникшей – если уместно так выразиться – в кромешной тьме.
– Я твой дядя Юстас.
– Дядя Юстас, это леди Федермор (он не собирался называть ее титул, но ситуация вынудила его к столь официальному тону), она приехала к нам на выходные, о чем вам, разумеется, известно. Позвольте вас представить.
Голова повернулась, демонстрируя впалую щеку, несомненно, принадлежавшую дяде Юстасу.
– Конечно, мой мальчик, я безмерно счастлив познакомиться с леди Федермор. Надеюсь, она не обидится, если я не стану подниматься, в этой темноте гораздо увереннее чувствуешь себя сидя.
Голос его заметно дребезжал. Сколько же дяде Юстасу лет?
– Пожалуйста, не вставайте, – проговорила леди Федермор. – Я с нетерпением жду, когда наконец вас увижу… если позволит освещение.
Ощупью они вдвоем продвинулись еще на шаг или на два. Валентин нагнулся к другой склоненной голове.
– Кто вы? Прошу прощения за столь бестактный вопрос, но даже вблизи ничего не видно, и никого. – Он старался говорить шутливым тоном.
– Я твоя тетя Агата.
Как неприятно, что «они» все его узнают, а он их – нет. Но голоса с годами меняются; вот и у тетушки голос стал совсем старческий.
– Дорогая тетя Агата! Как я рад вас видеть – точнее, был бы рад, если бы видел! – Шутка, он сразу это почувствовал, вышла довольно плоской. – Тем не менее хочу вас познакомить со своим большим другом, леди Федермор, которая приехала к нам на выходные.
– Леди Федермор? Фамилия как будто знакомая.
– Ну еще бы, конечно, знакомая.
– Она была совсем ребенком, когда я…
– Всем кажется, что я была совсем ребенком, – перебила Хелен, – но уверена, когда мы по-настоящему друг друга увидим…
– Да? Да? – сказала пожилая леди, судя по всему, глуховатая.
– Вы поймете, что перенесли все бури лучше меня.
– Ах, ерунда, – сказала старушка. – Я почти не вижу, даже при свете – но не припомню ни одной фотографии, где бы вы выглядели не так, как должна выглядеть леди.
– Благодарю вас, – сказала Хелен, стараясь не показать, насколько она растрогана. Впрочем, могла бы и не стараться – все равно видно не было.
Так они постепенно продвигались вперед, поочередно здороваясь с гостями, пока не дошли до кресла, стоящего, по-видимому, во главе стола.
– Прошу прощения, – проговорил Валентин, – позвольте спросить, кто вы?
– Я твой отец.
Валентин не сразу пришел в себя. Интересно, слышала ли Хелен?
– Дорогой папа, – начал он, – это мой большой друг, леди Федермор. Я тебе много о ней рассказывал…
В этот момент раздался страшный шум, не то грохот, не то взрыв, и вспыхнули очаги света, но где именно, понять было невозможно. Это, однако, был не такой свет, который может развеять мрак – то были голубые вспышки, острые, как стрелы, они насквозь прошивали стены комнаты, от одного конца до другого. И Валентин сказал себе: «Да это же газ!» Когда-то, много лет назад, в доме меняли газовое освещение на электрическое – вопреки желанию отца («Газ дает гораздо больше света», – заверял тот), – по его настоянию в каждой комнате оставили газовые рожки, на случай, если отключится электричество, на что он искренне уповал. И вот теперь этот газ – но не обычный, какой подведен к конфоркам, а весьма похожий на иллюминацию где-нибудь на старинной ярмарке – со всех сторон пронизывал комнату; голубые стрелы, как вспышки молнии, просто светились, практически ничего вокруг не освещая, и придавали зловещий блеск лицам сидящих за столом.
Валентин схватил Хелен за локоть.
– Идем отсюда! – сказал он, и через миг они очутились в холле, который не грозил им никакими сюрпризами, Валентин даже не помнил, пришлось ли им с Хелен открывать и закрывать дверь столовой.
С глаз долой, из сердца вон. Воспоминания о только что произошедшем, не то от волнения, из-за которого нередко стираются детали незаурядного происшествия, не то по какой другой причине, уже подергивались пеленой; они не исчезли совсем, оставив после себя легкое… ощущение? чувство? подспудную убежденность? Дом, как он теперь понял, больше ему не принадлежит – есть другие претенденты. Но ему и в голову не могло прийти, что им по-прежнему владеет отец. Эта мысль еще больше усиливала его только что возникшую и все возраставшую тревогу. В конце концов, кто бы ни был хозяином, Хелен его гостья, и все это прекрасно понимают; тем не менее встретили ее безобразно. Даже не показали ее комнату: где она, собственно говоря? Наверху, это ясно, но которая именно? Восточная спальня? Южная? Размышления об устройстве на ночлег и о том, есть ли там поблизости ванная комната, ввергли его в смятение. Обо всем этом должен был позаботиться теперешний владелец дома, видимо, это отец, ведь мать уже давно умерла – или нет? За столом ее не было, во всяком случае… ему так показалось, ну а церемония представления грубо прервана фейерверком. Кто-то, конечно, в курсе, но где этот «кто-то»? Где вообще все? Он никак не мог заставить себя снова войти в эту комнату, где вспышки голубых молний (уж их-то он хорошо помнил) озаряли вскинутые вверх перепуганные старческие лица его родственников и, возможно, вот-вот станут причиной пожара, несмотря на неистребимую веру отца в то, что газ абсолютно неопасен.
Осевшие в тайниках памяти сегодняшние события все больше растравливали не отпускавшую его тревогу. Мало того, что Хелен встретили совсем не так, как полагается встречать гостей, но даже не предложили чего-нибудь выпить. Тащиться в такую даль, через всю страну, а они ей тут – ни глотка! Она наверняка умирает от жажды, как и он сейчас; наверное, у бедной девочки пересохло все горло, тем более что она проделала куда более длинный путь, чем он сам (он мысленно сравнил их маршруты).
Что же ей предложить? Он терялся в догадках. Джин с вермутом, сухой мартини, снова и снова прокручивались в его голове эти коктейли. Но как спросить, если он даже не знает, где хранится спиртное – да и есть ли оно тут вообще? И подойдет ли сухой мартини человеку с обезвоженным, как у него, организмом? Тут же в памяти всплыли смутные воспоминания о том, как он ездил в гости к ней, и как ему тут же предлагали самые разные напитки, причем заранее припасенные к его визиту, как трогательно там заботились о том, чтобы ему было удобно и уютно. И вот теперь – такое. Он не мог в точности вспомнить, что было после появления Хелен; он не хотел этого вспоминать, это было так унизительно, так стыдно. Более оскорбительного и неприветливого приема нельзя было представить.
Где она была в тот миг? Неудивительно, если растворилась в более приветливой ночи. Но нет, она где-то тут, хотя ему никак не удавалось ее увидеть: то она за спиной, то слева, то справа, но никогда – впереди, потому что перед ним стоял большой бронзовый… вазон? чаша? контейнер? со всегдашним чистоустом величавым (Osmunda Regalis) – какое красивое название, но к ней оно не имеет ни малейшего отношения. Если бы только она перестала двигаться и мельтешить и позволила себя как следует рассмотреть! Если бы только задержалась на одном месте, ведь в обычной жизни она была неколебима, как якорь. Но вот наконец она замерла, точно бабочка; и эта бабочка тут же попала в его сачок.
– Хелен, – сказал он, стараясь разглядеть ее лицо сквозь вуаль, – мне ужасно неловко, что тебя так встретили, но я никак не мог предвидеть, что все так обернется («до сих пор в голове не укладывается», – мог бы сейчас добавить он). Но что самое главное – ты ведь даже не попила, это не дает мне покоя. С дороги тебе наверняка хочется пить, да и мне тоже. (Эта фраза снова и снова билась в его мозгу). Но как нам быть? И где она, в смысле – выпивка? Люди где-то в столовой. А напитки?
Насколько он понял, Хелен заявила, что выпивка ее нисколько не волнует; но он не поверил, тем более, что самого его мучила нестерпимая жажда.