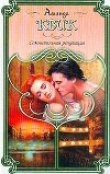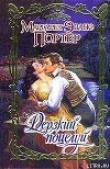Текст книги "Смертельный номер (рассказы)"
Автор книги: Лесли Поулс Хартли
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц)
Л. П. Хартли
Смертельный номер:
Рассказы
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
перевод М. Загота
На душе у директора цирка было муторно. Зрители уже давно не налили валом, а те, что все-таки забредали на представления – в основном дети, – постоянно ерзали, грызли сладости, сосали леденцы, а то и просто болтали друг с другом, забыв, зачем они сюда пришли. Только при виде пони глаза у детворы или девочек постарше зажигались огнем. Шутки клоунов повисали в воздухе, потому что были плоскими, такими еще удавалось рассмешить публику до 1939 года, но после этой знаменательной даты у людей как-то пропало желание смеяться по любому поводу, да и вообще они изменились. Не раз до слуха директора доносилось слово «скукотища», и, естественно, он был от этого не в восторге. Чем их пронять? Может, шутками еще глупее, еще тупее старых? Чтобы стрела номера была направлена не в глаз, а в бровь, а то и вовсе в белый свет, чтобы присутствовал элемент дурости, когда можно посмеяться и над шуткой, и над шутником: он как бы ненароком высмеивает сам себя – может, так? А то клоуны тараторят – не остановишь, да толку чуть: в их бессмыслице для нынешней публики слишком много смысла, слишком много конкретного. Уж пусть несут полную ахинею, вдруг будет лучше? Им надо изменить манеру, уразуметь, чем все-таки можно рассмешить людей, если они еще не разучились смеяться. Но беда в том, что директору самому перевалило за пятьдесят, и шутки никогда не были его сильным местом, даже в прежние времена. Каким это словечком все нынче щеголяют: «утонченный»? Зрители стали слишком утонченными, даже дети. Казалось, они уже видели и слышали все, даже те, кто по возрасту никак не мог видеть и слышать всего.
– Как быть? – спросил директор жену. Они стояли под большой трапецией, которую только что закрепили, и размышляли: сколько пустых мест во время первого представления так и останутся пустыми? – Надо что-то придумать, иначе у нас будет бледный вид.
– С клоунадой вряд ли что придумаешь, – заметила жена. – Тут дело такое – как-нибудь само образуется. Времена меняются, еще вчера было не модно, а сегодня опять в ходу. Возьми, к примеру, старинные танцы. Но кое-что сделать все-таки можно.
– Что?
– Вставить в программу опасный, по-настоящему опасный номер. Это зрителям никогда не наскучит. Знаю, тебе такие номера не по нраву, да и мне не очень, но когда у нас шла «Стена смерти»…
Под тонкой рубашкой на широченной груди мужа дернулись мускулы.
– Сама знаешь, чем тогда кончилось.
– Знаю, только нашей вины в том не было. Никто и не думал на нас собак вешать.
Он покачал головой.
– Такие случаи всех будоражат. Я помню, народ к нам повалил, будто медом намазали – посмотреть на то место, где человек убился. А у циркачей – трясучка, бог знает сколько времени не могли в форму войти. Если ты предлагаешь новую «Стену смерти», я против… да и где взять такого смельчака? Да еще чтобы на велосипеде с ним лев сидел – для пущей привлекательности.
– Что ж, на этой «Стене» разве свет клином сошелся? Есть и другие номера, по-настоящему опасные. Опасность – вот что привлекает народ.
– Что ты предлагаешь?
Прежде чем она успела ответить, к ним подошел работник цирка.
– Надеюсь, не помешал, – извинился он. – Там за дверью человек, хочет с вами поговорить.
– О чем?
– Похоже, работу ищет.
– Приведи, – распорядился директор.
Работник ввел посетителя и тотчас ушел. Перед директором предстал высокий блондин с рыжеватыми львиными глазами и редкими усами. Возраста неопределенного – наверное, лет тридцати пяти. Он стянул с головы видавшую виды бурую полотняную кепку и молча ждал.
– Мне сказали, вы ищете работу, – заговорил директор, а жена его пыталась взглядом оценить пришедшего. – У нас, знаете ли, труппа заполнена. И людей с улицы мы, как правило, не берем. У вас есть рекомендации?
– Нет, сэр.
– Тогда, боюсь, мы вам ничем не поможем. Но, любопытства ради, что вы умеете делать?
Словно прикидывая высоту, мужчина метнул взгляд в точку, где две штанги большой трапеции уходили в холст.
– Я могу прыгнуть с высоты шестьдесят футов в бак восемь футов длиной, четыре фута шириной и четыре фута глубиной.
Директор уставился на него.
– Правда? – спросил он. – Но тогда вы тот человек, который нам нужен. Можете показать, как вы это делаете?
– Да, – последовал ответ.
– А ничего если на поверхности воды будет гореть бензин?
– Пусть.
– Бак у нас есть? – спросила жена директора.
– Есть старый, для русалки. То, что надо. Пусть тащат сюда.
Пока втаскивали бак, незнакомец огляделся по сторонам.
– Что, сомнения берут? – спросил директор.
– Нет, сэр, – ответил мужчина. – Купального костюма у меня нет, вот в чем загвоздка.
– За этим дело не станет, – заверил его директор. – Я покажу, где переодеться.
Отведя незнакомца в раздевалку, он вернулся к жене.
– Думаешь, пусть прыгает? – спросила она.
– Пусть, сам ведь вызвался. Ты хотела опасный номер, вот и получай.
– Знаю, но… – Слова ее потонули в грохоте, это на тележке привезли бак – полый двойной куб, похожий на саркофаг. На свинцовых ребрах куба резвились рельефные русалки. Покряхтывая и поругиваясь, рабочие арены собрали его, в нескольких футах от осевого столба. Подтянули к водопроводному крану шланг – и скоро в бак, урча и фыркая, полилась вода.
– Что-то он долго переодевается, – озаботилась жена директора.
– Может, ищет, куда деньги спрятать, – засмеялся муж и добавил: – Бензин пока жечь не будем.
Наконец мужчина вышел из-за ширмы и медленно направился к ним. Высокий, поджарый, мускулистый. Волосы на груди пушились, будто он их расчесывал. Он остановился перед ними, уперев руки в бока, кожа покрылась пупырышками. Зевнул раз, другой.
– Как подняться наверх? – спросил он.
Директор, удивившись, показал на лестницу.
– Если не хотите, можно по столбу или затащим вас туда на канате. Под самым куполом платформа для ног, довольно прочная.
Человек начал карабкаться наверх по хромированной лестнице, жена директора крикнула ему вслед:
– Вы не передумали? Хотите прыгать?
– Хочу, мадам.
Он не мог распрямиться на платформе во весь рост – был слишком высок, голова упиралась в брезент навеса. Чуть пригнувшись, покачиваясь в сорока футах над ареной, он взмахнул руками, как бы проверяя сопротивление воздуха. Потом нырнул в пространство… жена директора отвела взгляд… раздался всплеск, и вверх тонкой простыней взметнулись брызги.
Когда жена обернулась, смельчак стоял в баке, по грудь в воде. Перемахнув через край, он по арене зашагал к ним, с тела стекала вода, к влажным ступням прилипли опилки, рыжеватые в крапинку глаза слегка покраснели.
– Браво! – воскликнул директор, хватая прыгуна за лоснящуюся руку. – Номер просто первоклассный, денежки так и потекут в наши карманы. Пятнадцать фунтов в неделю вам хватит?
Мужчина покачал головой. Вода капельками стекала с его спутавшихся волос на плечи, выцеживалась из купального костюма и оставляла бороздки на мускулистых бедрах. Хорош собой, строен; женщинам он будет нравиться.
– Ну тогда двадцать.
Мужчина снова покачал головой.
– Хорошо, двадцать пять. Больше мы не даем никому.
Мужчина словно и не слышал – он лишь едва заметно покачал головой. Директор цирка и его жена быстро переглянулись.
– Ладно, – сказал он. – Вы нам дадите полный сбор, а раз так, предлагаем особую ставку – тридцать фунтов в неделю. Идет?
Понял ли его мужчина? Сунув палец в рот, он продолжал медленно качать головой, скорее, в ответ своим мыслям, которые были где-то далеко, и предложенная сделка его вовсе не занимала. Он так и не отозвался, и напряжение сразу спало, узел развязался, и директор сказал своим будничным, деловым голосом:
– Что ж, значит, не договорились. Но все-таки почему вы отвергли наше щедрое предложение?
Мужчина глубоко вздохнул и, наконец нарушив молчание, вымолвил:
– Я это сделал впервые, и мне не понравилось.
С этими словами он повернулся на пятках и неверной походкой зашагал к раздевалке.
Директор цирка и его жена обалдело переглядывались.
– Он это сделал впервые в жизни, – пробормотала она. – Впервые.
Не зная, какими словами проводить его, похвалить ли, побранить, обвинить или посочувствовать, они стояли и ждали, когда он вернется, но смельчака все не было.
– Пойду посмотрю, не случилось ли с ним чего, – сказал директор цирка. Через две минуты он вернулся. – Его там нет, – сообщил он. – Наверное, улизнул через другую дверь, попадаются же ненормальные!
МОЛИТВА
перевод М. Загота
Энтони Истерфилд не был, в сущности, человеком религиозным, если не иметь в виду самую свободную и туманную интерпретацию этого слова, но он был религиозен в том смысле, что не был материалистом. Я материалист? Ни в коем случае! Тут была полная ясность, и если это слово произносили в его присутствии, или оно встречалось ему в книге, или случайно приходило на ум (со словами такое бывает), он тотчас гнал его прочь. Нашли материалиста! Ничего умней не придумали? Да род людской на ладан дышит из-за вашего материализма! Уж лучше сковырнуться от пьянства, в этой смерти, по крайней мере, будет хоть что-то спиритическое.
В то же время он знал: спиритизмом отдают многие явления, которые ему не по нутру, к примеру «поклонение автомобилю». Некоторые без машины не мыслят себе жизни, а от запаха бензина просто дуреют – в этом смысле всех их можно записывать в алкоголики.
У Энтони тоже были автомобиль и водитель – сам он водить не умел; в прошлом он пытался сдать на права, но закончились эти попытки плачевно, поэтому он решил: для собственного блага и для блага окружающих впредь он за руль садиться не будет.
Для него машина была лишь удобством, а для его водителя чем-то гораздо большим – символом его религии. Водитель не был доволен машиной, вернее, тем, как работали ее разные, если не все, узлы, – так многие порой недовольны своей религией (если таковая есть), они считают, что она их подводит. Машина Энтони подводила Коппертуэйта частенько, но она символизировала его положение в обществе, а это для Коппертуэйта было крайне важно. В его жилах текла кровь фанатика и не было такого огня, который мог бы этот фанатизм выжечь.
– Что вам взаправду нужно, сэр, – по особым случаям он снисходил до того, что называл Энтони «сэром», хотя с большим удовольствием обратился бы непосредственно к машине, – так это машину престижной модели.
(До отравленного автомобильными парами сознания Коппертуэйта и дойти не могло, что Энтони никогда не нужна была такая машина и никогда не будет нужна.)
– Взять, к примеру, «роланд-рекс» шестьдесят седьмого года, – продолжал он, пытаясь посвятить в тайны автомобилизма далекого от техники Энтони. – Ускоряющая передача, понижающая передача, прямая передача, автоматическое управление и прочее, и прочее – как раз то, что вам нужно. Машина – блеск, могу выдать подробно ее характеристики, но вам это неинтересно, а в смысле престижа ей равных нет. Разве что «роллс-ройс», да и то…
Энтони Истерфилду была безразлична или почти безразлична престижная ценность «роланд-рекса», но он знал, что Коппертуэйт учитывает ее не только по техническим соображениям, но и в силу обычного снобизма. А в основе снобизма лежит отнюдь не голый материализм, хотя и духовное здесь тоже не самое главное.
Главное, чтобы у людей глаза на лоб повылезли! Вот они собираются вокруг твоего «роланд-рекса» и пялятся на него в восхищении, что-то восклицают, поглаживают металлического красавца, если хватает смелости, преклоняются перед ним, как перед произведением искусства. Всех обставить, всех превзойти – вот высшее блаженство! Не тянуться за Джонсами, а промчаться с шиком мимо них, оставив их с разинутыми ртами. Deus ex machine! Божество из машины!
Коппертуэйт часами, буквально часами возился с простенькой машинкой Энтони, драил ее до такого блеска, что можно было смотреться; а когда что-то случалось с ходовой частью (такое бывало нередко), из-под машины торчали его вытянутые ноги, а лицо, если оказывалось в поле зрения (надо было подловить момент), прямо-таки лучилось от счастья. А когда Энтони выкликал Коппертуэйта на свет божий из его темного, мрачного маслянистого святилища, тот выползал с лицом обиженным и даже сердитым, словно его прервали в самый разгар молебна.
Laborare est orare.[1]1
Трудиться – значит молиться (лат.).
[Закрыть] Одухотворенные, хотя на взгляд Энтони и незавидные, труды Коппертуэйта были как бы молитвой Deus ex machina, божеству из машины. Вот бы скопить сколько надо и стать счастливым обладателем «роланд-рекса»! Сбылась бы мечта Коппертуэйта, труды его удвоились бы, равно как и молитвы. Лежать распростертым под шасси «роланд-рекса» – какое блаженство! Чувствовать кожей лица капли масла, нежно спадающие с этой божественной машины! Прикасаться к ее гениталиям (да простится мне эта фигура речи) – можно ли представить себе большее счастье? О чем еще может мечтать мужчина? Трудиться во благо этого гениального воплощения инженерной мысли, этой богини – и тем самым молиться ей! Вступать с ней в связь (никакой ветрености, упаси Господи), ловя капающее с нее масло – сливаться с ней воедино! Энтони завидовал Коппертуэйту, что тот неосознанно отождествил себя с предметом своего поклонения, предметом куда более важным в его глазах, чем сам Энтони, и что, посвятив себя машине, Коппертуэйт обрел подлинную свободу.
Энтони научился распознавать «роланд-рекс», потому что когда они проезжали мимо припаркованной красавицы, а то и обгоняли ее на ходу, что случалось реже, Коппертуэйт неизменно привлекал к ней внимание Энтони.
– Вот на чем мы должны ездить, сэр.
Энтони, не желая огорчать Коппертуэйта, лишь неслышно вздыхал и думал о своем банковском счете.
Он понимал, что страсть Коппертуэйта к машинам носит религиозный характер, чтил его за это, потому что и сам был человеком религиозным, только по-своему, а не так, как Коппертуэйт.
Laborare est orare. Трудиться – значит молиться. Правильно. Но верно ли обратное? Orare est laborare? Молиться – значит трудиться? Возможно. Молитва есть борение не только для святых, но часто и для простых смертных. На лбу выступает пот, по щекам бегут слезы, люди бьют земные поклоны, теряют сознание, становятся похожими на покойников. И все это из-за физических усилий, затраченных при молении. Труды наши! Да бывает ли труд более тяжкий, чем этот? Коппертуэйт, безусловно, трудился, беззвучно молясь машине Энтони; укрывшись от света, он принимал самые неудобные позы, исследуя и обихаживая предмет своего восхищения – пусть и не самые поэтические его части. Контакт его со своим божеством был непосредственным и инстинктивным, никаких особых усилий он не прилагал; ему не требовалось от машины подтверждения, что между ними существует полнейшая гармония. А ну как труды праведные не принесут плодов? Не беда, даже если он сразу и не отыщет неисправность, сама попытка уже награда. В другой раз полежит на цементном полу час-другой, вглядываясь в джунгли трубок (что он там видел такого захватывающего, Энтони, абсолютно далекий от техники человек, никак не мог взять в толк), и найдет неисправность, и еще ближе и теснее станет его связь с машиной.
Не сказать, что он доводил себя до исступления. Из-под машины (для чего ему приходилось слегка взбрыкивать ногами) Коппертуэйт вылезал эдаким резвым и брыкающимся теленочком, он нежно хлопал машину по капоту и одаривал ее любящим и благодарным взглядом.
Молитвы самого Энтони не были столь трудоемки – ну, приходилось ему становиться на колени, а иногда нагибаться и прижимать лоб к кровати, стулу, церковной скамье – где ему было удобно отдать дань Всевышнему. В церковь он ходил редко. Службу с давних пор знал так хорошо, что слушал вполуха. Вообще предпочитал молиться в уединении, без свидетелей. При большом скоплении народа, в обстановке торжественной встречи с Господом он как-то не успевал обратиться к Нему с собственными прошениями. Для этого требовалось напрячь память, а у него не получалось, потому что священник, хор, прихожане – все что-то кричали или бормотали. Его молитвы требовали постоянных изменений: одну особу надо было исключить из обращения к Господу, другую, наоборот, включить. Кого внести в список, кого оставить за бортом – это была задача не из легких; выполнить ее Энтони мог только наедине с Богом, – когда не отвлекает шум улицы, не рябит в глазах от красного, желтого и зеленого сигналов на дороге между Землей и Небом.
Но верил ли он в действенность своих молитв? Вправду считал, что зов его будет услышан? Верил ли в Бога так безоговорочно и искренне, как Коппертуэйт верил в его машину? Или с его стороны это было лишь суеверие, желание подстраховаться на случай какого-нибудь бедствия, которое возьмет да и обрушится на его друзей или его самого? Или он просто боялся: позабудет попросить Бога о том или ином желанном благе – и обездолит себя и друзей, лишит их какой-то частицы счастья.
Начинал он всегда со своих друзей, потому что сомневался: удобно ли молиться за себя? Пожалуй, за себя Господа можно просить только об одном: чтобы Он отпустил твои грехи. А просить Его, чтобы Он отпустил грехи кому-то еще, – это уже наглость, непотребное использование воли Господней. Энтони никогда не совершит подобного святотатства. Некоторые его друзья далеко не ангелы, и небесная, духовная и нравственная помощь нужна им до крайности, поэтому Энтони их имен не называл и не говорил о том, как наставить их на путь истинный.
Его молитвы, однако, включали длинный перечень имен остальных друзей, за которых он просил у Господа, когда за всех сразу, а когда и поврозь. Они обычно делились на две группы: друзья, ныне здравствующие, и родственники друзей, перешедших в мир иной. Энтони никогда их не пересчитывал (считать людей – к этому у него было библейское недоверие), но всех вместе человек сорок набиралось. Когда он шептал чье-то имя, человек, стоявший за этим именем, на мгновенье являлся ему, не важно, живой или усопший, звено в цепи его жизни, звено любви, продолжение его собственной личности, доказательство существования его и их.
Но даже в молитвах не обходилось без подводных камней. Энтони не молился за мертвых. Не из принципиальных соображений, просто он полагал, что помочь этой братии уже ничем не может; они в руках Господа. Но он молился за то, чтобы полегчало на душе у их родственников и друзей, чтобы они утешились, – даже если прекрасно знал, что родственники и друзья умерших дождаться не могли, когда же наконец тех приберет Господь.
Список этих родственников и друзей становился все длиннее, по мере того как с блестящей нитки любви спадали драгоценные бусины. Образовалась очередь; и Энтони, чтобы выйти из положения и предоставить место другим, некоторые имена приходилось опускать – так на венецианском кладбище Сан-Микеле телам покойных лишь на несколько лет предоставляют земную обитель, а потом – извини-подвинься! Не грешивший пристрастием к кому бы то ни было, Энтони тем не менее был вынужден решать, чьи родственники больше нуждались в его молитвах, кого в списке оставить, а кого вывести.
Была еще одна тонкость. Некоторые из друзей Энтони, за кого он молился при их земном существовании, перед тем как расстаться с миром живых и перейти в мир иной, поменяли фамилии – развелись, снова вступили в брак, обрели титулы для себя или своих мужей. Поймет ли Господь, что «Мери» из его прошлых молитв о живых и есть та самая «миссис X» или «леди X», за чьих безутешных родственников Энтони радеет перед Ним? Энтони прекрасно сознавал всю нелепость этого вопроса. Господу не надо изучать «Кто есть кто», или Справочник званий и титулов. Уж как-нибудь Он разберется, о какой Мери идет речь; но в обычной беседе нужно объяснить, кто такая Мери, вот и Энтони, взывая к Всевышнему, полагал, что надо внести ясность. Перед судом Господним все едины; но Энтони хотел отделить свою Мери от остальных – все-таки одна из них была матерью Иисуса Христа.
Молитвы были делом трудоемким еще по такой причине – а вдруг в длинном списке имён кого-нибудь пропустишь? В каждой религии есть свои ритуалы, их надлежит строго соблюдать; мелкая промашка, случайный пропуск – и вся процедура может пойти насмарку. Свои молитвы Энтони знал наизусть, он не стыдился, что они у него, как говорится, отскакивали от зубов, – главное, каждое имя, живого или покойного, за кого он молился, он успевал обогреть искоркой любви. Но иногда казалось, что одно имя, всего одно, от него ускользнуло. Тогда приходилось начинать сначала, а то и проходиться по списку в третий раз, чтобы убедиться – никто не пропущен. Это ему не нравилось, и не только потому, что повтор требовал усилий, – тут все шло от разума, а не от убеждений, но выхода не было, приходилось повторять.
Его молитвы за живых, которые не лишились близких, но страдали от несчастий, болезней, невезения, – эти молитвы были проще, потому что в основе его ходатайства было живое слово поддержки, а не мертвое слово соболезнования. Молясь за этих страждущих, он не просил об утешении, успокоении, тут речь шла о будущем счастье (разумеется, если оно строилось на добрых начинаниях), об успехе их деяний, об их личном, всеобщем и материальном благе. Ничего предосудительного в этом не было. В Ветхом Завете осуждалось много чего, если не почти все, но только не идея процветания. У Иова отняли процветание, и поэтому дух его страдал безмерно. Но в конце концов Иову вернули все в десятикратном размере.
В общем, Энтони не считал, что совершает антирелигиозный поступок, желая своим друзьям – и тем, чья ноша не слишком тяжела, и тем, чья жизнь полна невзгод, – исполнения надежд, в том числе и в материальной сфере. Разве благочестивые римские католики не молились его тезке, святому Антонию, прося его возвернуть им какую-то мелочь – скажем, утерянные часы? Молить Бога, чтобы он возвернул тебе часы, никак нельзя, не его это забота. А протестанту молить о чем-то святых тоже не пристало. Но если просить не за себя, а за кого-то… вот Энтони и молился, чтобы Коппертуэйт, к которому он сильно привязался, получил в подарок автомашину «роланд-рекс». Сам он к этому подарку как будто и не имел отношения: он желал его Коппертуэйту.
Разминая затекшие ноги после необычно долгого и отнявшего много сил ходатайства, с которым он обращался коленопреклоненным, Энтони чувствовал, что на сей раз ему удалось по-настоящему доброе дело. Не всегда знаешь, чего действительно не хватает другу и как сделать, чтобы мечта его сбылась. Мечта Коппертуэйта была известна: он хотел «роланд-рекс».
Через несколько дней Коппертуэйт подошел к нему и с каменным лицом объявил:
– Боюсь, сэр, мне придется забрать у вас мои карточки. – Коппертуэйт прослужил у Энтони немало лет и никогда не произносил этих слов.
– Ваши карточки, Коппертуэйт? Какие? – Он решил, что речь идет об игральных картах.
– Мои карточки, сэр, профсоюзные и социального страхования, по которым вы всегда платили.
– Разумеется, вы можете их забрать, – ответил ошарашенный Энтони. – Если, конечно, я их найду. Но зачем они вам?
Лицо Коппертуэйта совсем окаменело, Энтони едва узнавал его.
– Прошу меня извинить, сэр, но мне предложили более выгодную работу. Мне у вас было очень хорошо, сэр, не думайте, я очень ценю все, что вы для меня сделали. Но человек в моем положении должен сам себя обеспечивать – вы джентльмен, сэр, и вам это, скорее всего, не так просто понять.
– Я и правда не понимаю, – отозвался Энтони, все еще ошарашенный.
Лицо Коппертуэйта превратилось в гранит.
– Американский джентльмен – я вовсе не хочу вас обидеть, сэр, – предложил мне перейти к нему. Ему рекомендовал меня носильщик из нашего квартала. Этот джентльмен будет платить мне хорошие деньги.
– Я могу повысить вам жалованье, если хотите, – пробормотал Энтони, чье лицо тоже начало каменеть.
– Нет, нет, сэр, у меня и в мыслях не было просить вас об этом, я не вымогатель, к тому же…
– Что к тому же? – сердито спросил Энтони.
– К тому же у него есть «роланд-рекс», а я, сэр, всегда мечтал сидеть за рулем этой машины.
– Когда вы хотите уйти? – спросил Энтони.
– На следующей неделе, в субботу. У вас будет время подыскать другого человека.
– Не уверен, – буркнул Энтони. – А ваши карточки я постараюсь найти.
Прошла неделя, и попытки Энтони найти Коппертуэйту замену ни к чему не привели. На его предложение откликнулось несколько человек, претенденты явились для личной беседы. Он вел себя наиподобающим образом, равно как и они. Но что кроется за внешним обликом? «Мы, люди, – как верно заметил Шекспир или кто-то из его персонажей, – читать по лицам мысли не умеем…»[2]2
«Макбет», акт 1, сц. IV; перевод Ю. Корнеева.
[Закрыть] Что касается рекомендаций, друзья заверили его – очень часто их пишут сами претенденты. «Мистер Энтони Брэгшо (удивительно, как много у него тезок) – человек честный, не пьющий, вполне достоин доверия; прекрасно водит машину, отлично готовит простую пищу. Без малейших сомнений рекомендую его на предлагаемую должность».
Два или три таких отзыва были написаны на хорошей писчей бумаге, с номером телефона прежнего нанимателя; но когда Энтони набирал номер, ответа не было.
Сам Энтони не умел ни готовить, ни водить машину; дело шло к семидесяти, и без помощника ему не обойтись. С едой еще можно устроиться: ходи в кафе, ресторан. А вот транспорт… конечно, есть автобусы, и метро, и такси, только пойди его поймай в нужную минуту. Впрочем, как верно заметил сэр Томас Браун,[3]3
Томас Браун (1605–1682) – английский врач и писатель.
[Закрыть] «смешно жаловаться на то, от чего страдает весь мир» (в том числе и на то, что все мы смертны).
Он не знал, как поступить с машиной, и оставил ее в общем гараже, там у него был свой кусок асфальта, 5А. Когда ему надо было куда-то ехать и он просил сесть за руль его машины носильщика или еще кого-то, ее никогда не оказывалось в квадрате 5А, соответственно, нельзя ее было туда и поставить. Кто-то катался на машине Энтони без спроса.
Энтони изредка видел Коппертуэйта, его новый наниматель жил на противоположной стороне квартала, в одном из нескольких домов, не отданных под квартиры. Бывало, Энтони не сразу узнавал его – Коппертуэйт принарядился, ходил гоголем. На нем была традиционная шоферская одежда – синий костюм, черный галстук, кепка с козырьком, – он сидел за рулем и смотрел прямо перед собой, будто на пути были другие машины (впрочем, такое случалось нередко).
Порой он и Энтони издалека обменивались приветствиями, и снисходящей стороной (если в приветствии можно быть снисходительным) всегда был Коппертуэйт. И правда, «роланд-рекс» – это было зрелище, ни в сказке сказать! Во всяком случае, Энтони, который в машинах ни уха ни рыла, сказать не мог ничего, он лишался дара речи! Но и он понимал, что «роланд-рекс» – всем машинам машина уже только из-за своих размеров, что сзади она еще солиднее, чем спереди, будто на нее надет турнюр, и занимает она пол-улицы.
Коппертуэйт теперь не всегда узнавал Энтони при встрече, когда тот шел пешком, а Коппертуэйт, чуть прикрыв глаза, восседал в своей крепости. На дремотном лице шофера «роланд-рекса» была такая респектабельность, что Энтони иногда становилось не по себе.
Он тешил себя мыслью, что Коппертуэйт был (перефразируя миссис Хеманс[4]4
Английская поэтесса (1793–1835).
[Закрыть]) созданием низшего порядка, задержавшимся в развитии спесивым павлином.
Тем более удивился Энтони, когда как-то утром получил письмо без марки, брошенное прямо в его почтовый ящик.
«Дорогой сэр! – начиналось письмо, – имею намерением сообщить Вам, что я освободился от обязательств, связанных со службой у моего нынешнего нанимателя, мистера Элмерика Дьюка. Дело не в каком-то несогласии, возникшем между нами, мистер Дьюк был достаточно щедр ко мне и проявлял полное понимание, но условия моей службы меня более не устраивают, особенно что касается машины. Мне известно, сэр, что Вы еще не подыскали человека, который будет водить Вашу машину и оказывать прочие необходимые услуги, и если Вы рассмотрите мою просьбу о возвращении к Вам на должность, в которой я всегда был счастлив, я буду Вам чрезвычайно обязан.
С уважением
Ваш Дж. Коппертуэйт».
Энтони изучил это послание со смешанными чувствами. Коппертуэйт обошелся с ним не лучшим образом. Приходящая прислуга Энтони, помогавшая ему не один год и знавшая одного или двух быстро сменившихся предшественников Коппертуэйта, однажды сказала: «Уж слишком вы, мистер Истерфилд, длинный поводок им даете, вот и весь сказ». И это не был комплимент. Пока слуга был доволен, все шло распрекрасно, но стоило Энтони чуть дернуть за поводок и позволить себе малейший упрек: плохо приготовлен ужин, чересчур быстро едет машина, – и все, к слуге зачастили гости, а то и гостьи, его невозможно найти или он торчит там, где ему совсем не место, – при малейшем намеке на критику слуги уходили, только их и видели. И длинный поводок становился ненужным; но как они себя поведут, если он этот поводок укоротит? Даже подумать страшно.
Вспоминая об этих беглецах, Энтони не без теплоты подумал о Коппертуэйте. Конечно, Коппертуэйт обошелся с ним не лучшим образом, но, по крайней мере, о своем уходе он предупредил за неделю; он не просто «слинял» (пользуясь современным жаргоном), оставив ключи от квартиры и машины на столе с запиской: «Я сыт по горло».
Нет, все годы Энтони и Коппертуэйт жили душа в душу, никогда не сказали друг другу дурного слова. Его приходящая прислуга – придирчивая особа – считала, что у Коппертуэйта был слишком длинный поводок. Ну, это ее дело… до конфликта у Энтони с Коппертуэйтом никогда не доходило.
Брать слугу назад нельзя – так учат предки. Да и само слово «слуга» нынче устарело, отдает архаизмом; в приличном или в неприличном обществе его теперь не употребляют. «Слуги» теперь «персонал»; даже если один слуга, все равно «персонал». Откуда он пошел, этот «персонал»? От «персон» при римском дворе – одни «грата», другие «нон грата»?
Значит, Коппертуэйт – это персонал? Персонал – не устраивай скандал. Вспоминая тягучие дни и недели после его ухода, думая о его предшественниках, совсем бесполезных и ненадежных, глядя в будущее, где не рисовалось ничего соблазнительнее дома для престарелых, Энтони начал склоняться к тому, чтобы принять блудного Коппертуэйта.
Да, мудрецы прошлого утверждают: брать слугу назад нельзя, но что плохого, если Коппертуэйт вернется? Допустим, он станет во все совать нос; он и раньше этим отличался, решал за Энтони всякие мелкие задачки: что приготовить на второе, какое вино поставить на стол и так далее – причем самому Энтони решать эти задачки вовсе не хотелось, то ли одолевала усталость, то ли поджимал возраст, то ли было просто наплевать.
Самое страшное – Коппертуэйт от него снова уйдет. Один раз ушел, и Энтони это прекрасно пережил; если что, переживет еще раз, можно не сомневаться.