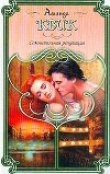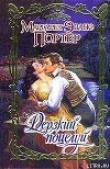Текст книги "Смертельный номер (рассказы)"
Автор книги: Лесли Поулс Хартли
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– Был? – переспросил, пятясь от него, Уолтер. – Вы и сейчас полицейский.
– Был я и еще кое-кем, – сказал полицейский. – Вором, сутенером, шантажистом, не говоря о том, что еще и убийцей. Вам следовало бы это знать.
Полицейский, если его можно назвать таковым, казалось, все ближе и ближе подходил к нему, и вдруг Уолтер остро ощутил значимость малых расстояний: от буфета – к столу, от одного стула – до другого.
– Не знаю, что вы хотите этим сказать, – пробормотал он. – Почему вы так говорите? Я не сделал вам ничего плохого. Да я вас никогда и в глаза не видел.
– Ах, не видели? – сказал тот. – Зато вы думали, – тут он повысил голос, – и писали обо мне! Повеселились на мой счет, так? Ну а теперь я хочу повеселиться на ваш. Вы сотворили меня самым мерзким из мерзких, постарались. Это называется – «не сделали мне ничего плохого»? Вы не задумывались над тем, что значит быть таким, как я, правда? И не ставили себя на мое место, правда? И ни капельки не сжалились надо мной, правда? Что ж, я тоже не собираюсь вас жалеть.
– Но говорю же вам, – воскликнул Уолтер, хватаясь за край стола. – Я не знаю вас!
– И вы еще утверждаете, что не знаете меня! Сотворили надо мной такое, а потом и вовсе позабыли! – в голосе его послышались нотки обиды и негодования. – Забыли Уильяма Стэйнсфорта!
– Уильяма Стэйнсфорта!
– Да. Я был для вас козлом отпущения, не так ли? Вы свалили на меня свою неприязнь к самому себе. Вы чувствовали себя превосходно, когда писали обо мне. Думали, какой вы честный и благородный, что пишете о такой дряни. Поговорим теперь, как один У. С. с другим. Что я должен сделать, чтобы поступить так, как это соответствует моей натуре?
– Я… я не знаю, – промямлил Уолтер.
– Не знаете? – ухмыльнулся Стэйнсфорт. – А вам бы следовало это знать, раз вы меня сотворили. Что сделал бы Уильям Стэйнсфорт, доведись ему встретить в каком-нибудь укромном уголочке своего старого папашу, своего доброго старого папашу, который отправил его на виселицу?
Уолтер только смотрел на него во все глаза.
– Вы не хуже меня знаете, что бы он сделал, – сказал Стэйнсфорт. Внезапно лицо его совершенно исказилось. – Нет, не знаете. Вы никогда меня не понимали. Я вовсе не такой злодей, каким вы меня изобразили. – Он замолчал, и в душе Уолтера блеснул слабый призрак надежды. – Вы не дали мне ни одного шанса на спасение, правда? Что ж, я вам дам один. Это показывает, что вы меня никогда не понимали, не так ли?
Уолтер кивнул.
– Вы забыли кое о чем.
– О чем же?
– Что я когда-то был ребенком, – ответил бывший полицейский.
Уолтер ничего не сказал.
– Признаетесь? – свирепо промолвил Уильям Стэйнсфорт. – Так вот, если сможете назвать хоть одну добрую мысль, хоть одну черту, искупающую мои грехи…
– Да?
– Ну, тогда я вас отпущу.
– А если не смогу? – прошептал Уолтер.
– Ну, тогда дело плохо. Тогда нам предстоит схватка. Вы знаете, что это значит. Вы лишили меня одной руки, но у меня еще сохранилась другая. Стэйнсфорт Железная Рука, так вы меня называли.
Уолтер едва мог дышать.
– Даю вам две минуты. Если не вспомните… – сказал Стэйнсфорт.
Оба посмотрели на часы. Сначала неуловимый бег стрелки парализовал мысли Уолтера. Он уставился Стэйнсфорту в лицо, хитрое, жестокое лицо, которое всегда было как бы в тени, как будто свет не смел прикоснуться к нему. Он отчаянно напрягал свою память в поисках одного-единственного факта, который принесет ему спасение. Но память его, словно туго сжатый кулак, не желала выдавать своих тайн. «Нужно что-то придумать», – размышлял он, и тут внезапно напряжение, сжимавшее его мозг, спало, и он увидел отчетливо, словно на снимке, последнюю страницу своей книги. Потом, как по волшебству, как во сне, перед ним с необычайной ясностью пронеслись страницы его книги, все, от первой до последней, и он со всей непреложностью осознал: того, что он ищет, там нет. В этом средоточии зла не было ни капельки добра. И с настоятельностью и каким-то даже восторгом он почувствовал, что если он сейчас не подтвердит этого, то совершит предательство по отношению к Добру.
– Нет ничего, что говорило бы в твою защиту! – воскликнул он. – И ты знаешь! Из всех твоих грязных делишек это – самое грязное! Хочешь, чтобы я оправдал тебя, так ведь? Да на тебе почернели даже снежинки! Как смеешь ты требовать от меня ложного свидетельства? Я уже дал тебе одно. Упаси бог сказать о тебе хоть одно хорошее слово! Лучше умереть!
Стэйнсфорт выбросил вперед свою единственную руку.
– Так умри же! – промолвил он.
Полицейские нашли Уолтера Стритера распростертым на обеденном столе. Его тело еще сохраняло тепло, но он был мертв. Нетрудно было догадаться, как он умер: рука его гостя протянулась не к его руке, а к его горлу. Уолтера Стритера задушили. Однако следов того, кто на него напал, обнаружить не удалось. На столе и на его одежде таяли снежинки. Но откуда они взялись, так и осталось загадкой – в день его смерти, по сводкам, в этом районе не было снега.
ЦЕНА СОВЕРШЕНСТВА
перевод Г. Либергала
Сколь скрытно, как незаметный и поначалу безболезненный, но смертельный недуг, прорастает в человеке страсть к коллекционированию! Тимоти Казуелл получил в наследство несколько восточных фарфоровых вещиц. Все они легко разместились на каминной полке и в угловом буфете. Он принимал поздравления от друзей, и его переполняла гордость обладания; когда это чувство потеряло остроту, Тимоти охладел к фарфору и готов был согласиться со своей служанкой, что такие хрупкие украшения нечего ставить где попало.
Но в один прекрасный день гостившая у него старая родственница упомянула о некоем блюде, с которого во времена его прабабушки кормили цыплят. Да вот же оно, – какое волнение! – и Тимоти сразу понял, что это famille verte,[12]12
Зеленое семейство (фр.) – вид китайской керамики XVI–XVIII вв.
[Закрыть] вещь очень ценная.
Проводив гостью, Тимоти принялся изучать блюдо. Из круглого медальона в центре расходились ветки с голубыми и лиловыми цветами и терракотовые розочки с зелеными листьями двух оттенков. Эти-то листья и очаровали Тимоти больше всего. То место, где листья касались друг друга и один тон зелени переходил в другой, вызвало в его душе почти такой же отклик, как смена тональности в музыке Шуберта. Он ужаснулся, представив, как цыплята долбят своими клювами эти листья, и с преувеличенной осторожностью водрузил блюдо на прежнее место над камином.
Теперь фарфор стал его главной усладой, и, хотя ни одно изделие не радовало его так, как это блюдо, все они дарили ему возможность читать о них, рассуждать и – что Тимоти находил особенно восхитительным – созерцать их, погружаясь в мечтательную дрему между мыслью и ощущением.
Можно представить его горечь и разочарование, когда привратник лондонского музея сообщил ему, что отдел керамики все еще закрыт на ремонт. «Приходите годика через три», – сказал привратник и подмигнул.
Но Тимоти не мог ждать и трех минут. Он приехал в Лондон посмотреть китайский фарфор – и он его посмотрит! Как раз подкатил автобус, идущий в тот район, к северу от парка, где так много антикварных магазинов. Тимоти сел в автобус.
Внутри магазин был куда просторнее, чем казался снаружи. Толстый ковер скрадывал звук шагов. В торговом зале никого не было, Тимоти на цыпочках подошел к стеллажам, опоясывающим стены, и стал рассматривать одну вещь за другой, пытаясь угадать, какие радости сулит ему каждая. Внезапно он остановился. Стоявшая на самой верхней полке ваза привлекла его внимание столь же властно, как если бы она его окликнула. Кому дано описать само совершенство? Не буду и пытаться, не скажу даже, какого она была цвета – ведь, подобно жемчужине, ваза обладала своим, присущим ей одной цветом, и он перетекал по ее поверхности невесомей тумана, что висит поутру над рекой.
– Вы обратили внимание на эту вазу, – произнес голос у него за спиной, учтивый голос, но Тимоти все равно вздрогнул. – Вы не зря восхищаетесь ею – это действительно уникальная вещь.
Голос принадлежал мужчине среднего роста и средних лет, чисто выбритому, со светскими манерами и внушительной повадкой.
– Очень красивая, – сказал Тимоти и тут же смешался из-за того, что обнаружил перед незнакомым человеком свои чувства.
Его собеседник обернулся и приказал кому-то в недрах магазина:
– Снимите селадоновую вазу и покажите ее джентльмену!
– Слушаюсь, мистер Джошаган.
Неизвестно откуда вдруг возникло несколько человек. Один из них принес стремянку, с непроницаемым выражением снял вазу с полки и поставил на стол.
– Включите свет! – приказал хозяин магазина. И ваза засияла, как будто свет переполнял ее и изливался наружу. Можно было подумать, что она парит в воздухе, такой невесомо хрупкой она казалась. Слой за слоем мягкого, прозрачного сияния будто приглашал глаз заглянуть в самое сердце сосуда.
– Clair de lune,[13]13
Лунный свет (фр.).
[Закрыть] – сказал мистер Джошаган. – Эпоха Мин? – он пожал плечами. – Возможно. Этого мы не гарантируем. Вам нравится ваза, сэр?
– Сколько она стоит? – рассеянно спросил Тимоти.
Услышав цифру, он содрогнулся. И все же, подумал он, цена могла быть значительно выше. Как оценить само совершенство? Он улыбнулся хозяину, словно извиняясь за то, что ваза ему не по средствам.
– Дороговато? – деловым тоном осведомился мистер Джошаган. – Мистер Кермен, можно вас на минутку, – скажите джентльмену, что вы думаете о вазе.
Мистер Кермен оставил сверток, которым был занят, подошел и задумчиво уставился на вазу.
– Чудесная вещь, мистер Джошаган, – сказал он. – Подобной у нас ни разу не было. Я бы весьма рекомендовал джентльмену приобрести ее – хотя бы как вложение капитала.
– Видите? – сказал мистер Джошаган. – Мистер Солстис, можно вас на минутку, – скажите джентльмену, что вы думаете о вазе.
Мистер Солстис, со столь же черными бровями и орлиным носом, как и его предшественник, приблизился и вперил взгляд в вазу.
– Это почти даром, сэр, никаких сомнений, – убежденно изрек он. – Такую вазу вам нигде не найти, и не ищите. То, что она у нас оказалась, просто невероятное везение.
Мистер Джошаган поднял брови и выразительно развел руками:
– Вы слышали? И он того же мнения. Спросим еще. Мистер Довермен, можно вас на минутку, – скажите джентльмену…
– Нет-нет, прошу вас, не беспокойтесь! – воскликнул Тимоти, не слишком учтиво опередив уже готового начать свою речь мистера Довермена. – Я ни в коем случае… – Он остановился и с неприязнью посмотрел на вазу. Ее блеск померк, суета торгашества будто заляпала ее густой грязью. И как он мог хотя бы мечтать?..
В угрюмое молчание, воцарившееся вокруг вазы, вторгся звук открывшейся двери, по ковру скользнула тень.
– А! – воскликнул мистер Джошаган. – Какая удача! Это мистер Смит из Манчестера, и как кстати! Мистер Смит, будьте любезны, скажите джентльмену, что вы думаете об этой вазе!
Мистер Смит, типичный англичанин, рыжеватый, с резкими чертами лица, казалось, почувствовал себя не в своей тарелке. Он потер подбородок, откашлялся и сказал едва слышно:
– Но… ведь она говорит сама за себя, не так ли?
И настроение Тимоти сразу же изменилось. Другие хвалили вазу; мистер Смит, более проницательный, сказал, что она сама говорит за себя. И верно – она не нуждалась ни в каких рекомендациях. Ей было присуще совершенство… нет, она сама была совершенством, высочайшим совершенством, воплощенным в форме вазы. Если Тимоти станет ее владельцем, это совершенство всегда будет у него перед глазами. Будь весь его жизненный путь поиском совершенства, здесь он мог бы и окончиться.
Но цена вазы была несоразмерна его капиталу, доходам, образу жизни и видам на будущее. Заплатить столько было бы чистым безумием. Раздраженный настойчивым напором чужой воли, Тимоти покачал головой.
– Мистер… – негромко осведомился мистер Джошаган. – Не имею чести быть вам представленным…
– Казуелл, – ответил Тимоти.
– Мистер Казуелл, – произнес мистер Джошаган с таким благоговением, словно услыхал имя Божие, – вам известно, что лорд Маунтбаттен[14]14
Лорд Маунтбеттен – английский адмирал, последний вице-король Индии.
[Закрыть] скоро покинет Индию?
Тимоти воззрился на хозяина. Он был так поглощен вазой, что не мог понять, при чем тут Индия.
– По-моему, да, – сказал он не очень уверенно.
– Мистер Казуелл, – повторил мистер Джошаган. – Индия – огромная страна.
– Огромная, – согласился Тимоти, надеясь, что его не втянут в спор о политике.
– Каково, по-вашему, население Индии? – Мистер Джошаган пристально посмотрел на него.
Статистику Тимоти любил.
– Четыреста миллионов, – выпалил он. К его изумлению, однако, это ничуть не сбило с толку мистера Джошагана.
– Точнее – четыреста пятнадцать миллионов, – поправил тот. – И сколько же это будет от всего народонаселения мира?
– Примерно пятая часть.
Но и тут мистер Джошаган не растерялся оттого, что побит своей же картой.
– Вы совершенно правы, мистер Казуелл, – произнес он медленно и внушительно. – В мире сегодня насчитывается два миллиарда человек, и ни один из них не может создать такую вазу!
Присутствующие стояли, смиренно потупив взгляд, как меценаты на старых полотнах. Но Тимоти показалось, что число их множится и множится, и вот их уже два миллиарда человек, и для каждого создание подобной вазы навсегда останется недоступным идеалом. Он поразился поэтичности этой мысли, и она его подкупила.
– Я беру вазу, – заявил он.
– Поздравляю вас, – сказал мистер Джошаган.
И сразу общее напряжение разрядилось. Сонм зрителей рассеялся, теперь их лица выражали полное равнодушие; даже мистер Джошаган, не переставая бормотать поздравления, удалился к себе в кабинет. Тимоти остался наедине со своим трофеем. Разлучиться с ним сейчас было бы невыносимо.
– В этом нет нужды, – сказал мистер Джошаган, отвечая на вопрос об оплате. – Мы охотно примем от вас чек, забрать же вазу можете прямо сейчас.
Тимоти вновь охватила радость, он едва удержался, чтобы не обнять мистера Джошагана.
– Я прикажу ее упаковать, – сказал его благодетель, пряча в карман чек и удаляясь с поклонами. – Тем временем вы, быть может, походите, посмотрите еще… быть может, другие наши вазы…
Тимоти улыбнулся, ибо другой такой вазы, конечно же, не было во всем мире. Хотя здесь было на что посмотреть, а посмотрев, лишний раз поздравить себя с тем, что его ваза совсем не такая, как эти.
Мысли его успели унестись далеко, прежде чем вернулся приказчик с огромной квадратной коробкой, которую он почтительно вручил Тимоти. Какой же весомой оказалась красота! Вцепившись в нее, едва видимый за нею, Тимоти направился к двери. Вошел еще один покупатель, на полку выставили еще одну вазу, и, проходя мимо, Тимоти услышал голос мистера Джошагана:
– В мире два миллиарда человек, мистер Гейнфут, и ни один из них…
Но Тимоти было уже безразлично, ибо перед собой, подобно щиту от всех этих миллиардов, он нес само совершенство.
ГОСТЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ
Перевод М. Загота
«Кого мы пошлем за жертвой своей?»
Начало мартовского дня было многообещающим, но вечер выдался сырым и промозглым. Трудно сказать, что взяло верх – дождь или туман. Ехавшим в автобусе словоохотливый кондуктор говорил, что на город опустился туман, а те, кому пришлось ехать наверху, узнавали от него, что погода стоит на редкость промозглая. Но пассажиры давно привыкли к проказам погоды, не принимали это неудобство близко к сердцу, и потому в автобусе, равно как и на нем, царило веселье. Ненастье, как всегда, было подходящей темой для разговора: даже мастера изящной словесности не считали для себя зазорным обсудить этот животрепещущий вопрос. Тем более что и кондуктор, подобно большинству представителей его профессии, обладал недюжинным даром собеседника.
Автобус – его рабочий день подошел к концу – делал последнюю ездку сквозь сердце Лондона. Внизу он был заполнен лишь наполовину. Наверху как (подсказывало кондуктору его шестое чувство), оставался один пассажир, не искавший крыши над головой, – то ли стоик, то ли просто лентяй. Автобус, погромыхивая, быстро катил по Стрэнду, и вот кондуктор услышал пошаркиванье, скрип обитых металлом ступеней – человек этот спускался с крыши.
– Еще кто-нибудь есть наверху? – спросил кондуктор, обращаясь к выплывающим из тьмы кончику зонта и краю макинтоша.
– Как будто никого, – ответил человек.
– Не подумайте, что я вам не верю, – вежливо заметил кондуктор, протягивая руку спускавшемуся клиенту, – но лучше пойду и погляжу сам.
С кондуктором бывало и не такое, случалось, он переставал верить сам себе. Подобные сомнения – видел или не видел – посещали его в конце утомительного дня, и он, если мог, им сопротивлялся. Ясно, они признак слабости; поддашься им, потом будешь казниться. Мозги у тебя потихоньку расклеиваются, только и всего, сказал он себе, и помог пассажиру пройти в салон автобуса, стараясь не думать, есть кто-то наверху или нет. Но тревога, поселившаяся в нем без всякого повода, была неотступной, и он, чертыхаясь, начал подниматься по ступеням.
К его удивлению и даже изумлению, предчувствия его оправдались. Победно закончив восхождение, он увидел на переднем сиденье справа пассажира; и хотя шляпа его была надвинута на лоб, воротник поднят, а между шляпой и воротником выбивался помятый белый шарф, человек явно слышал, что подходит кондуктор, – он смотрел прямо перед собой, но в вытянутой руке между большим и указательным пальцами полумесяцем торчала монета.
– Веселый выдался вечерок, да? – спросил кондуктор, чтобы хоть что-нибудь сказать. Пассажир не ответил, но пенс – а это был пенс – скользнул на долю дюйма вниз по желобку между веснушчатыми бледными пальцами. – Я говорю, жуткая сырость сегодня, – раздраженно настаивал кондуктор, выведенный из равновесия подобной сдержанностью.
Ответа все равно не последовало.
– Куда едете? – спросил кондуктор, и по тону подразумевалось, что в приличное место такой человек ехать не может.
– Кэррик-стрит.
– Куда? – властно переспросил кондуктор. Расслышать-то он расслышал, но в произношении пассажира была какая-то особенность, которая, как показалось кондуктору, вполне позволяла ему переспросить, возможно, даже унизив при этом строптивца.
– Кэррик-стрит.
– Так бы прямо и сказал: «Кэррик-стрит», проворчал кондуктор, компостируя билет.
На мгновение наступила пауза, потом пассажир повторил:
– Кэррик-стрит.
– Да, да, знаю, нечего мне сто раз повторять, – возмутился кондуктор, возясь со зловредным пенсом. Он никак не мог ухватить его сверху; монетка проскользнула слишком глубоко, поэтому он стал тащить снизу и наконец вытянул ее из пассажировых пальцев.
Монетка была совершенно холодная, даже край, который тот держал в руке.
– Знаете? – внезапно спросил пассажир. – Что же вы знаете?
Кондуктор хотел привлечь внимание путешественника к билету, но не мог заставить того оглянуться.
– Что вы большой умник, вот что, – сообщил он. – Слушайте, куда вам положить этот билет? Воткнуть в петлицу?
– Опустите его сюда, – ответил пассажир.
– Куда? – не понял кондуктор. – Вы же не почтовый ящик, черт подери!
– Туда, где был пенс, – объяснил пассажир. – Между моих пальцев.
Кондуктор, сам не зная почему, выполнил просьбу пассажира с крайней неохотой. Неподвижность руки заставила его поежиться: то ли она закоченела, то ли была парализована. А поскольку кондуктор стоял на крыше, то и его руки особым теплом не отличались. Заткнуть билет никак не удавалось – он сложился вдвое, смялся. Кондуктор наклонился ниже, потому что в душе был человеком добрым, и двумя руками, одной сверху, а другой снизу, запихнул-таки билет в костистую прорезь.
– Вот, пожалуйста, памятник Вильгельму.
Возможно, пассажиру не понравился этот шутливый намек на его физическое несовершенство, возможно, ему просто хотелось покоя. Во всяком случае, он сказал:
– Больше со мной не разговаривайте.
– Ничего себе разговор! – взвился кондуктор, окончательно выходя из себя. – Да с мумией говорить и то больше проку!
Бормоча что-то про себя, он спустился в недра автобуса.
На остановке на углу Кэррик-стрит собралось довольно много народа. Каждый хотел опередить остальных, но пальма первенства досталась трем женщинам, проникшим в автобус одновременно. Кондуктор распоряжался, перекрывая галдеж:
– Спокойнее, спокойнее, пихаться не надо. Тут не распродажа. Леди, поаккуратнее, очень вас прошу, несчастного старика зашибете.
Через минуту сумятица улеглась, и кондуктор, взявшись за шнур, вспомнил о пассажире наверху, который ехал как раз до Кэррик-стрит. Видно, проморгал свою остановку. Кондуктор явно не жаждал снова вступать в беседу с этим необщительным типом, но доброе начало взяло в нем верх, он поднялся по ступеням, высунулся наружу и прокричал:
– Кэррик-стрит! Кэррик-стрит!
Подвигнуть себя на что-то большее он просто не смог. Но намек не возымел действия; зов его остался без ответа – никто не спустился. Что ж, пробурчал про себя кондуктор, так и не избавившийся от чувства обиды, хочет оставаться наверху, я его стаскивать не буду, пусть он хоть десять раз калека. Автобус тронулся. Наверное, проскользнул мимо меня, решил кондуктор, пока эти «олимпийцы» штурмовали автобус.
В тот же вечер, за пять часов до описанного события, на Кэррик-стрит свернуло такси и подкатило к небольшой гостинице. На улице было пусто. Казалось, она кончается тупиком, на самом же деле в дальнем конце ее тонкой стрелкой пронзала аллея, которая тянулась в сторону Сохо.
– Кажется, все, сэр? – поинтересовался водитель, совершивший несколько ходок между такси и гостиницей.
– Сколько набралось мест?
– Девять, сэр.
– Водитель, а ваш скарб уместился бы в девять мест?
– Очень даже запросто; мне хватило бы и двух.
– Ну что ж, загляните в машину и проверьте, не оставил ли я там чего.
Таксист пошарил между подушками.
– Ничего нет, сэр, чисто-пусто.
– А если вы что-то находите, тогда как? – полюбопытствовал незнакомец.
– Отвозим в Скотланд-Ярд, сэр, – не задумываясь, ответил водитель.
– Скотланд-Ярд? – переспросил незнакомец. – Зажгите спичку, если нетрудно, я сам посмотрю.
Но он тоже ничего не нашел и, успокоившись, проследовал за своим багажом в гостиницу.
На него тут же обрушился шквал приветственных возгласов и поздравлений, Хозяин гостиницы, его жена, министры без портфеля, которых пруд пруди во всех гостиницах, носильщики, лифтер – все столпились вокруг него.
– Ах, мистер Рамбольд, после стольких лет! Мы уж думали, вы нас забыли. И вот ведь странно – в тот самый вечер, когда из Австралии пришла ваша телеграмма, мы как раз о вас говорили! Мой муж еще сказал: «Насчет мистера Рамбольда можешь не беспокоиться, он свое обязательно возьмет. В один прекрасный день он еще приедет сюда богатым человеком». Вы, конечно, и раньше не бедствовали, но муж имел в виду, что вы станете миллионером.
– Он был прав, – согласился мистер Рамбольд, медленно смакуя слова. – Я миллионер.
– Ну вот, что я тебе говорил? – воскликнул хозяин, словно одной ссылки на его пророчество было недостаточно. – Но раз вы приехали к нам, в «Россалз», значит, не слишком задрали нос.
– Просто мне больше некуда ехать, – кратко ответил миллионер. – А если б и было куда, я бы туда не поехал. Тут я как дома.
Он принялся оглядывать знакомые стены, и взгляд его потеплел. Светло-серые глаза, довольно тусклые, казались еще тусклее на загорелом лице. Щеки были чуть впалые, с глубокими морщинами у крыльев носа. Тонкие реденькие усы соломенного цвета сбивали с толку, мешали точно определить возраст, Наверное, ему было лет пятьдесят – уж слишком дряблой была кожа на шее, – но двигался он, как молодой, на диво проворно и решительно.
– Я пока не буду подниматься в мою комнату, – ответил он на вопрос хозяйки. – Попросите Клатсема – он у вас еще работает? – отлично, пусть распакует мои вещи. Все, что мне нужно на ночь, он найдет в зеленом чемодане. Сумку для бумаг я возьму с собой. И пусть мне в гостиную принесут хереса с горькой настойкой.
По прямой до гостиной было рукой подать. Но по извилистым, плохо освещенным коридорам, петлявшим и перетекавшим друг в друга, щерившимся темными входами, нырявшим в кухонные пролеты – эти катакомбы были столь дороги сердцам обитателей «Россалза», – путь выходил не ближний. Стой кто-то в тени этих альковов или у основания лестницы полуподвального этажа, он несомненно заметил бы, что от мистера Рамбольда, неспешно совершавшего свой переход, веяло крайним довольством: плечи его чуть опустились вниз, как бы мирясь с усталостью, развернутые внутрь руки, точно хозяин о них забыл, слегка покачивались, всегда выступавший подбородок до того ушел вперед, что выглядел робким и беспомощным, а вовсе не дерзким. Незримый свидетель наверняка позавидовал бы мистеру Рамбольду, может, даже озлился на него – до чего у него радужное настроение, сколь безмятежно приемлет он настоящее и будущее.
Официант, чьего лица он не запомнил, принес ему аперитив, и мистер Рамбольд медленно выпил напиток, отбросив церемонии и уперев ноги в перекладину каминной доски – простительная вольность, ибо в комнате больше никого не было. Как же он удивился, когда, слегка прикорнув у камина, вдруг услышал голос, исходивший от стены над его головой. Это был голос культурного человека, может быть, чересчур культурного, чуть хрипловатый, но дикция была четкой, звуки произносились тщательно. Мистер Рамбольд обшарил глазами комнату – убедиться, что никто в нее не вошел, при этом все, произносимое голосом, доходило до его сознания. Голос словно обращался лично к нему, но было в нем что-то от прорицателя, что подразумевало куда более обширную аудиторию. Это был голос человека, который знает: хоть он говорит по обязанности, мистер Рамбольд, однако, слушая его, совместит приятное с полезным.
– …Детский праздник, – объявил голос ровным и нейтральным тоном, ловко балансируя на грани между одобрением и неприязнью, между энтузиазмом и скукой. – Шесть маленьких девочек и шесть маленьких (тут голос еле заметно поднялся, выражая удивление в пределах допустимого) мальчиков. Наша радиостанция пригласила их на чай, и им очень хочется, чтобы и вы отчасти разделили их веселье (на последнем слове голос стал совсем бесстрастным). Надо сказать, что чай они уже попили, и с большим удовольствием, верно, дети? (В ответ на этот главнейший вопрос дети нестройным хором ответили «да».) Жаль, что вы не слышали нашей беседы за столом, впрочем, это и беседой не назовешь, у всех на уме было одно – как следует подкрепиться. – Голос вдруг запищал по-детски: – Но мы можем вам рассказать, что мы ели. Перси, расскажи-ка, что у тебя было в меню?
Писклявый голосок взялся перечислять несметные яства; Рамбольду вспомнились дети, попавшие в колодец с патокой, – наверное, Перси уже заболел или скоро обязательно заболеет. Другие дети расширили этот список.
– Вот видите, – назидательно произнес голос, – не так уж плохо мы себя проявили. Сейчас у нас на очереди крекер, а потом (голос заколебался, словно хотел звучать независимо от слов) – детские игры.
Последовала впечатляющая пауза, нарушил ее девичий голосок, он пробормотал, увещевая:
– Не плачь, Филип, ничего тебе не сделается.
Ворвались какие-то помехи, словно что-то где-то заискрило. Как фейерверк, подумал Рамбольд, а если точнее – так потрескивает разгорающийся костер. Но вот в этот стрекот врезалось журчание голосов:
– Что это у тебя, Алек, что это?
– Пистолет.
– Отдай его мне.
– Не отдам.
– Тогда дай на время.
– А зачем тебе?
– Хочу застрелить Джимми.
Мистер Рамбольд вздрогнул. Что-то его встревожило. Воображение разыгралось, или эту легкую перебранку действительно перекрыл звук щелчка? Снова раздался голос ведущего:
– А сейчас начинаем играть. – Чинный голос, словно извиняясь за прежнюю апатичность, окрасился оттенком предвкушения. – Начнем с нашей любимой игры – «розовый круг».[15]15
Детский хороводный танец.
[Закрыть]
Дети явно оробели, желающих петь поначалу не было. Самые бойкие затягивали, но их хватало на одну-две строчки. Однако баритон ведущего, хоть и приглушенный, но мощный, вел их за собой, и вскоре дети, осмелев, пели уже без посторонней помощи. Их тонкие, чуть дрожащие голоса были очень трогательными. Глаза мистера Рамбольда наполнились слезами. На смену пришли «апельсины и лимоны».[16]16
Детская игра, двое ловят остальных участников, проходящих мимо них, по ходу песенки разговор между собой ведут колокола.
[Закрыть] Эта игра была посложнее и несколько раз срывалась, а уж потом дело пошло. Мистер Рамбольд представил себе, как детей разводят по местам, будто они собирались танцевать старинную кадриль. Кто-то из них явно предпочел бы другую игру, ведь дети – народ своенравный, и хотя от драматических перепадов «апельсинов и лимонов» многие приходили в восторг, кое-кого они просто напугали. Нежеланием последних и объяснялись паузы и затяжки, раздражавшие мистера Рамбольда, сам он в детстве эту игру обожал. И когда, притопывая ножками, дети монотонно замурлыкали знакомый мотив, он откинулся на спинку кресла и мечтательно прикрыл глаза. Он внимательно слушал – когда же начнется последнее аччелерандо, за которым неизбежно наступает развязка? А пролог знай себе тянулся, словно дети жаждали продлить безоблачную и веселую прогулку – когда им не угрожает опасность – как можно дольше, ибо знали, что великий колокол церкви Боу все равно безжалостно прервет ее, ничего не желая признавать. Колокола Олд-Бейли требовали ответа на свой вопрос; колокола Шордитча отвечали со свойственной им дерзостью; колокола Степни вопрошали с нескрываемой иронией – и вдруг, прежде чем великий колокол Боу сказал свое весомое слово, чувства мистера Рамбольда странным образом изменились. Почему игра, такая радостная и солнечная, не может продолжаться? Почему неизбежен роковой конец? К черту час расплаты; пусть колокола заходятся в праздничном перезвоне, пусть никогда не возвещают приход Страшного суда. Но игра, невзирая на щепетильность мистера Рамбольда, шла своим чередом.
Повеселились – извольте платить по счетам.
Вот и свеча, чтобы путь осветить,
Вот и топор, чтоб тебя зарубить!
Трах, трах, трах…
Раздался детский вскрик, потом наступила тишина.
Мистер Рамбольд совсем огорчился; велико было его облегчение, когда ведущий – дети еще несколько раз с неохотой сыграли в «апельсины и лимоны» – объявил:
– А теперь будем играть в другую игру: «По орехи в мае мы пошли».
Ну, тут, по крайней мере, нет ничего зловещего. Прекрасная сельская забава, в одной очаровательной ботанической неточности – орехи в мае! – вся прелесть и зимы, и весны, и осени. Соседство орехов и мая – какая здесь жажда подняться над обстоятельствами! Какой вызов причинно-следственным связям! И какое торжество совпадения! Ведь причина и следствие обычно против нас, история колоколов Олд-Бейли из песенки – явное тому подтверждение; а совпадение всегда на нашей стороне, оно учит нас: провести судьбу и два раза войти в одну реку можно! Рука совпадения поистине всемогуща! Схватиться бы за нее и не отпускать!