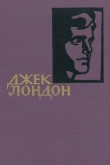Текст книги "Том 3. Рассказы. Воспоминания. Пьесы"
Автор книги: Леонид Пантелеев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Две лягушки*
Сказка
Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная веселая, а другая была ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня. Про нее даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась.
Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.

И вот однажды ночью пошли они погулять.
Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.
Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.
И стали тонуть.
А тонуть им, конечно, не хочется.
Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.
Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает:
«Все равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться. Только нервы даром трепать. Уж лучше я сразу утону».
Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула.
А вторая лягушка – та была не такая. Та думает:
«Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».
Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывешь. Горшок узенький, стенки скользкие, – не вылезти лягушке из сметаны.
Но все-таки она не сдается, не унывает.
«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая – значит, надо жить. А там – что будет».
И вот – из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не сдается. Знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает:
«Нет. Не сдамся. Шалишь, лягушачья смерть…»
И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла.
«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?»
Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила.
«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула».
Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес.
А вторая лягушка осталась лежать в горшке.
И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.
Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти…
Рассказы и воспоминания
Живые памятники*
В самые страшные дни
Помню, как смеялись мы в Ленинграде, когда в самую лютую пору блокады в адрес обкома одного из ленинградских профсоюзов пришел телеграфный запрос из Куйбышева: «Сообщите результаты лыжного кросса количество участников».
Тот, кто не пережил ленинградской осады, может быть, и не поймет, в чем соль этого анекдота.
Изнуренные голодом ленинградцы находили в себе достаточно силы, чтобы посмеяться над человеческой глупостью, но сил, чтобы заниматься спортом, у них не было.
Город был отрезан от Большой земли, продовольствие доставлялось в Ленинград на самолетах. Каждый грамм был рассчитан, потому что снаряды и другие боеприпасы доставлялись тем же способом. В эти дни спорт в Ленинграде был недоступной роскошью – во всяком случае, многим из нас так казалось. Лозунг: «Все силы па разгром врага!» – звучал в Ленинграде буквально., «Все силы» – это и значило: все силы. До последнего вздоха.
В феврале 1942 года случай привел меня на одну из ленинградских спортивных баз. Тогда это была «бывшая спортбаза». Действительно, полное запустение царило в этом некогда оживленном и богато оборудованном спортивном городке. Двери были распахнуты настежь, окна без стекол, ветер гулял, где ему вздумается. Лыжи, коньки, весла, гантели, штанги, учебные гранаты – все это валялось без всякого присмотра, как бесполезная и никому не нужная рухлядь.
С удивлением, как нечто совершенно фантастическое, разглядывали мы – я и мои две спутницы, девочки из соседней школы – гипсовую статую дискобола, стоявшую у входа. Помню, одна из девочек сказала:
– Неужели так можно?
Признаться, и я смотрел на эти литые юношеские бицепсы, на этот легкий стремительный взлет юного тела и тоже не очень-то верил, что «так можно».
В городе некому было заниматься спортом. Те, у кого оставались силы, стояли с винтовкой в руках на оборонных рубежах – в Лигове, в Колпине, в Ораниенбауме.
В городе не было ни катков, ни лыжных станций. На стадионах стояли зенитки.
В плавательном бассейне Приморского района полопались трубы, здание превратилось в ледяной замок. В этот бывший бассейн приходили иногда бывшие спортсмены. Там жил старик сторож, которого прозвали папанинцем, хотя папанинцами были, по существу, все ленинградцы.
В крохотной каморке сторожа у раскаленной докрасна времянки «бойцы вспоминали минувшие дни»,
…Ленинград выстоял эту страшную зиму. Самые трудные дни остались позади. Открылась ледяная дорога через Ладожское озеро. Прибавили паек. Люди ожили.
В начале апреля пошел первый трамвай. Это была сенсация. Но, пожалуй, еще большей сенсацией было появление на ленинградских улицах первого велосипедиста. Я думаю, что шар Монголфьеров и аэроплан братьев Райт не вызвали в свое время такого шума и такого восторга толпы, какой выпал на долю этого скромного сухощавого паренька, который солнечным апрельским утром вывел на Кировский проспект свою полугоночную рижскую машину, сел на нее и поехал. Мальчишки бежали за ним с радостными криками. Прохожие останавливались на тротуарах, улыбались, махали шапками.
Не забыть мне и другого впечатления этой весны. Я шел по Каменному острову. И вдруг слышу за высоким забором сочный и удивительно приятный звук: удар ладони по туго надутому кожаному мячу. Никогда никакая музыка не доставляла мне большего наслаждения и не выражала так много, как этот короткий и, казалось бы, не такой уж мелодичный звук. Это были первые ласточки волейбольного поля.
С весны сорок второго года Ленинград оживает, н с этого же времени пробуждается в нашем городе спортивная жизнь.
Впрочем, сказать, что до этого в Ленинграде вовсе не было спорта, было бы неправдой или неполной правдой. Да, казалось, что не было и быть не могло. Потом выяснилось, что могло все-таки.
Даже в самые страшные дни спортивная жизнь в нашем городе теплилась. Может быть, спорт наш дышал на ладан, но все-таки он дышал. А весной он уже стал дышать полной грудью.
Своими силами восстановили ленинградские пловцы первый бассейн – тот самый, от которого не оставалось ничего, кроме «папанинской льдины». Круглые сутки звенели здесь молодые голоса, стучали молотки, ревел и жарко дышал автоген. Тысячи молодых людей – от заслуженных мастеров спорта до начинающих ныряльщиков из ремесленного – отдавали этому делу все время, которое оставалось у них после цеха, школы, аудитории… Летом сорок второго года рабочие Балтийского завода оборудовали на заводском дворе теннисный корт. Правда, играть приходилось ночью, когда стихал ожесточенный артиллерийский обстрел. Ведь надо помнить, что враг стоял у ворот города. Он имел возможность корректировать огонь. Трамвайные остановки, рынки, кинотеатры, катки, стадионы – все это было у него под прицелом. Приходилось хитрить, маневрировать, маскироваться.
Очень часто ленинградцы узнавали о месте и времени состязания за час до начала спортивной встречи. И сколько раз бывало так, что не успеет прозвучать последний судейский свисток и не успеют спортсмены и зрители покинуть стадион, как там уже рвутся вражеские снаряды и спортивное поле превращается в настоящее поле боя…
Нужно ли говорить, что врагам не удалось запугать ленинградских спортсменов. Однажды возродившись, уже ни на один день не замирала в нашем фронтовом городе спортивная жизнь.
В один из январских дней сорок четвертого года, в дни, когда наши войска пошли в генеральное наступление на прорыв блокады, мне опять случилось побывать в тех местах, где расположена спортивная база «Спартак». Та самая база, куда я забрел когда-то, в холодную и голодную зиму 1942 года с двумя ленинградскими школьницами.
Это был очень шумный день – такого шума я не слышал за все время войны, и база, конечно, в этот день не работала. Но это уже не было кладбищем. Все здесь было отстроено, покрашено, приведено в порядок. У входа по-прежнему стоял гипсовый дискобол, за это время он успел превратиться в инвалида – немецкий снаряд оторвал ему левую ногу, но по-прежнему он был очень хорош: легкий, стремительный, пружинисто-гибкий… А в десяти шагах от него, с винтовкой на плече и с гранатой у пояса, прохаживался по дорожке человек, совсем молодой, почти мальчик. Он охранял свою базу, и в поступи его и в осанке было столько горделивого и прекрасного, что один из моих спутников, пожилой офицер-артиллерист, остановился и с улыбкой сказал:
– Посмотрите! Вам не кажется, что этот мальчик в лыжном костюме – живой памятник, имя которому Победитель?
Конечно, сказано это было немножко чересчур высокопарно, но сказано, что называется, к месту. Позже мне довелось познакомиться с этим мальчиком. Все, что он мне рассказал, весьма примечательно и поучительно. Это если и не живой памятник, то, во всяком случае, живая история ленинградского спорта времен блокады.
Володя
Когда я познакомился с ним, ему еще не исполнилось полных девятнадцати лет. А может быть, и исполнилось. Сейчас я не помню. Выглядел он действительно совсем мальчиком.
Довоенная биография его ничем не примечательна. Учился, Увлекался и шахматами, и радио, и спортом, конечно. Был, как полагается, ярым болельщиком, не пропустил ни одного мало-мальски значительного матча, «обожал» поочередно Ильина, Бутусова, Пеку Дементьева. В дошкольные годы гонял с товарищами по двору набитый бумажками тряпичный мяч, потом узнал радость удара по настоящему кожаному мячу, а с шестого класса и до последнего стоял бессменно в воротах школьной команды, заслужив в результате славу лучшего голкипера района… Были и другие увлечения. Бокс. Лыжи. Последнее время – велосипед. (Конечно, машина, которой он владел, была – опять-таки как полагается– сборная: колеса – пензенские, рама и руль – украинские, звонок и фонарик – BSA[1]1
Английская велосипедная фирма.
[Закрыть]).
Весной сорок первого года он перешел в десятый, последний класс. Война застигла его на даче, в Кавголове. Он переживал очередное увлечение: продал в комиссионном приемник, купил за четыреста двадцать рублей старую, полуразбитую лайбу, отремонтировал ее, оснастил самодельным парусом и, переименовав свое судно в яхту, с утра до ночи бороздил на ней бурные воды маленького чухонского озера. На бортах лодки белым по синему было выведено ее название: «Лида». Тайну этого посвящения молодой человек мне открыл, но обнародовать ее я не был уполномочен.
Этим летом в тихом и буколическом Кавголове было против обыкновения очень шумно. Здесь проводили свой очередной учебный сбор лесгафтовцы, студенты Ленинградского института физической культуры. Сначала молодой человек не без зависти поглядывал на быстроходные, шикарно оснащенные гоночные яхты, откуда ему кричали: «Эй, на калоше, бери право руля!», потом даже поссорился с несколькими студентами, потом помирился, а под конец завязалось у него с некоторыми из них даже что-то вроде дружбы.
Студенты проходили обычную летнюю практику, но в воздухе уже пахло порохом, и в этом году занятия были максимально военизированы, сбор проводился под оборонным лозунгом: «Если завтра война – будь сегодня к походу готов!».
Лето поначалу было холодное, пасмурное и дождливое. Наконец наступил первый по-настоящему летний день – воскресенье 22 июня. Оказалось, что это уже и есть «завтра».
Началась война.
Володя вернулся в город. Брат его ушел в ополчение. Пытался и Володя со своим школьным товарищем записаться – их не взяли. Мальчикам пришлось удовольствоваться скромным званием бойцов домовой группы самозащиты. Целыми днями просиживали они на крыше и, нечего греха таить, ждали и дождаться не могли появления первого вражеского самолета.
А потом, когда вражеских самолетов в ленинградском небе стало немножко больше, чем это требовалось-для утоления мальчишеского любопытства, когда начались бомбежки и пожары, отыскалась и для ребят работа: Володя один потушил и обезвредил одиннадцать зажигательных бомб. Нет, в этом не было ничего выдающегося и героического – это было занятие, которым «болели» теперь все ленинградские ребята.
Впрочем, и все дальнейшее в Володиной судьбе тоже очень обыденно – конечно, на нашу, ленинградскую, блокадную мерку.
Немцы стояли у стен города.
Занятия в школах прекратились. Володя с тем же своим школьным товарищем пошел работать на завод медицинского оборудования. Теперь это оборудование стреляло и убивало – завод переменил профиль. Однако блокада уже замкнулась. В городе иссякло топливо. Через полтора месяца завод, как и многие другие предприятия, был законсервирован.
Если можно об этом говорить коротко – все, что выпало на долю каждого из нас, выпало и на Володину долю. Умер от голода отец. Умерла сестренка. Умер товарищ его. И, может быть, самое горькое – умерла Лида.
Тянулась бесконечная черная ленинградская блокадная ночь, холодная и голодная, и не было бы в ней ни проблеска, ни просвета, если бы не вера в победу, которая, кажется, одна согревала и поддерживала изнуренных, обескровленных, потерявших облик человеческий людей…
Человек умирает
Володя уже давно из мальчика превратился в мужчину. Но что это был за мужчина – худой, изможденный, «Кащей», – как подумал он сам, увидев себя случайно в магазинном зеркале. За два месяца он потерял четырнадцать кило. Он получал сто двадцать пять граммов хлеба в день, ел дуранду, студень из сыромятной кожи, столярный клей. От цинги у него распухали попеременно то ноги, то лицо, гноились и кровоточили десны. С утра до ночи и с ночи до утра лежал он, укрытый двумя одеялами, своим пальто и пальто покойного отца. Он чувствовал, что умирает, и мысль эта его уже не пугала, а пугало только то, что это медленное умирание может продлиться еще долго. О том, что происходит за стенами его комнаты, за глухими, забитыми фанерой окнами, он уже не знал. Слышал, как воют вражеские бомбы, как трещат соседние дома и звенят осколки стекол, и ни о чем не думал, а только морщился и закрывал глаза.
Мать держалась дольше других, но в середине января слегла и она. На четвертый день пришел врач, такой же, как и все, бледный и худущий, и сказал, что ничего особенного, самая обыкновенная сердечная слабость на почве общего истощения. Для поддержания деятельности сердца неплохо бы пить крепкий чай.
Хорошо сказано – чай! А где его взять, этот чай?!
У Володи на Петроградской стороне жила тетка. И вот он решился на подвиг: восстал с одра и отправился на Большую Посадскую – разыскивать тетку, чтобы узнать, не найдется ли у нее щепотки чаю.
Это путешествие, которое в прежнее время заняло бы двадцать-тридцать минут, превратилось теперь в настоящую одиссею.
Он шел медленно, не узнавая обезлюдевших улиц, часто останавливался, тяжело дышал. Руки и лицо у него, как никогда раньше, мерзли. Сделав сотню шагов, он присаживался отдохнуть на ступеньку подъезда или заходил в полутемные опустевшие магазины погреться.
Через два с половиной часа он добрался до Петропавловской крепости, в парке у памятника «Стерегущему» присел на скамейку и понял, что дальше идти не может.
Встреча у «Стерегущего»
Он не помнит, как долго он просидел на этой скамейке: может быть, час, может быть, больше… Он был уверен, что это уже конец, что если не суждено ему было умереть дома, в постели, то, значит, он умрет здесь под открытым небом. Так бы, конечно, и случилось, ес «ли бы не добрый гений, который явился к нему в облике высокого и сухопарого парня в стеганом армейском ватнике и выцветших лыжных шароварах.
Этот добрый дух не принес Володе скатерти-самобранки, не накормил его хлебом и мясом; он сделал, пожалуй, гораздо больше…
Поминутно останавливаясь и переводя дыхание, парень брел по парковой дорожке. Мельком взглянув на Володю, он прошел мимо, потом оглянулся, вгляделся и, подойдя к скамейке, назвал мальчика по фамилии.
Володя не узнал его.
– Ты что, уж забыл? Ведь это ты с Кавголове на „Лиде“, с простынкой вместо паруса ходил?
Володя напряг память и узнал молодого человека. Это был один из студентов-лесгафтовцев. Узнать его было трудно – из-под кожаного летчицкого шлема торчал длинный костлявый нос, глаза завалились, лицо потемнело и осунулось.
Присев на скамейку, парень спросил у Володи, где он сейчас работает. Володя ответил, что нигде не работает.
– Учишься?
– Нет.
– А что делаешь?
Володя пожал плечами.
– Спортом-то хоть занимаешься? На лыжах стоять можешь?
– Смеешься? – обиделся Володя. – Я ноги еле таскаю. Пятый день одним клеем питаюсь.
– Клеем! Вот это интересно! А я, ты думаешь, что – бифштексы кушаю?
Володя искоса взглянул на собеседника. Нет, пожалуй, можно было поспорить, что бифштексов он не кушает.
– Ты комсомолец? – спросил студент,
– Комсомолец, – ответил Володя.
– Спортсмен?
– Был, – ответил Володя.
– Так вот что я тебе скажу: стыдно, парень! Очень даже стыдно. Скажите, пожалуйста: „ноги еле таскаю“… Таскаешь еще все-таки? А таскаешь – значит, таскай с пользой!
Володя с удивлением и даже с испугом посмотрел на студента: не спятил ли он?
– Как это – „с пользой“?
– А вот так… Очень просто. Ты же спортсмен. Между прочим, ты знаешь, чем ты обязан спорту? Своей жизнью! Да, да… Не смотри на меня так. Именно жизнью… Дома у тебя что, все живы?
– Отец погиб… и сестренка.
– Ну вот. Скажи, пожалуйста, ты что, лучше их питался?
– Почему лучше?
– А ведь ты жив. Они умерли, а ты – жив. Ты не задумывался, почему это так? Ты не думаешь, что велосипед, лыжи, футбол и даже твоя паршивая лайба помогают тебе сейчас жить и бороться?
– С кем бороться?
– Вот именно – с кем?!
Володя опять посмотрел на студента и вдруг страшно покраснел. Он сам удивился, он уже давно не краснел, ему казалось, что краснеть ему просто нечем– крови не осталось.
Лесгафтовец поднялся.
– Я работаю в городском комитете физкультуры, – сказал он. – Нам до зарезу нужны инструктора-лыжники обучать бойцов всевобуча. Приходи, я возьму тебя.
– Инструктором?
– Да. Запиши адрес.
Володя был уверен, что не пойдет в комитет»
– Ладно, и так запомню, – пробурчал он. Студент попрощался, тряхнул Володину руку и ушел.
А Володя посидел немного, поднялся, размял ноги и заковылял на Большую Посадскую, к тетке.
«Явился по вашему приказанию»
В большой коммунальной квартире он нашел только одну обитаемую комнату. Хозяин ее, – человек неопределенного возраста, обросший густой черной щетиной, лежал, укрывшись шубами и одеялами, на диване. На полу, у его изголовья, лежала раскрытая книга. На дымящейся печке булькало какое-то пахнущее аптекой варево.
Человек этот слабым голосом сообщил Володе, что тетка его еще полтора месяца назад умерла. И вообще – все умерли. В квартире остался он один.
Стоя в дверях, Володя огляделся. Человек был еще не старый. В углу комнаты, под потолком, колесами вверх, висела хорошая дорожная машина.
«Эге, – подумал Володя. – Тоже колесики вертел».
– Послушайте, – проговорил он вдруг неожиданно для самого себя. – Вы чего тут валяетесь, как тюлень? В самом деле, вы же еще сравнительно молодой человек. Стыдно…
– Да? – удивился тот. – А что же ты мне прикажешь делать?
– Ну… как что? Дела много. Вы же, я вижу, физкультурник.
– Ах, вот как? Физкультурой заниматься? Я, братец мой, два дня одну морскую капусту ем.
– Это интересно! – сказал Володя. – А я по-вашему, что – бифштексами питаюсь?
Он вышел из этой опустошенной коммунальной квартиры, спустился с пятого этажа и пошел домой. Голова у него по-прежнему кружилась, в глазах плыли круги, но шел он, как он уверял меня, бодро и до самого Невского не останавливался.
Переходя Невский, он взглянул на Думскую башню. Часы были разбиты взрывной волной, показывали какую-то несусветицу: половину первого, но было еще светло, и Володя подумал, что, пожалуй, и в самом деле еще не так поздно…
Он дошел до Аничкова моста, где когда-то стояли милые клодтовские кони, а теперь оставались лишь следы от чугунных копыт на постаменте, и свернул на Фонтанку.
Городской комитет физкультуры, как и большинство ленинградских учреждений, ютился в ту зиму в нескольких самых маленьких комнатах. Там было и холодно, и темно, и дымно от неисправной буржуйки, но было и еще что-то, что сразу бросилось Володе в глаза. Коротко говоря, это была жизнь, может быть, не такая шумная и полнокровная, какой ей полагается быть, но все-таки жизнь, а не смерть и не умирание…
Володя спросил знакомого лесгафтовца. Тот вышел, удивился, обрадовался.
– Вот это да! – воскликнул он. – Вот это я понимаю: темпы!
Володя покраснел и, чтобы не показать смущения, усмехнулся и, шутливо откозыряв, ответил:
– Явился по вашему приказанию, товарищ начальник!..
Где ты, Володя?
В феврале 1942 года Володя был зачислен в инструкторскую группу, которой руководил тогда заслуженный мастер спорта, рекордсмен Советского Союза по метанию копья Виктор Алексеев. Володя стал «тысячником». Это значит, что он воспитал и обучил не менее тысячи бойцов-лыжников.
Обучая других, он не забывал и о собственной тренировке. В декабре сорок первого года, участвуя в трехкилометровой лыжной гонке, Володя прошел дистанцию за 14 минут 58 секунд, заняв третье место среди лыжников своего спортивного общества. Очень хорошие результаты показал он и в метании ядра, копья и диска, – все эти способности обнаружились в нем неожиданно уже во время войны и блокады.
Откуда же он взял силы для всего этого?
Может быть, он стал больше есть? Да, честно говоря, чуть-чуть больше. Он получал теперь не сто двадцать пять, а двести пятьдесят граммов хлеба в день. Потом его зачислили на воинское довольствие, которое тоже не было у нас в Ленинграде таким уж шикарным.
Вот, собственно, и вся история этого ленинградского мальчика. Большего я не знаю и даже не могу, к сожалению, предпринять никаких шагов, чтобы выяснить дальнейшую Володину судьбу, – по непростительной оплошности я не записал тогда его фамилии.
Во время войны я писал о Володе в одной не очень распространенной газете – он не откликнулся. Если он жив и вспомнит нашу встречу и наш тогдашний разговор, может быть откликнется сейчас?
Напомню ему, что было это в конце января 1944 года, в очень яркий, солнечный зимний день. Мы сидели с ним на каких-то бревнах или щитах на набережной Большой Невки, недалеко от здания Сельскохозяйственного института. Тогда там стояла какая-то воинская часть, солдаты выбивали на снегу свои матрацы.
Да, я понимаю, что впереди было еще полтора года войны, и всякое могло случиться. Но как-то не верится, что этот человек, о котором мой знакомый раненый офицер сказал – «живой памятник», этот мальчик, который был приговорен к смерти, умирал и не умер, что он погиб и что его нет!
Не хочу и не могу поверить в это.
Где ты, Володя? Отзовись, подай голос!..