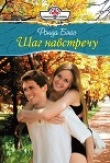Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
4
В десять утра звонит Андрей Семеныч. Это он как бы закрепляет нормализацию отношений. Сообщает мне, что вспомнил очень интересный эпизод кёнигсбергской операции, который почему-то забыл, а теперь даже название фронтовой газеты вспомнил, где о том писалось. Я по телефону минут двадцать записываю его голос на магнитофон, зажав ладонями телефонную трубку и микрофон. Потом Андрей Семеныч стучит пальцем по трубке, я благодарю его и назначаю очередную встречу. Назначаю ее в моей квартире, и это настораживает Андрея Семеныча, он робко зондирует, нет ли в том моего нежелания появляться у него дома; я успокаиваю его, здесь под рукой все материалы, и так мне удобней и прочее, но мне действительно не хочется ехать к нему, потому что знаю, жена его тоже будет извиняться, а извиняться ей, в сущности, не в чем. Он еще некоторое время говорит и никак не может закончить, словно боится первым положить трубку. Я помогаю ему, говорю, что мне нужно работать, и прощаюсь.
Нужно работать. Легко сказать! Перематываю пленку, еще раз прослушиваю записи – и понимаю, теперь куда труднее будет мне корпеть над своей халтурой, потому что вчера неосторожно пообещал не халтурить, сделать настоящую книжку. Теперь уже все написанное следует пересматривать, да, чего доброго, переделывать!
Я пытаюсь настроиться на работу – убираю постель, принимаю душ, пью кофе и говорю вслух: «Поработаем! Поработаем!» Но когда я уже неотвратимо один на один с работой, – признаюсь себе, что работать сегодня не могу. Пересчитываю деньги, свой трудовой аванс, вычисляю истраченные, прикидываю, смогу ли при желании вернуть аванс в редакцию. Мне это очень хочется сделать. И уехать в город Урюпинск, в чудесный мирок отца Василия! Это было бы подлинно македонским решением – как распутать узел моих проблем.
Еще вчера это можно было сделать. И смешно сказать, связывает меня с Москвой нынче всего лишь поспешное обещание превратить мою халтуру в добросовестный мемориал для потомков Андрея Семеныча.
Попытаюсь сегодня написать главу о победе: мой герой в госпитале узнает об окончании войны. Всё это уже тысячекратно описано, обэкранено, и я обязан найти новый нюанс, оттенок, не придумать его, а найти… Я хочу это пережить! Но сначала я должен определить свое отношение к войне, чем она была бы для меня, если б я жил в то время. Но если бы я жил тогда, что мог я знать обо всем, что было раньше – лагеря, пытки, измордованное крестьянство и очумелые от власти хамы… Нет, чтобы быть героем, как мой Андрей Семеныч, я должен был ничего этого не знать, ничего не понимать в происходящем. Или еще один вариант, в порядке исключения, – я мог что-то знать и даже иметь к этому свое отношение, но война могла зародить во мне надежду, что мы потом разберемся во всем и всем воздадим по заслугам. Своеобразный кретинизм… Есть еще один, совсем частный случай – это если бы я осознал себя личностью именно на войне. Как бы воспринял я победу и возвращение к строительству все того же социализма?
Но при чем здесь мой конкретнейший Андрей Семеныч, и при чем здесь книжка, заказанная официальным издательством? Никаких вариантов мне не остается. А что остается? Радость героя по поводу великой победы, скорбь о погибших! Это, конечно, имело место, и в массовом количестве, но почему-то и самый крепкий кофе не вдохновляет меня. Я же, в конце концов, не множительный аппарат, не однозвучное эхо партийных установок, я личность с запросами. Мне и калым подай, и чтоб совестью не тревожиться, ведь есть она у меня, пусть вся в ущербинках, как лицо после оспы, но есть.
Я набираю номер Женьки Полуэктова, слышу в трубке его солидный голос, завидую его солидности и мямлю:
– Слушай, Жень, а если я вообще пошлю всю эту халтуру и верну аванс, это будет очень неприлично?
Женька долго кашляет.
– Старик, – говорит он голосом разъяренного дипломата, – если бы кто-нибудь видел, как я вожусь с тобой, меня приняли бы за гомосексуалиста. У тебя что, период духовного климакса?
– Как раз наоборот, – у меня период духовного возрождения.
– Ну, так возрождался бы! – рычит Женька. – Я тут при чем?
Я тяжело вздыхаю – и достаточно громко, чтобы Женька услышал и оценил, как мне тяжело.
– А и правда, ради чего ты со мной возишься?
– Ради чего? – Кажется, он скрипит зубами, а, может, просто жвачку жует. – Ради того, чтобы твои планы осуществились полностью.
Он подчеркивает слово «полностью», и я глупо хихикаю.
– Ты хочешь жениться на Ирине?
– Хочу! – отвечает он лаконично.
– Разве только во мне дело? А ее мнение тебя не интересует?
– Слушай, старик, мы уже и так сказали много лишнего…
Но у меня зуд, я перебиваю его:
– Между прочим, Ирина ждет ребенка, и заметь, не от меня, но ведь и не от тебя.
Я краснею, я чувствую, что совершаю подлость.
– Ты что говоришь! – Женька разом охрип.
– Знаешь, я, кажется, ляпнул лишнее. Прошу, будь умницей, забудь. Она мне так сказала. Может быть, просто придумала. У нас было объяснение…
– Стоп, старик! – Женька некоторое время молчит, и затем отключается.
Мне противно, мне хочется расколотить трубку. И откуда в нас, интеллигентах, эта неконтролируемая склонность к подлости? Господи, как противно! Надо звонить к Ирине и предупредить ее: кто знает, что выкинет Женька. Деловой человек, он нацелился на Ирину, как на партнершу в жизни, а я подкинул ему этакий пунктик в программу, и как он его переживет? Меня раздражает эта Женькина нацеленность на Ирину. Он, конечно, гигант, но что касается чувств, то у него от рождения отсутствует аппарат, заведующий человеческими чувствами. У него только рецепторы, и вся его жизнь – это составление забавного кроссворда и разгадывание его. Кроссворд еще называется крестословицей, а у Женьки – крестоделица! Ирина для него подходящий инструмент жизнеустройства…
Я браню Женьку, я прохаживаюсь на его счет язвительными умозаключениями, и понятно, самого себя бранить скучно и неблагодарно… и к тому же я не решаюсь звонить Ирине…
Звонок. Я отскакиваю от телефона. Это, конечно, Женька! До него, наконец, что-то дошло, и он намерен выяснить… Я беру трубку – и облегченно вздыхаю. Это Леночка Худова, я узнаю ее по всхлипам, целую минуту одни всхлипы, я терпеливо жду.
– Генночка, – промямливает она, наконец, членораздельно, – женись на мне, а? Я буду хорошей женой.
– Договорились! Прямо сейчас? Но мне некогда. Ну, что случилось? Только без мокроты, трубка ржавеет.
Отчасти я даже рад ее звонку. Леночка всхлипывает и швыркает носом.
– Ну, докладывай.
– Можно, я к тебе приеду? Я не могу по телефону.
А что? Пусть приезжает. Мне нужно убить время до вечера, когда явится эта женщина по имени Валентина, а, может быть, даже… Прекрасная мысль!
Я задержу Леночку и включу ее в компанию. Все упростится, Леночка умеет создавать непринужденную обстановку, она вся такая домашняя, комнатная, уютная, мы споем с ней на два голоса старинный романс.
Я растолковываю, как лучше добираться до меня, она обещает взять такси.
Мне сейчас ни о чем думать не хочется, и я думаю о Леночке, она принадлежит к тем людям, которых не принимаешь всерьез. В сравнении с Ириной она одноклеточное существо, очень милое и доброе, но одноклеточное. Я представляю себе ее курносую мордашку с пуговичными глазками и сравниваю ее с Ириной, у которой каждая черточка, движение глаз, каждый жест – выражают путаный мир чувств, упрятанный от посторонних. Ирина бывает очаровательно женственной, но только для кого хочет быть такой, меня удивляла ее способность целесообразно блекнуть и в одно мгновение расцветать, преображаться на глазах и подносить себя только одному человеку, для всех прочих оставаясь под шапкой-невидимкой. Как ни раздражала меня подчас ее деловитость, у нее всегда хватало ума отключаться от всего внешнего, иначе говоря, она умела «принадлежать»…
Вот я опять думаю об Ирине, и опять мне неспокойно. Есть Тося, которая больше их всех, ее невозможно анализировать, о ней можно только мечтать, ее нужно видеть и чувствовать, она – сама жизнь.
Мне кажется, я малость запутался, неопределенность раздражает меня, я сам себя раздражаю. Мне, например, противной стала привычка стучать пальцем по часам, и какие-то выражения собственного лица вызывают брезгливость, и даже почерк мой стал мне казаться вычурно пошлым. Это что-то новое в моем самочувствовании, и это пугает…
Звонок в дверь, я открываю, и на грудь мне падает Леночка Худова. Удивительно, как она умеет включать слезы, ведь в такси, небось, не рыдала.
– Помоги, Генночка! – пищит Леночка мне в ухо, орошая его слезами.
– Пойдем в комнату.
Я усаживаю ее в кресло, беру бумажную салфетку и прикладываю к ее щекам. Она спохватывается, достает из кармана брюк платочек и наполняет мою комнату запахами тонких духов. Через минуту она улыбается, глядя, как я с серьезным видом выжимаю салфетку в пепельницу.
– Ну, тебя, Генка! – она надувает губы. – Моя жизнь на волоске, а тебе все шуточки.
Я падаю на кушетку и говорю деловито:
– Рассказывай.
– Ну, чего рассказывать-то? Жуков совсем осатанел. Папа грозится выследить меня, я же где-то ночую.
– Где же мы ночуем? – спрашиваю с любопытством.
– Перестань! Жуков, наверно, бросит меня. Генночка, как мне его оженить, а? Ты вот женишься, как это Ирка сделала, расскажи.
– Очень просто, – отвечаю я с ленцой. – Нужен третий лишний.
Она хлопает длинными ресницами, потом говорит разочарованно:
– Нет, это я уже пробовала. Я ему говорю, что мне один режиссер с Мосфильма предложение сделал, а он говорит: «Ну и прекрасно, валяй».
Я поднимаюсь с кушетки, подхожу к ней, наклоняюсь.
– Дурочка. Третий, да не тот. Нужен маленький-маленький третий, чуть побольше моей ладошки и чуть поменьше твоей мордашки.
Она снова хлопает ресницами. В ее головке совершается какой-то мыслительный процесс, глаза расширяются, губы расплываются в улыбке.
– Ирка беременна! – восклицает она почему-то радостно.
Теперь я моргаю. А ведь и правда, и если допустить, что ребенок мой, то…
– Ирина здесь ни при чем, – отвечаю поспешно. – Но для тебя это вернейшее средство припечатать твоего Жукова к паспорту.
Леночка погружается в размышления.
– А если это не поможет, что со мной будет? – со спокойной задумчивостью говорит она, а глаза тем не менее мокры, и я снова лезу в стол за салфетками. Но, кажется, она пришла к какому-то соображению или решила отдохнуть от страданий.
– Как профессор живешь, – кивает она на машинку и россыпи листов и копирки. Она встает, подходит к стеллажам, пробегает пальцем по корешкам книг, как по клавиатуре.
– Это кто? – тычет она пальцем в портрет Солженицына. Я отвечаю.
– Вот он какой! – удивленно щурится Леночка. – Я по-другому его представляла. А он и правда некрасивый. Злой к тому же.
Я не намерен это обсуждать с Леночкой и пытаюсь переключить ее внимание, но она стоит и щурится.
– Мой папа очень плохо говорит о нем.
– Твой папа лично знавал его? – спрашиваю я насмешливо.
Леночка утвердительно кивает.
– Кто же он, твой папа? – спрашиваю не без любопытства.
Леночка колеблется, кидает последний сердитый взгляд на портрет и отворачивается.
– Папка мой подполковник, – говорит она с непонятной ревностью и даже вызовом. – Он на Лубянке работает. Ты ведь не трепач, правда?
Я по-новому смотрю на Леночку Худову. Оказывается она, такая безобидная, – случайный выброс в нашу среду из того мира, который мы едва ли воспринимаем как мир людей, скорее как мир функций. К примеру, с детства знакомое – «железный Феликс» – я понимал как нечто железно-функциональное и менее всего личностное. Конечно, Леночка – своего рода выродок, если оказалась в нашем кругу. Я смотрю на нее и молчу. Она по-своему понимает мое молчание и говорит не без обиды:
– Этот вот – (кивок на портрет) – и всякие другие чего только не наговорили, а папка мой честный и справедливый, а я его – (кивок) – и читать не буду.
Пора мне что-то сказать, но я, как тупица, не могу оторвать глаз от ее лица. Леночка начинает краснеть и, кажется, обижается.
– Папка говорит, что если им волю дать, то все развалится, а им и нужно, чтобы все развалилось. А китайцы сожрут все по частям. Что, не так?
Не могу я говорить на такие темы с Леночкой Худовой, имеющей главной своей целью оженить на себе посредственного режиссера телестудии. Но Леночке и самой эта тема уже прискучила.
– А мне все это надоело. Я хочу просто жить. Не-на-ви-жу политику!
Я верю ей, я верю, что она не-на-ви-дит даже ту «политику», какую отстаивает ее «папка».
Мне приходит в голову интересный вопрос.
– За что ты любишь Жукова? – Она удивленно смотрит на меня. – Он талантлив?
Она поводит глазами туда-сюда…
– Кажется, не очень…
– Тогда за что? Может, ты свою любовь придумала?
– Может быть, – соглашается она спокойно. – Но я хочу выйти за него, и только за него. Думаешь, других не было?
Бедный папа-подполковник! Что ему какой-то второстепенный режиссеришка, да еще с сомнительными связями, вроде меня, или Юры-поэта, или Женьки?
– А Жуков знает о твоей родословной?
Она мотает головой.
– Прекрасно! Считай, что ты его жена. – Я отдаю себе отчет, что не одну Леночку хочу осчастливить, но и не известному мне подполковнику имею тайную мысль сделать небольшую гадость.
Леночка вся трепещет. Она верит мне. Она на меня надеется.
– Любезность за любезность, – говорю я. – Сегодня у меня трудное деловое свидание. Составь мне компанию.
Она кидается мне на шею. Надо полагать, целоваться – ее главная и единственная профессия.
– У нас еще четыре часа свободных. Махнем в кино? Или посидим в ресторане?
Леночка сияет, но у нее своя идея.
– Поедем в Манеж!
Я строю гримасу. Манеж сейчас оккупирован моднейшим сверхсоциальным художником. Ни толкаться в километровой очереди, ни глядеть на его программные полотна у меня нет желания.
– Без очереди, – обещает Леночка, и я ощущаю за ее спиной могущественный мир ее папаши, попутно вспоминаю, что не однажды уже Леночка устраивала подобные блатные проходы, и никто ведь не подозревал об источнике ее возможностей. Ну, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Это, разумеется, не в адрес Леночки, а в адрес источника.
Однако Жуков, если будет не дурак, станет, глядишь, через годик-другой шефом телевидения. Ах, самодовольный тупица не подозревает, какой козырь прет ему в руки. Поможем ему прозреть!
Манеж оцеплен плотной очередью в несколько рядов. Леночка уверенно тащит меня к служебному входу, где уже выстроилась своя очередь блатников. Сквозь них моя подруга пробивается беспрепятственно, что-то показывает дежурному милиционеру, защелкивает сумочку и вталкивает меня в дверь.
Я знаю этого художника. Он оскорбляет меня. Я не знаток живописи, но всякого рода декларации воспринимаю болезненно, и оно понятно, я же интеллигент, я хочу сам составить для себя систему ценностей, в том числе и художественных. А он хватает меня за шиворот и колотит физиономией об свои холсты, он не оставляет мне возможности посомневаться, я, по его мнению, щенок, я должен, узрев его откровения, немедля браться за меч. Но мне этого не нужно. Мне нужно такое искусство, которое оставляет меня свободным от всяких обязательств, которое открывает горизонты моей собственной фантазии. Я смотрю, к примеру, на размазанные по холсту сопли авангардиста, и что хочу, то и воображаю себе, – и мне хорошо и авангардисту приятно. Нужно уважать друг друга…
Леночка щиплет меня за локоть. Она обмирает перед могучим полотном, на котором бешеными красками вопиет ущемленная социальность. Что ж, я, может быть, и согласился бы с автором, сделай он так, будто не он мне, а я ему подсказываю кричащие истины, но нет, он сует мне кулак под нос и понимай так – кто не с ним, тот мразь и подонок.
Я осматриваюсь и вижу на интеллигентных лицах то же самое чувство оскорбления насилием. Оскорбленные зрители бранят художника, уничтожают его профессиональными комментариями, и я знаю, они выйдут отсюда с прочной ненавистью к автору. А так ему и надо, коли не научился уважать самолюбие интеллектуала, имел глупость апеллировать к толпе, то есть плюнуть на нас. Несчастный, он еще не знает, как умеет мстить интеллигент, стирать в порошок, низводить до нуля.
Леночка опять дергает меня за локоть.
– Ну ты посмотри, какая прелесть!
– А папочка твой с тобой согласился бы? – спрашиваю не без ехидства. Леночка жмурится.
– Всё равно для меня он самый лучший! – говорит она с вызовом. – Он за всю жизнь ни на меня, ни на маму голоса не повысил.
«Товарищ подполковник Худов – прекрасный семьянин! – комментирую про себя. – А уж морально устойчив, как мавзолей!» Но обижать Леночку я не хочу, и мне уже порядком надоело толкаться по лабиринту манежных перегородок, в глазах рябит от красок и от физиономий, а Леночка тянет меня куда-то в самую гущу, ну ясно, в центре зала сам полузадушенный, полузадавленный художник раздает автографы. Он скромно улыбчив, но я не верю этой эстрадной скромности, наглым рыком трибуна он орет со всех своих полотен, тычет перстом в глаза; я смотрю на его холеное лицо и уверяюсь окончательно, что когда б его воля, потаскал бы он за шиворот всю эту публику, потому что знает ей цену, знает, что возносящие его и поносящие – всего лишь рабы мгновения, а где конец этому мгновению? Да за пределами этих стен! Что вынесет отсюда моя спутница, дочка подполковника КГБ? Я очень бы хотел заглянуть в чужие черепные коробки, я бы узнал что-то весьма ценное – о будущем. Но я надеюсь, что никто здесь, и сам художник, не имеют шансов на сотворение будущего. Если бы, к примеру, мне дано было знать, что вот этот, в данную минуту стоящий против меня, вполне респектабельный современный молодой человек имеет определенные планы на общее будущее, уж я бы постарался помешать ему! А чем вся эта толпа, и каждый в отдельности, лучше меня? Убей того, кто скажет, что знает, как надо! Или, по меньшей мере, не верь ему! Потому что, если ты ему не поверишь, то ведь другой может поверить. Вот она – самая главная истина, что выработало наше сознание за полтора десятка лет инакомыслия. Плохо ли, хорошо ли, но мы еще живем, и мы имеем шанс начать новую жизнь с понедельника, а ведь и этой последней возможности нас может лишить какой-нибудь очередной энтузиаст. Вот этот художник, к примеру. И потому – анафема ему!
Да! Да! Вот, пожалуйста, зал полон моих единомышленников. Леночка держит в руках книгу отзывов и возмущается, едва не со слезами на глазах.
– Ну, что за хамы! Ты посмотри, Гена, что они пишут.
Я вижу крупными буквами: «Халтура! Позор Манежа! Посредственность!».
Леночка выхватывает ручку и пишет нервно: «Великий! Великий!» Она не одиночка, книга испещрена записями столь же наивных восторженных душ, и мне их жаль.
Снова мелькает лицо художника, и его выражение наводит меня на мысль, что хвалители и хулители колотят по шляпке одного и того же гвоздя, направленного… самим автором. Ну что ж, я все равно в стороне, я не приложу руки, да здравствуют неделающие!
Леночка разочарованно смотрит на меня. Всем своим видом я показываю, как устал от искусства, жажду на свежий воздух.
– Если хочешь, уйдем, – говорит она с надеждой, что я проявлю деликатность к ее чувствам. Но я не проявляю.
– Уйдем.
У входа сталкиваемся с четой Скурихиных. Марья, вместо приветствия, делает большие глаза, в них можно прочесть: где еще могут встретиться интеллигентные люди, как не на художественной выставке!
– Вы уже? – спрашивает Олег, будто мы час назад расстались.
– Мы уже, – отвечаю я, стараясь не высказывать мнений. Но следует вопрос:
– Ну как?
Я выдвигаю вперед Леночку, с ее все еще расширенными зрачками.
– Генночка, – стонет она, – у нас же еще есть время, можно, я еще похожу с ними, полчасика. А ты подожди, ладно?
– Только полчасика, – соглашаюсь. – Нам опаздывать нельзя.
Она вся как взъерошенный воробей.
– Пойдемте, я покажу, с чего нужно начинать.
Я выхожу сквозь ряды милиционеров и полной грудью вдыхаю душный и смрадный воздух города.
Я выбит из колеи. Я взвинчен. Я ненавижу этого художника, на чью мазню пялился больше часа. Я припоминаю его лицо, оно мне омерзительно, мне хочется вернуться и сказать ему какую-нибудь гадость. Увы, я не могу вернуться без помощи дочки подполковника Лубянки. Однако прикидываю в уме, что бы я мог сказать этому маляру. Я бы сказал ему, что он горлопан в живописи, что нет у него никакой такой идеи, о которой он вопиет разнузданными красками, что, наконец, мне все это давно известно – и зарезанные царевичи, и развороченные храмы. Да веришь ли ты сам, сукин сын, в тайну храмов? А если не веришь, какое право имеешь выводить меня из себя! Да знаешь ли ты, пижон в заграничном тряпье, что я уже давно стесняюсь своей страсти и к песне русской и к мордам рязанским, что я уже гомо эсперантос. А не закричишь ли ты сам на эсперанто, когда твои поклонники стащут с тебя французский костюм, обрядят тебя в красную рубаху, выволокут тебя из твоей комфортабельной квартиры, да затащат в намалеванный тобою храм и потребуют усердия в совместной тысяче поклонов? Нет, чёрт побери, ты надеешься, что ничего такого не случится, все это одни прокламации…
На меня уже пялятся вокруг, потому что я размахиваю руками и гримасничаю, шевеля губами. Бог с ним, с художником! Вот сейчас здесь, на Манежной площади, чего я более всего хочу? Мне радостно, потому что в эту минуту я хочу оказаться в доме отца Василия или у той опрокинутой лодки на берегу озера, и чтобы была ночь и молодая луна. А за руку держать Тосю, и чтоб немного хмельно было, а из глаз чтоб слезы просились!
Я оглядываюсь по сторонам, вижу Кремль, прищуриваюсь, чтобы из взгляда ушло все, что чуждо этим стенам и башням, и вот это уже почти картинка, вроде тех, что в Манеже, и отец Василий со своей дочкой вполне вписываются в новый пейзаж, что родился в моем прищуренном взгляде на Кремль. Более того, только с ними, неуместными, смешными и милыми, этот пейзаж получает завершенность, потому что они одноприродны. А я, вписываюсь ли я туда же? Ей-Богу, вписываюсь, если опять же за руку с Тосей.
Я открываю глаза широко, оглядываю все вокруг, шипящее, гремящее, воняющее, и говорю всему этому: «Сгинь! Сгинь немедленно! Господи, если Ты есть, дай мне эту минуту чуда! Полминуты! Я знаю, что не заслужил чуда, но прошу Тебя, дай, ведь я над пропастью, слева машины, справа машины, а над головой кремлевские звезды, и некуда сделать шага, чтобы он не оказался решающим. Помоги же мне только в одном шаге!»
– Вам плохо?
Да, мне очень плохо, родная милиция!
– Там, – машу рукой на Манеж, – очень душно.
Милиционер – моих лет или чуть моложе – опытным взглядом оценивает мой возраст и социальное положение и переходит на доверительное «ты».
– Скажи, сколько народу, а? Уже вторую неделю вот так прут. Что, сильный художник, да?
– Сходи, – отвечаю, – посмотри.
– Сходим. Завтра тут наряд будет. Потолкаемся. Ну, все в порядке?
Это о моем состоянии. Я благодарен ему. Он человек, и я человек.
– Порядок.
Ко мне уже спешит Леночка, и мы под благословляющим взглядом милиции топаем от Манежа к метро. Мы уже опаздываем, и когда я врываюсь в квартиру, отец тут же показывается из своей комнаты. Он при полном параде, но ему не очень-то удается сохранить в лице обычное спокойствие, а увидев Леночку, он встревоженно хмурится. Я оставляю спутницу у двери, беру отца за локоть, отвожу в кухню.
– Это твоя новая?..
– Не новая и не моя, но мне кажется, она упростит ситуацию, впрочем, если тебе не угодно…
– Ну, почему же…
– Не волнуйся, – успокаиваю его, – в любой момент ее можно отправить, это вполне в нашем стиле.
– Ну, если в стиле, – отец улыбается. – Может быть, так будет лучше.
– А… – как бы это спросить? – Валентина… уже здесь? Как ее отчество?
– Николаевна, – буркает отец.
Бедный! Впервые я его вижу в таком несолидном положении, он нервничает, для него это противоестественно.
– Ты, пожалуйста, – говорит он просительно, – будь снисходителен и терпим, ты ведь можешь.
Господи, отец просит меня! Да чего я не сделаю для него, я сто лет мечтал услышать просьбу из его уст.
В отцовскую комнату мы входим все трое, и я испытываю удовлетворение: женщина моего отца очень мила и молода, и когда жмутся руки и произносятся имена, она держится просто и естественно. А я боялся увидеть ученую мымру. Когда усаживаемся за накрытый стол, и я оказываюсь против нее, только тут замечаю, что Валентина чем-то похожа на мою мать, то есть она того же типа, хотя, в чем это выражается, определить сложно. Я гляжу на Валентину, улыбаюсь дружески и думаю, что отец, возможно, еще любит мою мать, и именно этим объясним теперешний выбор. Леночка же прелесть, уже щебечет на равных и с отцом, и с Валентиной, – конечно же, о выставке и о художнике. Валентина осторожна в оценках, а Леночка, напротив, размашиста, и я с удовольствием наблюдаю, как она накидывается на отцовскую избранницу. У некоторых женщин есть такой счастливый дар – говорить обо всем и со всеми на равных, и не казаться при том глупой, то есть не выходить из пределов женского очарования. И, странным образом, разговор получается серьезный, почти профессиональный.
Отец сдержан, он уже спокоен, все происходит наилучшим образом. И я решаюсь немного покачать лодочку образовавшегося уюта.
– А не кажется ли вам, – говорю я, потягивая мускат, – что мы совершенно излишне перегружены знаниями? Вот я, например, ведь я уйму чего знаю, могу назвать имена всех членов конвента времен Робеспьера, всех исполнителей роли Бориса Годунова, все полотна раннего Ван Гога и позднего Сезанна, в моей голове тысячи имен, названий, чисел – хотите знать, сколько световых лет до шестьдесят шестой звезды Лебедя? Или в каком году была битва при Кресси?
– В каком? – ловит меня Леночка.
Я только руками развожу, дескать, разве меня поймаешь на таких пустяках.
– И вообще я сам не помню, сколько помню обо всем. А зачем? Это же бессмысленность. Знания – самообман.
– Ну, как вы можете так говорить, – вскидывается Валентина, и я рад, клюнула. – Вы решительно не правы!
Валентина явно малорусских кровей, у нее этакие украинские брови-дужки и овал лица, но глаза светлые, какие бывают у казачек донских и кубанских. Если она и старше меня, то не намного. Впрочем, с женским возрастом я не раз попадал впросак. А что она возразить хочет, я знаю. Тема сама по себе с бородой.
– Феномены культуры такие же реальности, как мы с вами. Они имеют самостоятельную, непреходящую ценность, и человек имеет право жить в мире этих феноменов и считать себя не только полноценным, но и вообще…
– Даже слегка повыше прочих? – вклиниваюсь я. Валентина теряется на мгновение, чуть краснеет, как девушка, и Леночка спешит ей на помощь:
– Ну и что? Если ценности культуры являются высшими в мире, то культурный человек – это больше, чем просто человек. Не выношу ханжества. Простые советские люди! Пусть только кто-нибудь назовет меня так.
– Леночка, успокойся, ты не простой советский человек.
Она не обращает внимания.
– Все политикой занимаются, сегодня одно, завтра другое, а вот Бах и Рафаэль – это на все времена, и я больше скажу… – Леночка сияет, я такой ее не видывал. – …все человечество существует для Рафаэля. И для тех, кто его понимает, потому все остальное просто брехня.
– Несколько радикально, – мягко комментирует Валентина.
Отец незаметно толкает меня, и мы с ним выходим на кухню варить кофе.
– Валентина, – спрашиваю я, – она кто?
– Кандидат философских наук.
– А если не секрет, на чем она закандидатилась?
– По-моему, ее тема – о главном звене в цепи исторических событий, есть такой момент в марксизме.
В его голосе так тонка ирония, что ее невозможно вычленить, но и не заметить нельзя.
– И что же оказалось тем звеном в ее диссертации?
– По тем временам это называлось «плюс химизация».
– Понятно, – я ухмыляюсь. – Развить эту тему до докторской помешало диалектическое колебание курса партии.
В ответ лишь пожатие плеч, в котором все ответы, выбирай, какой хочешь.
– Тебя интересует мое мнение? – спрашиваю с некоторой наглостью, потому что знаю – интересует, и еще как!
Опять пожатие плеч, на этот раз улавливаю нервозность.
– По-моему, она славная женщина и, ей-Богу, красивая.
Отец стреляет в меня глазами. Выдержка – одна сотая секунды, и в эту сотую секунды он успевает поблагодарить меня, и делает это таким образом, что я никак, даже при желании, не смог бы злоупотребить его благодарностью.
Мы несем в комнату чашки и торт, а там уже смех, женщины переключились на иные темы, и по лукавым их глазам мы понимаем, что разговор был сугубо женский. Я очень доволен Леночкой и полон решимости устроить ее счастье с Жуковым.
Вскрывается коробка с тортом, и восторженные ахи женщин льстят моему суровому отцу, ясное дело, такой торт не рождается в рядовых пищеблоках, этот торт-аристократ умыкается посредством блата из распределителя власть предержащих. Сверкающими ножами торт разрезается, раскладывается по тарелочкам с вензелями, но и в расчлененном виде он столько же великолепен, и женщины – профессионал-марксоид и профессионал-жена – одинаково хищно тянутся к нему изящными пальчиками с одинаковым бледно-розовым маникюром.
Все идет прекрасно, если не считать, что мне пока совершенно не ясны отношения отца с Валентиной. В их поведении ничто не свидетельствует об особой близости, и в то же время они на «ты». В устах отца это «ты» звучит таким образом, что не оставляет сомнений насчет давности отношений, когда уже все выяснено и переговорено, и нет необходимости подчеркивать близость. Лишь иногда нет-нет, да зыркнет в мою сторону мой строгий и уравновешенный отец.
Некоторое время женщины полностью поглощены тортом, две милых кошечки у блюдца со сливками, и это такое радостное зрелище – глаза сверкают, пальчики мелькают, и притом ни одного движения в ущерб очаровательности, сплошное совершенство движений и мимики. Мы с отцом насколько же грубее и примитивнее!
Вспыхивает эмоциональный обмен историями, где фигурирует какое-нибудь сверхутон-ченное блюдо, и отец начинает проявлять беспокойство – как я понимаю, не роняет ли себя Валентина в моих глазах столь пылкой увлеченностью гурманской темой. А меня так и зудит бес усложнить ситуацию, и я спрашиваю Валентину будто между прочим:
– Вы работаете вместе?
Взглядом этот вопрос переадресую и отцу и чувствую, как все сразу меняется, переходит в напряженную готовность.
– Даже на одной кафедре, – отвечает Валентина. – Только у нас скорее не работа, а служба, правда? Это она спешит за помощью к отцу.
– В известном смысле, – говорит отец, – как работники идеологического фронта, мы, пожалуй, действительно состоим на службе.