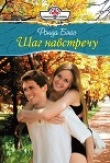Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
– Пойдешь завтра вместо меня. На готовенькое идешь, цени! Даже мотыль свежий в наличии. Значит, так: место явки – пруд в Царицынском парке с противоположной стороны от входа. Внешние признаки резидента – однорукий, возможно, в нетрезвом состоянии. Открой мешок.
Я расстегиваю резинку и вижу бутылку водки.
– Это пароль, – говорит Женька. – Далее действовать по обстановке. Всё.
– Нельзя ли подробнее?
Женька плюхается в кресло, так что ноги взлетают вверх.
– Темный ты человек, Гена. Знаешь ли ты, какое у нас преддверье нынче на дворе?
Я терпеливо молчу.
– Не знаешь. А зря. Потому что у нас на дворе всегда какое-нибудь преддверье. В прошлом году было преддверье очередного партийного съезда. Нынче же, темнота, мы живем в преддверье круглой годовщины со дня победы над бешеным фашистским зверем. Следовательно, что? – Он поднимает вверх указательный палец. – Следовательно, в текущем году военной теме особо зеленая улица. Калым, что из любезности уступаю тебе, за пределами твоих жалких четырех тысяч. Будешь умником – возьмешь десять. Проводку гарантирую. Уже обговорил с редактором «Молодой Гвардии».
Я поражен Женькиной щедростью. Спрашиваю не без подозрения:
– А тебе что, эти десять – лишние?
– Увы! – вздыхает он. – Лишними деньги не бывают, но сейчас у меня по горло престижной работы, можно и надорваться. Так что давай! Плановую заявку должен сделать за пару недель. А там – договор, аванс, сумма прописью…
В принципе мне уже все ясно. Можно считать – повезло, при желании можно уложиться в два месяца. Сдаю командировку, увольняюсь, два месяца адской работы, на это я способен – и первые проблемы решены. Новую работу поможет найти все тот же вездесущий Полуэктов.
– А почему тебя зовут «Полуэтот»? – вдруг спрашиваю я.
Женька прищуривается.
– От кого слышал?
– От Ирины.
– И как она относится?
– Тоже не знает, почему.
– Объясню. Все просто. Я полукровка, или как сейчас говорят – полтинник. Полуеврей, значит.
Я впервые слышу об этом.
– Так наши антисемитики выражаются… Но я не обижаюсь.
Я чувствую себя неловко, надо бы что-то сказать…
– Я лично, – продолжает Женька, – признаю за антисемитизмом право на существование. Так же как и за собой оставляю право натягивать антисемитам носы. Люблю борьбу за существование! А евреи, я тебе скажу, тоже не мед. И когда я оставляю с носом какого-нибудь еврея-пройдоху, я тоже испытываю удовлетворение. В своем «полу» я нахожу великое преимущество – свободу от каких-либо обязательств перед обеими составными моей крови. Будущее человечество, если только у него есть будущее, принадлежит таким, как я. Хладнокровие и объективность – вот что принесут человечеству гибриды. Я не оскорбляю твоего цельно-расового чувства?
Я пожимаю плечами. Какой же это прекрасный жест, как выручает он в затруднительных положениях.
– Так когда ты увидишь Ирину? – меняет Женька тему разговора.
– Завтра, наверное…
– Если позвонит, сказать, что ты приехал?
– А она часто тебе звонит?
Вопрос вылетел сам собой. В уме я несколько раз повторяю: «Мне это безразлично. Меня это не касается».
– Бывает. Надеюсь, ты не ревнуешь?
Очень мне не нравится Женька, когда речь заходит об Ирине. Что-то в его голосе появляется незнакомое, не понятное мне и очень неудобное. Я не ревную, сейчас это даже смешно. Но неприятно. Я, однако, стараюсь этого не показать.
Так значит, можно сляпать книжку? – ухожу я от скользкой темы.
– Элементарно. Этот однорукий – находка. Главное – расколи его на треп.
– Говорлив?
– Даже слишком. Потому доверяй, но проверяй.
Все сказано, и мне пора уходить. Я поднимаюсь, и Женька не возражает. Мы одинаково быстро надоедаем друг другу. Женька для меня слишком сложен, я для него слишком прост.
Снова ненавистная мне процедура переобувания, введенная в обычай московскими чистоплюями. Я аккуратно ставлю тапочки на место, долго зашнуровываю ботинки, а Женька стоит надо мной, попыхивая сигаретой «Мальборо», и я чувствую, что ему очень хочется еще что-то сказать, я даже догадываюсь, что об Ирине, но делаю все, чтобы он не раскрыл рта, – проклинаю шнурки ботинок и отечественную обувную промышленность, потом торопливо прощаюсь и вздыхаю облегченно, когда за спиной щелкает замок.
На улице заскакиваю в первую же телефонную будку и звоню Ирине. Она рада мне, хотя голос деланно вялый и равнодушный.
– Бери такси, я заплачу, – говорит Ирина. Раньше, не будь у меня денег, я так бы и поступил. Сейчас это вдруг задевает мою гордость. У меня еще около пяти рублей в кармане, и я холодно отвечаю, что вполне кредитоспособен, но не поздно ли, и чувствую, как она настораживается.
– Пожалуй, – отвечает Ирина, и мне становится жаль ее. И все-таки лучше все сделать сегодня.
– Минут через сорок буду, – говорю я по возможности деловито, хотя сердце у меня сжимается… Чем я могу успокоить себя, подготовиться к трудному разговору? Наверное, тем, что не было у нас никаких особых чувств. Я для нее слишком размазня, она для меня слишком деловая. Мы связаны с нею почти тремя годами, не раз я предлагал ей оформить наши отношения – она отшучивалась, быть может, надеясь, что ее в жизни ждет нечто большее, чем я. Как ни странно, меня это не обижало, мне самому казалось, что у нас с ней не слишком серьезно.
Но кажется, мы за эти годы срослись во что-то одно, и больно будет обоим. Рвать придется по живому. А еще больше мне не хочется, чтобы она чувствовала себя оставленной. Бывает же, когда двое расстаются по взаимному решению, или даже ненавидя друг друга. У меня же все не как у людей, непременно сложность, обязательно испытание… Можно было бы, конечно, объясниться по телефону или по почте, скорее даже по почте, письмо тщательно продумать, отточить фразы, в письме не присутствует голос, не участвуют глаза… Но с Ириной так нельзя. Меня даже пугает, насколько живо то, что мне предстоит разрубить.
– На рыбалку? – спрашивает таксист, глядя, как я корячусь на сидении в обнимку с удочкой.
– Завтра.
– На Автозаводской, говорят, караси в полкилограмма, только жрать их нельзя, керосином пахнут.
Разговорчивый таксист для меня кара небесная. Я откидываюсь на сидении, делаю вид, что дремлю.
Сегодня надо покончить со всеми делами, – так говорю я себе, хотя какие у меня дела, кроме Ирины? Но с ней откладывать нельзя. Женька и Люська ей звонят, она узнает, что я приехал… Я убеждаю себя, что все правильно делаю, чтобы в последний момент не струсить, не отложить.
Вот уже ее район, здесь все напоминает об Ирине: и кинотеатр, и кафе, и скверики, и просто улицы и дома из той жизни, что кончилась с моей последней командировкой…
В прихожей, только взглянув на нее, вижу: она подозревает, предчувствует. Традиционный поцелуй не состоялся и не по моей вине, я потянулся было, но она, очень естественно, отшатывается, машет руками.
– Я намазалась.
Раньше она никогда не делала этого перед моим приходом.
– С рыбалки, что ли?
– Завтра собираюсь. Женька халтуру подкинул.
Я всматриваюсь в нее, делая это так, чтоб она не почувствовала моего взгляда. Я всматриваюсь и давлюсь жалостью. В сравнении с Тосей она не просто проигрывает, она вообще не смотрится, и мне ужасно обидно за Ирину – и стыдно, что я сравниваю ее с другой, которая просто моложе. Мне кажется, что она не заслуживает, чтобы ее с кем-то сравнивали.
Крашеные волосы ее, как всегда, немного растрепаны. Она носит «прямую» прическу, то есть ничего с волосами не делает, а только расчесывает их вдоль плеч. Надо бы ей делать прическу, ведь волосы хорошие, что угодно можно сообразить. Но разве у Ирины найдется время для прически? Разве можно сравнить ее ритм жизни и Тоси? У Тоси на все времени много, оно течет вокруг нее медленно и плавно. А вокруг Ирины вихри и смерчи, я бы сказал – суета, но сейчас не хочу о ней ни одного недоброго слова. Я вижу все морщины у глаз и у губ, и какую-то замученность в походке, и ту самую деловитость, что скрадывает наполовину ее женственность. Ничего этого мне бы сейчас лучше не видеть!
– Есть хочешь? – спрашивает она.
А раньше просто говорила: «Сейчас покормлю!» Мне кажется, она что-то чувствует, к чему-то готова. И это еще больше осложняет мою задачу. Я ловлю себя на желании убедить ее, что ничего не произошло, и запутываюсь в сетях собственной нерешительности.
– Что ты натворила в студии? Женька мне в общих чертах нарисовал…
Пошло говорить о второстепенном, а главное оставлять на потом, как камень за пазухой. И она дает мне понять, что видит мое виляние.
– Во всяком случае это не столь серьезно, чтобы об этом говорить после столь долгой разлуки. – И переспрашивает настойчивей: – Есть будешь?
Я как назло до головокружения хочу есть. Но невозможно же в такой момент. А отказаться – тоже какая-то жалкая демонстрация.
– Кофе, пожалуй, – отвечаю я неуверенно. Хотя кофе я совершенно не хочу. Я теряюсь все более и злюсь на себя.
Она, Ирина, в сущности, жена мне и демонстрирует это сущим пустяком:
– У Женьки когда был?
– Только что.
– Пил кофе?
– Пил.
– На сегодня хватит. Так есть будешь? Такой своеобразный щелчок по носу. Не юли и будь мужчиной. И я говорю решительно.
– Нет, есть не хочу.
Лицо ее на мгновение каменеет, и тут же она вновь сама собой.
– Пойдем в комнату.
Она гасит свет на кухне, и мы проходим в комнату. Я сдерживаю себя, чтобы не плюхнуться на кушетку, спокойно сажусь в кресло. Мне нужно сосредоточиться, но отвлекает комната, где мне хорошо было с Ириной. Я знаю, что мне нужно сделать – на минуту зажмуриться и отчетливо представить Тосю. Я вижу ее, сонно танцующую со мной под магнитофонный визг, ее чуть сонное лицо, застывшее в полуулыбке, счастливой и чистой, и руки, прижатые к груди.
– Поговорим, – это не я, это Ирина начинает вдруг и присаживается напротив меня на краешек кушетки. Она хочет взять инициативу на себя? Я не могу этого позволить. Я боюсь потерять ее уважение. Но я ничего не успеваю. – Такие дела, Геночка, – говорит она, глядя мне в глаза, – пока ты был в своей длительной командировке, произошли некоторые события. И я поддаюсь.
– Какие?
Она усмехается, она понимает, что я поддался. Играть будет она.
– Я сошлась с другим человеком. Даже глаза опускаю, мне жалко Ирину, мне стыдно за нее, что она вынуждена так играть.
– Надеюсь, – продолжает она все с той же усмешкой, – мы избежим шумных объяснений?
Я поднимаю голову, смотрю в ее настороженные, в ее дорогие мне глаза, и мне хочется упасть перед ней на колени и просить прощения, а после прощения, которое, конечно же, последует, просить благословения на счастливую жизнь с другой!
– Я тоже хотел тебе сказать… – бормочу я.
– Как, и ты тоже? – спрашивает она с откровенным притворством.
– Ира… – бормочу я растерянно, вскакиваю с кресла, делаю шаг к ней. Она смотрит на меня, а я, накалываясь на ее взгляд, содрогаюсь от… От чего? От любви к ней?! Но это нелепость! Или, просто, жгут меня те три года, что мы были вместе. Привычка (я хочу надеяться, что это только привычка), как что-то живое, поселившееся во мне, не хочет умирать, колотится и бьется, и жалит.
– Но это же хорошо, Гена! – говорит она. – Мы останемся друзьями. У нас ведь и не было ничего серьезного. Тем более, она опускает голову, – что у меня, кажется, будет ребенок.
– От кого ребенок? – спрашиваю я внезапно осипшим голосом.
– Я же тебе сказала, я сошлась с другим.
– Ира, говорю я с угрозой в голосе, – если это игра, то неумная.
Она делает большие глаза.
– Понимаешь, все было очень необычно, ну… не так, как у нас с тобой, и я похалатничала. Но я не жалею.
Я перестаю что-либо понимать. Сажусь в кресло основательно и удобно. Мне нужно преодолеть шок, собраться с мыслями и усвоить Иринин сюрприз.
– Кто он? То есть, от кого ребенок?
– Тебя это не должно интересовать, Гена, – говорит она вкрадчиво. – Как я поняла, у тебя тоже кое-что изменилось.
– А меня, представь себе, интересует, от кого у тебя ребенок, потому что… я… потому что, если все это правда, то ребенок может быть моим…
Она хочет что-то сказать, но я перебиваю ее своей мольбой:
– Ира, не лги мне! Я все равно не поверю!
– А когда рожу поверишь? – Это она говорит достаточно холодно и даже зло. – Успокойся, ты знаешь этого человека. Но я его пока не назову, потому что он сам еще не знает да и я не совсем уверена. В понедельник пойду к врачу.
Что же это? Ирина мне изменила, да еще с кем-то из моих знакомых. Я пытаюсь новыми глазами взглянуть на эту женщину, и постепенно в мозгу возникает, вырисовывается слово «катастрофа». Если все правда, значит, я совершенно не знал Ирину, значит, она вся, решительно вся осталась для меня неузнанной. Я пытаюсь вспомнить последние дни перед моим отъездом, как я от нее уезжал на вокзал, а она заказывала такси, и такси пришло немного раньше, чем ожидалось, и мы оба были этим раздосадованы. Она, правда, не провожала меня, как обычно, но была ночь… Тут я спохватываюсь и говорю себе, что безоблачность нашего прощания не помешала мне самому влюбиться в Тосю. Но, чёрт возьми, Ирина же не влюблена, да и нет среди моих знакомых никого, к кому бы я мог ее ревновать! Женька? Но они сто лет знакомы. Ничего нового у нее с ним быть не могло…
– Ира, если ты все это придумала…
– Хватит, Гена, – обрывает она меня устало и с какой-то болезненной гримасой. – Хватит. Я тебе сказала все. Про тебя я не спрашиваю, потому что для меня это уже не имеет значения. И уже поздно…
Злоба захлестывает меня, я уже не думаю ни о какой справедливости, я просто не могу проглотить эту обиду.
– Да, у меня тоже изменения. Я влюбился, как мальчишка. Влюбился! А ты? Тоже будешь говорить, что влюблена? Знаешь, ты кто?!
– Я будущая мать не твоего ребенка. Ты же интеллигентный человек, ты именно это хотел сказать?
Я вижу, она сейчас заплачет, я знаю, она будет плакать, когда я уйду, я не понимаю только, почему она будет плакать. Мне нужно уходить, скоро закроется метро, а на такси у меня больше нет денег, но уйти я не могу.
– Не уйду, пока не скажешь мне все.
– Как хочешь.
Она поправляет волосы, отворачивается, но я догадываюсь – слезы.
– Можешь оставаться, – говорит она, приняв какое-то решение, – спи на кушетке.
Она быстро уходит в спальню и мгновенно закрывает за собой дверь. Я врываюсь за ней.
– Не смей входить, – говорит она тихо, но решительно. А лицо уже в слезах, они выплеснулись в одно мгновение, как только она закрыла за собой дверь!
Я переполнен жалостью и раскаянием. Я забываю обо всем, сжимаю ее плечи.
– Не смей прикасаться ко мне, – шепчет она.
– Молчи! – отвечаю я тоже шепотом. – Ты действительно беременна?
Она кивает.
– И это мой ребенок, да? Ну, мой же?
– Нет, – еще тише говорит она, – не твой.
– Тогда скажи, кто он? Я прошу! Я очень прошу!
Она осторожно высвобождается, отходит к дивану, над которым висит в грубой раме подлинник известного и модного художника, о котором Ирина когда-то делала репортаж. Помню, скаким бешенством я принял появление этого подарка с дарственной надписью: «Очаровательнейшей из женщин»… Это была весна нашего с нею романа. Я поносил этого художника, как только мог, она только смеялась. Уж не этот ли художник?..
Рядом с диваном шкаф, Ирина открывает дверцу и подает мне плед.
– Иди туда, я принесу постель.
А мне бы сейчас в мою комнату! Я устал от загадок, и вообще устал, день был не из легких. Но брать у нее деньги на такси… Я устал. Я хочу спать. Депрессия…
* * *
Любимый мой!
Я получила твое письмо. И плакала. Совсем другие слова, и все другое, и я не слышу тебя! Если я получу еще такое письмо, значит все, что было, приснилось мне. Папа говорит, что очень трудно положить на бумагу думы человеческие. Ему иногда приходят в голову такие проповеди, что если бы их произнести в храме, сколько зла не сдедалось бы людьми! А начнет писать, и ничего не получается.
Но это же совсем другое дело, правда? Ведь умная проповедь, это больше от ума. А если от сердца, то разве бумага помеха?
Я молюсь, чтобы все тебе удалось, хотя не понимаю, зачем столько много денег! Но тебе виднее. Только прошу тебя, не пиши мне таких писем! Я боюсь их!
У нас так же тепло, а по телевизору говорят, что в Москве дожди. Показывают Москву, улицы, и я смотрю, вдруг ты идешь…
Я люблю тебя! Я молюсь за тебя, Любимый!
Я уже устала без тебя!
Твоя
2
Уже неделю я вкалываю, как проклятый. В музее со мной расстались без особого сожаления. Я и не рассчитывал на другое, но было обидно.
Раньше не замечал, а сейчас подумалось, что такая принципиальная ненужность, это, должно быть, дефект воли. Литературные «лишние люди» мне всегда казались плоскими и пошлыми. По-моему, только наше время выявило простую истину, что в противостоянии личности своему времени нет ничего оригинального и уж тем более выдающегося. Все это становится похожим на затасканный сюжет, – та же поза, те же слова, – и я сильно подозреваю, что все эти «лишние», о которых столько намолото рассуждений, выстроено концепций и исписано бумаги, были очень похожи на меня, ну, а себе-то цену я знаю! Я просто размазня, у меня слишком много чувств, чтобы хоть какое-нибудь из них стало моей волей. Но хочу я всего того же, что и прочие, не «лишние», – какого-то успеха, уважения, любви и, пожалуй, именно в такой последовательности. По Крайней мере, так было до сего времени.
Сейчас я делаю ставку на любовь, мне нужен тыл, прочный, надежный, куда при случае можно исчезнуть из основного мира, если он осточертеет. Само сознание, что есть, куда отступить, должно придать легкость слову и делу, привнести своеобразный игровой момент. Неудачники, по-моему, это люди, слишком серьезно относящиеся к своей деятельности, к своим поступкам и реакции на них. Подлинный успех должен быть немного театрализован. И только в тылу, в семье должно быть все прочно, естественно. И вот я делаю ставку на любовь. Я ставлю карту на Тосю, поповскую дочку. И вот я делаю последнюю свою халтуру, которая обеспечит мне материальную базу для устройства гнезда.
Правда, дело оказалось серьезнее, чем я думал, и я побаиваюсь, как бы мне не увязнуть. Каждое утро, прежде чем начать работать, я повторяю себе, что делаю «халтуру», что это калым, что увлекаться этим нельзя, потому что и те, для кого я это делаю, тоже ждут от меня только «халтуру». И все же, кажется, увязаю…
Все началось чисто, по Женькиному плану. Однорукого я нашел быстро. Пристроился рядом, и, по счастью, не было клева. Я достал бутылку, предложил. Потом – вопросик, другой, и вот у меня сюжет для проходной, тиражной книжицы! Андрей Семеныч – бывший дивизионный разведчик. Когда он начал повествовать мне о своих подвигах, я подумал, что заливает, но у себя дома он показал мне свой орденский иконостас. Жена его, Полина Михайловна, ни во что не ставит былые подвиги супруга и проклинает его пристрастие к рыбалке, которая каждую осень укладывает его в больницу.
На мое предложение написать о нем он ответил серьезно и с достоинством: «А чего? Кино смотрю, книги читаю про войну, у меня кое-что и похлеще бывало. Валяй!»
Нынче военной темой забита вся пресса. До меня эта тема дошла через Ремарка. Что действительно интересно для меня из всей памяти о войнах, так это отношение к смерти. Вечерами, обрабатывая магнитофонные записи, вдруг в какой-то фразе или даже интонации моего героя улавливаю что-то глубоко философское, бездонное по смыслу, сталкиваюсь с психологией незнакомого, непонятного мне бытия. Вот, например, такая фраза: «Доползли мы с этим армянином до бугра, и тут очередь. Прижались. А время-то – секунды остались! Я его локтем в бок, поперли, мол, дальше. А его уже и нету. Пополз один».
Я снова и снова слушаю о том, как он «пополз один», и не могу понять, почему эта фраза вызывает во мне дрожь. То ли, что в течение секунд был какой-то армянин и не стало, то ли, что через секунду второй пополз дальше, как будто ничего не случилось? Мне хочется понять, что такое привычка к смерти, ведь героизма здесь, пожалуй, нет, то есть нет волевого преодоления. Я думаю, что миллионы не могут быть героями и термин «массовый героизм» такая же нелепица, как «массовая гениальность». Но и привычка – тоже не точно, потому что страх смерти не исчезал, он был… Я боюсь смерти и поэтому не смогу пройти по карнизу девятого этажа, какая бы в том ни была необходимость, страх становится моей волей, и эта воля не даст мне шагнуть на карниз. Что же происходило с психикой людей на войне, если страх не становился их волей? Может быть, действовала другая, более могучая воля, а скорее всего, она была составной из ненависти, команды и неизбежности? Еще вера в удачу. Еще профессионализм…
При встрече всматриваюсь в лицо Андрея Семеныча, в его фотографии военных лет, и пытаюсь понять или догадаться, что у него было определяющим в его привычке к смерти, к своей смерти и к чужой. Спрашивать бесполезно.
У него двенадцать наград за боевые действия, или так называемые подвиги, и я раскладываю их по типам. Два из них – чистая удача, которая могла выпасть каждому. Пять – итог высокого профессионализма. А вот остальные пять – результат риска, игры с жизнью, их я уверенно назову подвигами, то есть действиями, противоречащими инстинкту самосохранения, самому могучему инстинкту всего живого. И об этих подвигах я выспрашиваю его особенно тщательно, придирчиво, заставляю копаться в памяти, раздражаю его своими расспросами. Он не может понять, чего я от него хочу, да и сам я не очень-то отчетливо сознаю, что пытаюсь найти, уловить в чужой памяти. Словно что-то здесь касается меня самого, будто не в нем, бывшем солдате, жажду я разобраться, а в себе… но что мне до войны, у меня войны не было. Но вдруг заползает сомнение, так ли это.
Короче, есть опасения увязнуть в материале. И я снова вдалбливаю себе: это халтура, это калым, и нос следует держать строго по ветру, то есть по конъюнктуре. А конъюнктура требует от меня всего лишь сносного описания фронтовых подвигов дивизионного разведчика во имя социалистической родины. И мне жаль, что приходится работать на конъюнктуру, когда в руки сама идет тема, на которой можно выложиться с потрохами. Но – кому это нужно?
А между тем, этот Андрей Семеныч меняется у меня на глазах. Куда-то девается пустое балагурство и загнанность, что была во всем – вфигуре, в походке, в голосе. Он выпрямляется, а в его глазах, вчера еще робко моргавших, слезившихся, сегодня будто и цвет появился, и блеск, и прищур этакий, обращенный куда-то в себя, и я не узнаю того безрукого выпивоху и болтуна, которого встретил на рыбалке в Царицынском парке. Кстати, как раз вчера мы снова побывали с ним на рыбалке, и надо было видеть, как он разговаривал с рыбаками и со мной в их присутствии, как держал удочку, и как несуетливо, без былого хвастовства, снимал карасей с крючка…
Вчера же он поразил меня еще одним рассказом, а вернее, признанием. Я перед этим рылся в архивах, куда отец выбил мне доступ, и установил некоторые хронологические неточности в рассказах Андрея Семеныча. Об этом я сказал ему, и он обиделся и насторожился.
– Значит, проверяешь, не брешу ли?
Я объяснил ему как можно тактичнее, что если он, скажем, перепутает сентябрь с декабрем, то ничего страшного, но если я в книге допущу эту неточность, это брак в работе, за который мне будет стыдно, когда на него укажут. Андрей Семеныч некоторое время молчал хмуро, а потом со вздохом сказал:
– Одну туфту я тебе кинул, чего доброго докопаешься в этих архивах, кто знает, что там хранится про нас. Не на мине я руку оторвал. По-другому это было.
И вот, что он мне рассказал: по развалинам дома, заросшего бурьяном, ползет человек, ему нельзя ни на сантиметр оторваться от земли, и вдруг удар в руку, а под рукой что-то скользкое, извивающееся, и еще удар, и вскрикнуть нельзя – смерть! Так, с дважды укушенной рукой, он ползет дальше, рука немеет и опухает на глазах. «С тех пор змей видеть не могу. И если б мне руку не оттяпали, воевать все равно не смог бы. Земли боюсь. Травы боюсь. На всю жизнь. Везде змеи мерещутся. В кино змею увижу, трястись начинаю. Из деревни уехал, где родился да пацаном рос. Ненавижу землю! Теперь только на асфальте себя нормально чувствую. На пенсию не проживешь, картошку с женой сажаем за Востряковым. Сажать еще ничего, а копать… Все промеж кустов что-то ползает. Такое дело».
Андрей Семеныч не понимает, какая это будет выигрышная страница. Наконец, что-то живое. Какие причудливые вещи случаются на войне – из-за чего мог крестьянин возненавидеть землю!
Но боюсь, у меня это вычеркнут, мне нужно гнать мою конъюнктуру, и я начинаю испытывать стыд.
Вся надежда на моего отца, он знает ключ, как мою вынужденную халтуру превратить в феномен нормы.
Я стучусь к нему и слышу: «Входи!» Это значит, отец не работает и готов говорить со мной. Он сидит на диване с книжкой в руках и жестом приглашает меня шлепнуться в его рабочее кресло, настолько удобное, что я в нем никогда бы работать не смог.
– Расскажи о войне, – говорю я коротко.
Отец удивленно вскидывает брови, а затем молча указывает на полку, где выстроена военная мемуаристика и прочие книги о войне.
– Нет, – отвечаю я, – расскажи о своей войне. Что для тебя была война?
– С чего это ради? – удивляется он. Халтура у меня на военную тему. Отец не видит в моих словах кощунства, он реалист.
– Но ты же знаешь, моя война не в счет. У меня одна медаль «За победу», которую давали всем.
– Но ты несколько раз писал заявления, просился на фронт. Почему?
Он пожимает плечами.
– Мне было девятнадцать. Кругом фронтовики в медалях и орденах, бравые, речистые. Я же салага, тыловик. Девушки на таких не смотрят. Я даже был огорчен, когда война кончилась. Щенок был.
Да, мой отец не источник информации.
– Тогда скажи, столько лет прошло, почему наше мирное соцобщество по сей день играет в войну: студенческие десанты, отряды, бойцы, командиры, погоны, и в кино взрывы и выстрелы? Почему нужно все это помнить и ничего не забывать? Почему нормальная мирная жизнь не рождает у нас символов и приходится спекулировать на военной тематике?
Отец задумывается, это с ним редко случается, обычно ответ у него на языке. Я так и спрашиваю:
– Ты в затруднении?
– Пожалуй, – соглашается он, – не знаю, на каком уровне тебе ответить.
– На твоем, разумеется.
– Видишь ли, система наша является замкнутой, так сказать, по определению, то есть зам-кнутость есть своеобразная необходимость ее совершенствования. И в некотором смысле враг мой – друг мой. Чем отчетливей лики наших врагов, тем крепче мы стоим на ногах. Улавливаешь?
– Ты хочешь сказать, что разрядка не в наших интересах?
Ясные отцовские глаза искрятся иронией.
– Ваше поколение пренебрегает диалектикой, а зря. Диалектика тренирует мысль, учит рассматривать явления с разных точек отсчета. Разрядка – на пользу социалистическому лагерю, а напряженность цементирует социалистическую структуру. Потому социализм и непобедим. Понятно?
Я тупо смотрю на отца. Глаза его смеются, и мне кажется, что надо мной потешается нечто иное, огромное, непостижимое – и могущественное.
– Разрядка привносит в нашу экономику перспективы, возможности роста, но она разбалтывает структуру, и очередная холодная война, которую, конечно, объявляем не мы, а те, кто раздосадован нашими выгодами в разрядке, вызывает к жизни центростремительные тенденции. И новым букетом… – Отец поднимает палец вверх. – … новым букетом расцветают все цветы социализма, а все приобретенное в период разрядки остается при нас. История работает на социализм. Осознают ли это малявки, фыркающие на величайшую реальность истории?
Отец уже откровенно смеется. Я не смеюсь.
– Допустим, но при чем здесь военная символика?
– При том, что социализм побеждает тогда, когда защищает свои завоевания.
– Ты можешь говорить проще? – я уже злюсь.
– Проще, Гена, можно говорить о простом. Коли уж у нас военная тема на повестке, я бы сравнил социалистическую тенденцию с пулей нарезного оружия. Убойность и дальность такой пули зависит от ее вращения, заданного нарезами в стволе. Торжество социализма зависит от степени ортодоксальности его структуры. Заметь, наш строй пользовался наибольшей популярностью в мире именно тогда, когда он был, ну, скажем, не очень-то привлекателен, я имею в виду сталинскую эпоху…
– Ты хочешь сказать, что сталинизм – это ортодоксальный…
– Ни в коем случае, – поспешно перебивает отец, – все эти ГУЛаги лишь издержки становления.
– Щепочки?
– Издержки! – не соглашается он. – Ортодоксальность социализма многогранна. Но цели в то время были очерчены яснее и определеннее. Бескомпромиссность – это самая обаятельная сторона социалистического идеала. Ваш Солженицын, поди, думает, что это он своими писульками настроил Запад против нас. Ничего подобного. Это Хрущев скомпрометировал наш социализм, он нарушил принцип некритикуемости пути.
Я вскакиваю с кресла.
– Слушай, папа, почему бы тебе не сказать обо всем этом в своих лекциях?
Я нарушаю неписаный закон нашего общения, – не переходить на личности. И отец мгновенно словно маску натягивает.
– Я пытался говорить с тобой, как с мужчиной.
– А чего, по-твоему, мне не хватает до мужчины?
– Мужества, – говорит он, и мне становится больно, будто меня ударили по ране. Я пытаюсь вернуться к разговору.
– Значит, ты считаешь, что игра в войну это своеобразный способ укрепления структуры? Так?
– Так, – нехотя соглашается отец, – если мыслить совсем уж просто.
Но я это знал и до него. Что же я хотел услышать? Пожалуй, то, чего не знаю, разве не думаешь иногда, что все-то и дело в том, что ты чего-то не знаешь.
– Возможно, ты говорил истину, то есть факты… – Я усиленно тру ладонью лоб. – Ну, а если я не принимаю эту истину, если она мне отвратна…? На истине это никак не отразится.
– …как тогда я должен жить, чтобы уважать себя?
Он смотрит на меня, словно оценивает мои способности к восприятию высших и горьких истин.
– Бороться с миром объективных вещей – дело сумасшедших!
– Что же остается?
– Наверно, уйти из этого мира.
Господи, да что же он за человек! Сказать такое собственному сыну, не моргнув глазом, не вздрогнув…
– А если я последую твоему совету, ты не будешь испытывать угрызений совести?
– Нет, – говорит он спокойно, – если человек добровольно выбирает смерть, значит, жизнь для него еще хуже.
Мне очень хочется кричать: «Ты не человек! Ты монумент, марксистская скрижаль на мраморе!» Я не кричу. Я иду к двери, но отец окликает меня:
– У меня тоже есть к тебе кое-что…
Отец смущен, он теребит прядь на виске, и это признак чрезвычайного волнения. Я снова сажусь в его кресло, а он стоит напротив.
– Я хотел бы познакомить тебя с Валентиной.