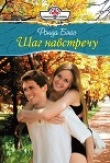Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Да, как поживает папочка?
– Ты могла бы сама спросить у него об этом, – отвечаю я Люське, и у нее от злости краснеют щеки и влажнеют глаза.
– Неужели с нашим папочкой никогда ничего не случится? – шипит она, и мать обрывает ее:
– Нельзя же так, в конце концов!
Я знаю то, чего не знает мать. Люська ненавидит отца, ненавидит его так же страстно, как любила в детстве, – и страдает от своей ненависти. Года три назад она позвонила отцу рано утром и попросила его ждать ее дома. Всю ночь Люська готовила объяснение, в итоге которого они должны были помириться, но, примчавшись на такси, только прокричала: «Папка, я люблю тебя!» и разрыдалась. Отец успокоил ее и выговорил ей за то, что он из-за нее опоздал на работу.
Когда он ушел, Люська устроила дебош в квартире, я еле с ней справился. Она оскорбляла меня, как могла, пыталась добраться до моего лица и на прощанье крикнула уже с лестничной площадки: «Вы оба выродки! Вы нелюди!» Когда я рассказал отцу, чем закончилось Люськино посещение, он лишь пожал плечами.
– Ну и как, – Люська норовит задеть меня, – наш папа по-прежнему бреется два раза в день?
Я пытаюсь отвечать миролюбиво:
– Шурик твой ни разу не бреется, это же тебя не смущает.
Они обе вдруг затихают.
– Можешь радоваться, – зло говорит Люська, – сейчас он уже бритый.
Я смотрю на мать.
– Посадили месяц назад.
Шурик – фамилию его я, оказывается, и не знаю – многолетняя Люськина любовь. Сначала это была односторонняя любовь: Шурик был женат. В конце концов Люська добилась своего, но я не понимал, почему они не женятся. Именно через Шурика мать с Люськой и занялись диссидентством.
Люська поджала губы, глаза полны слез.
– Понимаешь, что получилось… – начинает мать, – и Люська взвизгивает:
– Не смей! Он ведь будет только рад!
– Ну, почему обязательно рад? – робко возражает мать.
Я пожимаю плечами, и по взорвавшемуся Люськиному взгляду понимаю, что мне, наконец, удалось воспроизвести излюбленный отцовский жест.
– Они ничего не способны понимать! – шипит Люська. «Они» – это мы с отцом. – Они роботы!
– Перестань! – резко говорит мать. – Лучше, если Гена все узнает от других?
Люська дергает плечом и выбегает из комнаты.
– Понимаешь, – говорит мать тихо, – Шурик дает показания. И на Люсю тоже. Это так неожиданно…
Я не нахожу, что сказать. За несколько лет – первый случай, чтобы такой активный, такой, казалось, убежденный диссидент, и вдруг…
– Люсю вызывали на допрос. Она ничего не говорила, выгораживала Шурика, а ей устроили очную ставку, и он при следователе убеждал Люсю ничего не скрывать, потому что он, как он сказал, там многое понял и осознал, и теперь раскаивается… Мы никак не можем понять, в чем он раскаивается… Он всегда так страстно и убежденно говорил… Может быть, они его там чем-нибудь напоили?.. или – гипноз?.. как ты думаешь? Ты ведь знал его…
Да, я знал его, я его слушал и читал его статьи, резкие и аргументированные.
– Что тебе сказать, мама… Может быть, он просто струсил. Я бы, например, наверняка струсил там. Я боюсь тюрьмы… Почему не предположить, что он тоже…
Когда Люська появляется в дверях, я не успеваю заметить.
– Нет, вы послушайте, он с собой сравнивает! – Она уничтожает меня своим горящим взглядом. – Ты!.. Да у тебя когда-нибудь были какие-нибудь убеждения?! Ты во что-нибудь верил?! У тебя вообще бывали какие-нибудь чувства, кроме конформизма?!
Мать спешит вмешаться.
– Люся считает, что его держат на наркотиках. Колют какими-то препаратами… Ведь Бухарин в свое время тоже Бог знает в чем признался, да и другие…
– Может быть, – отвечаю я с сомнением, – но, по-моему… Я, конечно, не борец, как вы… По-моему, бояться тюрьмы – это нормально для любого человека, испугаться тоже может любой…
– Чушь! – орет Люська. – Я не боюсь тюрьмы! Вот я, я не боюсь! Ты это можешь понять, плосколобый!
Мать, не давая мне ответить, говорит мягко и растерянно, она в самом деле не понимает, что произошло:
– Ты прав, тюрьма – это ужасно… Но ведь убеждения… Элементарная порядочность… И наконец, ведь он любил Люсю…
– А может быть, он действительно раскаялся?
– В чем? – вскрикивают они обе.
– Ну, понял, что все это бесполезно…
Люська хватается за виски, мотает головой.
– Я не вынесу этого! Прекратите сейчас же! Немедленно прекратите! Мама! Я прошу тебя!
– Хорошо, хорошо, не будем об этом. Давайте кофе пить.
– Мать, – спрашиваю я, – а выпить у тебя найдется?
Она, от растерянности, переадресовывает мой вопрос Люське:
– У нас есть что-нибудь?
– Я тоже выпью, – вдруг тихо говорит Люська.
Вот когда она хоть два человеческих слова произнесет, после всех гадостей, мне хочется обнять ее и потрепать за уши! Но разве ж у нас это возможно?
Она приносит початую бутылку вермута, мать достает рюмки.
– Есть хочешь?
Я не хочу есть. Я хочу выпить. Мне немного тошно. Мне немного тоскливо. Мне немного жалко всех и себя почему-то.
– Так ты, значит, женишься, – говорит мать. Я жадно заглатываю вино, без спроса наливаю вторую и тоже залпом. Мать смотрит удивленно.
– Это что-то новое! Пить начинаешь?
Я только рукой машу. Люська долго держит рюмку в ладонях, будто согревает вино, потом пьет осторожными глотками, как кипяток, и опять держит рюмку в ладонях.
– Кто она, жена твоя будущая?
– Поповская дочка, – отвечаю уже привычно.
– Шутишь?
– Нет, мама, она действительно поповская дочка, то есть дочь священника.
– И она… верит?.. Она верующая?
– И она верующая, то есть она верит в Бога. У матери на языке масса каверзных вопросов, но она не решается их задавать.
– А с Ириной, значит, все?
– Значит.
– Ты извини, но я хочу понять, это у тебя серьезно или из области оригинального? Я хочу сказать, это как-то не увязывается…
– Ну, как ты не понимаешь, мама, – опять взрывается Люська, – наш Гена просто не отстает от времени. Всякий революционный спад сопровождается религиозным бумом. Религия – это безопасно и оригинально! Сейчас самое время жениться на поповских дочках. Это может даже стать модой среди ренегатов!
– Спасибо за ренегата, – отвечаю я, – но между прочим, Солженицын у меня до сих пор висит, а у вас что-то пустовато на стенках.
– Еще бы тебе Солженицына снимать! – Люська, того и гляди, вцепится в лицо. – Он же теперь русский патриот. По тоталитаризму затосковал. Подожди, он еще вернется сюда, твой Солженицын.
– Мой? – я чуть не падаю от изумления. – Да не ты ли…
– Я! Я! – орет Люська. – Трусы и предатели! Настоящие люди подыхают в камерах и лагерях! А вы торопитесь жениться на поповских дочках! Чтоб вы пропали в своей похоти, иуды!
Терпению моему конец, я трахаю ладонью по столу. Мать успевает поймать свою рюмку одной рукой и придержать бутылку другой. Моя рюмка летит на ковер. Люська сжимается в комок, когда я подхожу к ней.
– Ну и сволочь же ты! – говорю я, чувствуя, как меня понесло.
– Геннадий! – кричит мать.
– Ну и сволочь. Твоего Шурика посадили не первым. До него уже полно сидело! А когда ты оставалась у него на ночь, вы с ним что, «ГУЛаг» конспектировали? А твои аборты – это итог революционного пафоса, да?
– Геннадий, прекрати, – умоляет мать. Но нет, раз уж я сорвался, я все выскажу этой истеричке.
– Твой герой оказался болтуном и трусом. Да! Но не в этом дело. А в том, что ты, со своей истеричностью, сумела из всех выбрать именно болтуна и труса. Он ведь пока один такой. Ты просто дура. Истеричная дура!
Я нагибаюсь над ней, и она вжимается в стул – не столько от испуга, сколько от изумления.
– А мне противно, понимаешь, противно как раз то, чем ты живешь. Игра в героев! Революционная любовь! Терминология твоя противна! Это все уже было! Это как раз и пошло! Я боюсь тюрьмы и не скрываю этого, но я бы тебя не заложил, как твой Шурик, хотя морду тебе набить – это просто с медицинской точки зрения полезно.
Мать вскакивает со стула, хватает меня за плечи.
– Геннадий, немедленно уходи! Немедленно! Я не знала, что ты еще и хам.
Я сглатываю слюну и говорю тихо:
– Я не хам, мама. Но я и не отец. Я больше не приду к вам. Вы ненормальные. Что я вам сделал такого, чтобы меня ненавидеть? Но вы всех ненавидите, кто не ваш, кто не по-вашему живет или думает. Я не герой и не борец, но вы тоже ничего не сделаете, потому что задохнетесь в ненависти.
– Геннадий!
– Ухожу. Ухожу.
– Постой, мама! – кричит Люська, поднимается и встает в проходе.
Чего еще она хочет! Пальцы на косяке двери белые, вся трясется, жилы на шее вздулись, некрасивая какая, Господи!
Я стою и жду. Она молчит, только губы дергаются.
– Мама, – говорит она, наконец, – пожалуйста, оставь нас двоих.
– Еще чего! Драки только не хватало. Уходи, Геннадий, я прошу тебя.
Я делаю шаг к двери, но Люська кричит:
– Нет! Он останется. Мама, оставь нас. Слышишь, мама, или мы с тобой поссоримся.
– По-моему, – говорит мать устало, – мы сегодня с тобой только этим и занимаемся.
Она машет рукой и уходит, опустив голову.
Люська делает шаг ко мне. Я на взводе и настороже.
– Генка, помоги мне, – вдруг говорит она, всхлипнув. – Спаси меня. Я погибаю! Я не хочу жить, Генка!
Она делает еще шаг, и я бросаюсь к ней, обнимаю крепко, целую в худые щеки и в лоб, глажу ее встрепанные волосы.
– Помоги мне, Генка! – шепчет она и плачет.
– Конечно. Конечно. Мы что-нибудь придумаем. У меня самого уже с глазами не все в порядке.
– Что мне делать, Генка?!
– Я еще не знаю, но я придумаю, честное слово, придумаю.
Я уверен, что есть какой-нибудь путь, не бывает ситуаций, из которых нет выхода. Я уверен в себе. Я успокаиваю ее с чистой совестью. В эти минуты мне кажутся ничтожными наши раздоры, и у меня вновь возникает смутная мечта о большой, дружной семье, и я шепчу Люське:
– Мы должны жить все вместе, все…
Она отстраняется, все еще всхлипывая и дергая плечами.
– О чем ты говоришь! Это невозможно.
Я еле слышу, так тихо она говорит, но я сознаю, что ничего не изменилось, ничего я не придумаю для сестры, и она понимает, что я бессилен… Видно, и ей вражда поперек горла, захотелось на мгновение постоять обнявшись, словно мы всегда были дружны и близки, а сейчас снова начнет кричать и проклинать меня. Но она только шепчет: «Что мне делать?» Шепчет уже не мне, а себе…
– Может быть, уехать… – говорю я.
– Куда?
– Я знаю одно такое место, где ты отдохнешь, там за тобой будут ухаживать, тебе будет спокойно…
– К твоей поповне? – догадывается она и качает головой. – Это не по мне.
– Ты не представляешь, какие это люди! – пытаюсь я предупредить ее отказ.
– Да и не на что мне ехать…
– Я дам…
– А у тебя откуда? – это уже звучит с подозрением. – Отцовские?
– Ну, почему? – мямлю я, – у меня была командировка, премия…
Она не верит, она знает мои возможности.
– Генка, – говорит она, отвернувшись к окну, – ты думаешь, он просто струсил?
Я молчу. В молчании тоже ответ.
– Знаешь, он предчувствовал… незадолго еще говорил: давай уедем. Вызов у него был, причем не фиктивный, у него действительно родственники в Израиле. Значит, он боялся, да? Значит, не был уверен в себе?
Я по-прежнему молчу. Но мне теперь все понятно. Ее Шурик готовился драпануть, как запахнет жареным, да просчитался, с досады и раскололся. Не собирался он сидеть и не готовился к этому.
– Когда он убеждал меня ничего не скрывать от следствия, я смотрела ему в глаза. Я уже думала, думала, что, может, действительно, все, что мы делаем, ошибка, что я не заметила этой ошибки… Понимаешь, про себя я могу это допустить, но он – не ошибался…
Я прерываю ее, мне уже невтерпеж слушать:
– Ты совсем не о том говоришь и думаешь. Все не то. Сейчас важно только одно: любишь ты его или нет. Это для тебя должно быть главным!
Она лишь отмахивается.
– Мне не семнадцать лет, чтобы любить мужчину ни за что. Да и в семнадцать так не бывает.
– Люська, я достану тебе денег, поезжай, поверь мне, ты вернешься другим человеком!
Она нервно смеется.
– Спасибо, братец, но этот рецепт не для меня. Не могу я сейчас уехать, понимаешь ты? Это же бегство. Вот видишь, ты ничем мне помочь не можешь… Мама!
Мать появляется вся заплаканная. Люська усаживает ее рядом с собой, кивает мне, я тоже сажусь рядом с матерью с другой стороны. Люська наливает рюмки.
– Все! Выкричались, выплакались, теперь надо жить. Обними мать сейчас же, чурбан проклятый!
Я обнимаю мать, моя рука с Люськиной вперекрест. Мать вытирает глаза платком, ее руки на наших коленях. Идиллия! Мы выпиваем, не чокаясь и без тостов. Какие тут тосты! Я хлюпаю носом, глаза мои потекли, и я уже не пытаюсь этого скрыть…
Когда я выхожу от матери, уже половина восьмого. Я опаздываю к Женьке. Останавливаю такси.
Разве это не печально, мне тридцать, а характера ни на грош. С отцом я веду себя по-отцовски, у матери с Люськой я такой же псих и истерик, как они. И в других ситуациях я замечал за собой желание вжиться в обстановку, приспособиться. Надо бы проанализировать, какой стиль для меня естествен, где я сам по себе, а где приспособление.
А Люську мне жаль. Я ничем не могу ей помочь. Главное во всей этой истории – лишь бы ее саму не тронули. Но я почему-то надеюсь, что этого не случится. Представить себе Люську в тюрьме – воображения не хватает. Лично же я патологически боюсь тюрьмы. Из рассказов сталинских зэков, да и теперешних политических, я реально представляю себе всю эту нечеловеческую действительность – и не могу найти такие ценности, ради которых можно добровольно обречь себя на все унижения и ограничения, что именуются в совокупности неволей. Как ни гнусна наша жизнь, а в ней все-таки остается достаточно того, что есть радость или просто норма. Поэтому, когда я слышу, что кого-то посадили, я содрогаюсь внутренне, я сочувствую ему, кто бы он ни был. И когда говорят по адресу очередного исчезнувшего, что, дескать, доигрался, что сам того хотел, я на таких смотрю с подозрением, они мне кажутся еще большими трусами, чем я, страх в их душах настолько велик, что помутил им рассудок, – можно ли приписывать кому-то желание неволи?
А сколько раз случалось мне слушать воспоминания бывших лагерников, видеть их глаза, светящиеся радостью и, убей меня гром, счастьем! Они вспоминали «минувшие дни» и находили в тех днях светлые мгновения: послушать их, так именно в лагерях они пережили самые великие минуты счастья. Я заболеваю, когда слышу такое, я вижу в этом какое-то нравственное извращение, я не понимаю их, не хочу понимать, я даже уважать их не могу, – все во мне кричит против, все содрогается, и я это считаю естественным и нормальным. Представить себе, что в неволе могут быть счастливые или просто радостные минуты, я не могу. Впрочем, на животном уровне, до которого может быть доведен человек в неволе, на этом уровне, наверное, можно быть счастливым от лишней пайки, но чтобы это собачье счастье и на воле вспоминалось как счастье! – увольте. И не верю я, что в неволе согревают высокие идеи или нравственное очищение. Может быть, я слишком земной, но если меня лишают возможности видеть лицо любимой женщины, никакие идеи не облегчат моего страдания, вся моя жизнь будет одним сплошным страданием без просветов и рассветов.
Я сижу развалясь на мягком сидении такси, пролетаю по Садовому кольцу, вокруг мелькает Москва; я люблю ее или не люблю, но это моя жизнь, и у меня сегодня есть деньги на такое удовольствие – пролететь по Москве в одиночестве, и впереди у меня тысяча хлопот, я могу устать от них, издергаться на пустяках, но не променяю их ни на какой пафос неволи.
Что еще отталкивает меня от Люськиного мира – это пошлость повторений! Тысячи, если не миллионы, когда-то разменивали жизнь на нежизнь только ради того, чтобы кто-то получил удовольствие от проезда в такси! И вот уже следующие тысячи разменивают свои жизни ради будущего глобального преодоления страданий и не видят бессмысленности своего намерения. А она кричит о себе, эта бессмысленность, с каждой страницы истории и из каждого житейского переулка, в ее вопле всеобщая неустроенность и неудовлетворенность, и все те прочие НЕ, которые и есть суть жизни, – убери их, ликвидируй, и что останется?
Иногда мне удается взглянуть на жизнь, как на нечто целое, и тогда я нахожу законное место Люське и ее друзьям в этом целом, их функцию я понимаю тогда как одно из слагаемых, оно даже не кажется равным среди прочих, это лишь приправа к жизни… Но я стараюсь не додумывать эту мысль до конца, потому что от слова «приправа» до слова «соль» один логический шаг. Посчитать Люськину же суету за соль жизни я никак не могу. Я вообще предпочитаю оставлять подобные мысли недодуманными, тогда они кажутся значительнее, и сам себе я вижусь тихим мудрецом с роденовским напряжением на челе, мудрецом, пролетающим в такси над пестрой суетой жизни.
Мне надо себя оправдать, потому что я люблю себя, а эта любовь, единственно она, оставляет мне возможность любить ближних. Презирай я себя за все, что я о себе знаю, ближние – разве иные, лучше меня? Но я себя люблю таким, каков есть, значит, обязан и ближних любить из справедливости, и если это не всегда удается, так только потому, что бывает трудненько не презирать самого себя.
И потому я стараюсь понять всех, не принять, а именно понять, и, наверное, только такой подход к людям предупреждает ненависть к ним и отвращение. Одно лишь смущает: чем больше понимаешь людей, тем меньше они тебе нравятся, тем неотвратимее одиночество, и потому не полезнее ли верить тому, что человек сам о себе думает? Ведь еще не известно, что более подлинно в человеке – его реальные действия или нереализованные намерения. Если обо мне судить по намерениям, то какой же я славный человек, и если признаться честно, то себя-то и люблю именно за те намерения, которые снисходят на меня, а так ли уж виноват я, что жизнь складывается иначе? Существует человек в чистом виде – как сумма его намерений, и человек в жизни, то есть взаимодействующий со всем, что вокруг. У подлинно дурного и намерения дурные…
– Здесь? – спрашивает шофер.
Я не случайно люблю такси. Если бы в день хоть по два часа проводить в этом движущемся нутре, я стал бы Иммануилом Кантом, создал бы самостоятельную философию, что-нибудь вроде «Нового Гуманона». Но мои маршруты слишком коротки, чтоб дойти до солидных обобщений, много ли наобобщаешь за трояк!
Я поднимаюсь в лифте на шестнадцатый этаж, где под самым козырьком башни живет мой кормилец Женька Полуэктов по кличке «Полуэтот». У каждого из нас квартира означает разное: у моего отца она – кабинет, у матери – проходной двор, у меня – берлога. У Женьки квартира – афиша, реклама. Сколько денег угрохано на все эти спецобои, спецпаркеты, спецкафель – уму непостижимо. Посетитель должен понимать, что хозяин – человек прочного положения с неограниченными связями. Все имеет назначение ошарашить гостя интеллектуальностью хозяина. Иконы восемнадцатого века и полутораметровые полотна гениев нереалистической живописи, книжные полки с антиквариатом и разбросанные где попало современные книжки с дарственными надписями авторов, импортная пишущая машинка, кипы хорошей бумаги и всюду рукописи, – такой очаровательный творческий беспорядок, в котором, однако, все на месте, – и сам хозяин, представительный, статный, при бороде и усах, в роскошном халате до пят, с «Мальборо» или «Кэмэлом» в зубах, разговаривающий мягким баритоном, чуть усталым, чуть ленивым, неспособным выражать удивление. Таков Женька Полуэктов. Правда, передо мной он не играет, мы знакомы тьму лет.
– Старик, я жду, – говорит он, открывая мне дверь. – Одна минута, выпускаю гостя.
Пока я разуваюсь, он уплывает в комнату и возвращается в сопровождении то ли тунгуса, то ли нанайца, одетого с иголочки, с прической только что из парикмахерской.
– Дорогой мой, – бархатно говорит Женька, – будьте спокойны, все сделается самым наилучшим образом. Вам повезло, вы имеете дело не с новичком.
Тот не очень доверчиво косится на Женьку, благодарит не очень искренне и уходит, не кинув в мою сторону взгляда. Когда дверь за ним мягко щелкает импортным замком, Женька облегченно вздыхает и говорит без бархата в голосе:
– Этот младший брат семьи народов заколебал мои глубокие интернациональные чувства. Проходи.
– Кто такой?
– Кто? Золотая рыбка! Кофе? Готовится к печати антология поэзии северных народов. Для интеллектуального человека это пещера сорока разбойников. Мне предложено, – заметь, предложено, а не сам напросился, – обогатить мировую поэзию переводами творений нескольких детей полярной ночи. Я тебе кое-что расскажу, и ты мне посочувствуешь…
Он сбрасывает свой роскошный халат, обнаруживая великолепный спортивный костюм. Суетится с кофемолкой.
– В подстрочнике у этого чесальщика Пегаса сказано буквально… – Он хватает со стола листок. – Буквально следующее: «когда я был еще щенком, и мать убирала за мной мое говно…» Не веришь? Посмотри. Битый час я добивался его разрешения убрать хотя бы экскременты, а он мотал башкой и требовал адекватности, а по «щенку» мы так и не договорились. Тщетно я объяснял ему, что в русском языке «щенок» по отношению к ребенку имеет отрицательный оттенок, для него щенок – это прекрасное существо, никакого презрения у читателя вызвать не может. Вот, старик, в каких условиях приходится работать. Никакой техники безопасности.
– Это выгодно?
– Спрашиваешь!
Я обвожу глазами комнату.
– Новое приобретение?
Женька разводит руками – дескать, что поделаешь, любовь к искусству… Прошлый раз на этом месте висело что-то другое.
– Куда девал?
– Синицкого? Он, сукин сын, оскорбил меня в самых светлых чувствах. Удрал на Запад. А с изменниками делу социализма у меня не может быть ничего общего.
– Продал?
– Не буду же я дарить псевдотворения. Отщепенец перешел на содержание империалистических разведок, а картина между тем поднялась в цене вдвое. С сахаром?
– Нет.
– Жратву не предлагаю, нечего. Что отмочила наша Ирина, уже в курсе?
– Ирина? Я еще не видел ее.
Женька как-то странно смотрит на меня.
– Не видел?
Мы полулежим в глубоких креслах у низенького столика. Изящнейшие светильники проецируют на столик приятную голубизну, мы же в тени, и только наши руки с приплюснутыми керамическими чашками периодически путешествуют из темноты на свет и обратно. Комната тоже в полумраке, и лицо Женьки напротив меня – будто одна из экспозиций в этом уютном минимузее редкостей и дефицита. Так уютно, что не хочется разговаривать.
– Проинформирую тебя, что выкинула наша Ирина.
Меня немного коробит его панибратский тон по отношению к Ирине, у нас даже крупное объяснение было по этому поводу. Сейчас у меня, правда, нет причин для ревности, но все же отчего-то покалывает. Увы, такова наша натура…
– Примчалась она с оператором к некоему заму в горисполком, камеру ему в морду, и этак на полном серьезе: «Иван Иванович, год назад вы дали слово избирателям, что такой-то объект будет сдан к такому-то сроку. Год прошел, а воз и ныне там, так поведайте нам, когда же, наконец… и по какой причине…» и так далее. Представляешь, Иван Иванович, откормленная номенклатура, в растерянности моргает в объектив и пальцами показывает ножницы – дескать, вырежете потом этот кусок. Ирина ему отвечает, что ничего вырезать не будет. «Тогда я вам ничего не скажу!» – говорит номенклатура, берет ручку и чертит на бумаге. Ирка подмигивает оператору, тот подъезжает и дает чертиков крупным планом. И все это пошло в эфир. В итоге Ирка срочно в отпуске, номенклатура в инфаркте, домохозяйки и заслуженные пенсионеры гогочут по микрорайонам. Как тебе нравится?
– Зарвалась, – говорю я. – Это ей не пройдет.
– Пройдет, – авторитетно заявляет Женька, – хотя и небесследно. Но я уже принял меры.
И он многозначительно подмигивает. Одно из чудес нашей действительности – участковый милиционер говорит с Женькой пренебрежительно и на «ты», дважды его пытались притянуть за тунеядство, и притом он действительно имеет возможность повлиять на решение администрации центрального телевидения. Я могу только в слабых контурах представить себе ту сложнейшую схему знакомств и блата, к которой подключен Женька, и не могу им не восхищаться. Хотя мое восхищение далеко от доброжелательства, но сейчас – пусть ему карты в руки. Ирину нельзя допустить до беды. Я тут бессилен, а Женька – может.
– Так ты ее еще не видел? – снова спрашивает он, и мне не нравится его вопрос.
– Нет, а что?
Женька уклоняется от ответа.
– А как твои поживают?
– Люськиного хахаля посадили, – говорю и тут же жалею о сказанном.
Женькина реакция мне известна заранее.
– И правильно! – зло говорит Женька. – Сажать их надо, дураков! Пусть не мутят воду. Вода и без того слишком мутная, чтобы умный человек мог спокойно рыбку ловить.
Я даю себе слово не спорить и, тем не менее, подключаюсь.
– Чем они тебе мешают?
– Мне они не могут мешать, – снисходительно говорит Женька, – щенки они все, даже самые почтенные. Попросту глупцы. Отвечу, отвечу, не скрипи зубами. Я считаю, что наше государство, – именно такое, какое есть, – идеальное государство для творческого интеллекта. Но именно для интеллекта. Не будем апеллировать к широким народным массам, поймем в виду меня. Я, старик, живу полностью в свое удовольствие. У меня хватает энергии и ума, чтобы добиваться всего, что пожелает моя прихотливая душа. Наша система не погрязла в экономике, как Запад, и потому экономическое положение личности не является определяющим в ее оценке. Между нами, что такое есть – я? Я авантюрист. Существует мнение, что место авантюриста – на Западе. Чепуха! Что найдет деловой человек на истоптанных тропах! Наше же государство, старик, достаточно идейное, чтобы под треск идей разрешить деловую инициативу. Государство слишком много энергии тратит на идейном фронте и достаточно ценит идейную консолидацию с ним, оно готово смотреть сквозь пальцы на некоторые экономические шалости единомышленни-ков. В этом государстве только дурак и лодырь не могут реализоваться. Если б меня прельщала партийная карьера, я бы уже был в ЦК. Игру надо любить и уметь в нее играть. Кто выступает против нашей системы? Те, у кого не хватило способностей проиграть какой-нибудь вариант самореализации. Они трещат о правах. А кому, кроме них, нужны эти права? Мне – не нужны, сохрани Бог! Вместе с этими правами к власти пришли бы трепачи – и залихорадили бы так прекрасно настроенную машину. Может быть, народные массы нуждаются в правах? Да это еще счастье правокачателей, что их суды судят, а не широкие сознательные народные массы. Или, скажешь, тебе они нужны, эти права? Ну, честно, тебе они нужны для счастливой жизни?
Я лишь пожал плечами.
– То-то, старик, счастье – иллюзия, а коли так, на кой хрен нужны какие-то права! Все эти борцы – они же сплошные комплексоиды…
– И ученые тоже?
– А почему нет? И потом, насколько я знаю, их не так много, их можно посчитать за флуктуацию, говоря научным языком, а простым – за исключение. И степень учености вообще не характеризует личность. А насчет государства, я тебе даже больше скажу. Мне интересно в нем. Интересно пробиваться сквозь его запреты и оговорки, даже надувать его, вон ведь какое оно могучее, а ты песчиночка, дрожишь на ветру, а звенишь как хочешь! В этом – интерес, это здоровое соперничество структуры и элемента. Признаюсь, жалею, что не жил в сталинские времена. В то время выжить – вот где нужно было крутиться, работать мозгами, бдеть каждую минуту! Сейчас-то что! Расслабляешься иногда, даже противно становится.
Я немного обалдеваю от его речей.
– Ты что-то порешь такое… Сам, поди, не веришь в то, что говоришь.
– Извини! – Женька разворачивается в кресле, нависает над столиком, тень от его бороды удлиняется и уродливо распластывается от одного угла столика до другого.
– Извини, это мое кредо. Я считаю себя настоящей личностью, потому что я один на один с этим государством, и я не хнычу, что оно меня обижает, бедненького, слабенького. Я с ним на равных. Где-то оно меня прижмет, где-то я ему наставлю рога, но в целом у меня с ним – деловое сотрудничество. Оно претендует на идею, и я обеими руками голосую за советскую власть, за каждую марксистскую аксиомку, с меня не убудет, я искренне заинтересован в процветании этого государства, именно идеологического, марксистского, потому что в нем мне все понятно. И государство ценит эту мою уступчивость, оно же понимает, что это уступка, что интеллектуальный человек не может всерьез принимать всю его идейную чепуху, рассчитанную на мозговой вакуум, и оно молчаливо благодарит меня, а дальше – от меня зависит, сумею ли я воспользоваться его благодарностью.
– Я считал моего отца циником, но что он в сравнении с тобой! Ты – апостол цинизма.
Женька снисходительно усмехается.
– Ты слишком долго якшался с правокачателями, от них у тебя привычка вешать ярлыки. Но я не возражаю, я только скажу тебе, что если ты не выживешь, поломаешься, государство будет ни при чем. Если ты слаб, то тебе и должно сломаться, святое дело государства – поломать тебя, если в тебе нет собственной силы. Трагедию наших интеллигентов я так понимаю: честолюбия – навалом, а силы для его реализации – крохи. Диспропорция. Вот ты…
– Женька, – перебиваю я. – Принципиально с тобой не спорю. Я по делу пришел.
Лицо его изображает изумление.
– А я только что подумал, чего это ты меня за бороду не хватаешь? А, кстати, как ты находишь мою бороду? Некоторые говорят, что я похож на Владимира Соловьева. Еще кофе?
– Остыло уже…
Женька хватает обеими руками кофеварку.
– Сойдет. Так чего тебе, старче, надобно?
– Халтура нужна. Срочно.
– В каком диапазоне?
– До четырех тысяч.
– Ого! – уважительно произносит Женька. – Думаем, соображаем, догадываемся. Затевается квартирное дело? Угадал? А раз квартирное, значит, женишься.
– Женюсь, – отвечаю я неохотно.
– Так…
Странное дело, Женька взволнован, я знаю примету – он начинает водить усами, как таракан.
– Значит, женишься. А у Ирины жить не хочешь?
Я молчу. С Ириной мне еще предстоит встреча, и я сам должен ей все сказать. Женька же немедленно позвонит ей. И я молчу.
– Ты прав, – он брезгливо морщится, – не кофе, а помои. Обойдемся? Неохота по новой заваривать. Значит, халтура…
Он смотрел на меня, то ли вспоминая что-то, то ли обдумывая, но взгляд его все же странный…
– Знаешь, старик, – говорит он с необычной серьезностью, – я, похоже, проиграл пари. Самому себе проиграл. Ну, это не по делу… Можешь заранее меня благодарить. Отдаю тебе свое кровное.
Он через столик хлопает меня по плечу, и у меня с плеч гора, в делах Женька человек верный.
– Рыбалку любишь? – спрашивает он неожиданно.
– Не выношу.
– Придется полюбить, и не когда-нибудь, а с завтрашнего утра. Сиди, я сейчас.
По стуку передвигаемых стульев и хлопанью дверок понимаю – полез на антресоли. Не очень-то соображаю, при чем здесь рыбалка, но если Женька говорит, значит, по делу. Он появляется со складным удилищем и туго набитым мешочком.