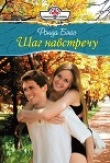Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
Я даже рассердиться не могу, так неожиданно его заступничество за Ирину, но оставить вызов без ответа – значит, обидеть Юру, а я не хочу его обижать.
– Есть одно обстоятельство, хорошо знакомое всем поэтам, – любовь. Я ответил?
Юра не удовлетворен, дескать, любовь – любовью, а порядочность, где она? Это сквозит в его взгляде, и я рад, я чертовски рад, приятно обнаружить в людях неожиданные достоинства. Хотя здесь особый случай. Ирину все любят. Не знаю, за что. Друзья любят ее, конечно же, иной любовью, чем я любил, и вот для этой, иной любви я не вижу оснований. Ее увлечение телескандалами? Ее одержимость работой. По-настоящему только я мог это ценить, хотя ее работа ощутимо обкрадывала меня, обкрадывала наши вечера, а то и ночи. Мне вовсе не нужна была Ирина-деятель. Но она, пожалуй, единственный человек в моей жизни, кого я не рискну назвать халтурщиком.
В вагоне метро я кричу на ухо надутому, насупившемуся поэту:
– Скажи, за что все любят Ирину? Он, как ни странно, не удивлен.
– Она человека с делом не путает, – отвечает Юра. – Она к человеку относится, как к человеку, и все.
– Не понял, – говорю я ему в самое ухо.
– Ну, например, ей наплевать, какие я стихи пишу. Я ей важен сам по себе. Я бы мог и вообще их не писать.
Я киваю головой, что понял, и пытаюсь вспомнить Ирину в какой-нибудь ситуации, где можно было бы уследить это ее достоинство. Само по себе оно мне представляется сомнительным, – человека от дела не отделишь, – но, может быть, женскому сознанию доступно такое?
Да, что-то подобное в Ирине я замечал, могу вспомнить, как она защищала людей, которых защищать и не стоило бы.
Итак, Ирину все любят, и вот Юра-поэт явно дает мне понять, что я негодяй, если надумал жениться на другой. Мне и хочется объяснить Юре, и в то же время все противится во мне говорить в метро ли, на улице, с Юрой-поэтом или с кем-нибудь еще, о другом, необычном мире, где живут отец Василий с дочерью Тосей, и благородный дьяк, безнадежно влюбленный в мою (и только мою) поповну, где пребывает Бог. Мне кажется, Он только там и пребывает, где Ему еще быть! В нашем мире пустых телодвижений Его быть не может, наш мир надежно защищен от Него, мы живем в хитро устроенном богоубежище! В детской сказке читал, как искусный фехтовальщик так ловко вертел шпагой, что капля дождя не могла упасть на него. Мы тоже научились столь искусно фехтовать делами, словами, всей жизнью нашей, что Богу не пробиться к нашим душам; мы прочно защищены от человеческого идеала, что пребывает где-то над нашими головами, лишь крохотные островки в море житейском, вроде обители отца Василия, – случайные проколы в куполе всеобщего богоубежища, лишь там совершается, что предназначено было всему человечеству.
Я отношусь слишком серьезно к миру отца Василия, чтобы говорить об этом с Юрой. На эскалаторе перехода я, тем не менее, зачем-то спрашиваю его.
– Ты крещеный?
Юра явно захвачен врасплох, и я уже жалею о своем вопросе. Юра смотрит на меня подозрительно, он чем-то насторожен.
– Допустим, – отвечает он, и я, отвернувшись, еле сдерживаю улыбку. По тону его догадываюсь, что Юра, ко всему прочему, еще и поигрывает в религию.
– В какую церковь ходишь? – спрашиваю напрямик.
Юра мнется, но у меня кое-какая репутация, я как-никак с диссидентами якшаюсь, и Юра отвечает:
– В Сокольники.
– И это серьезно?
Вопрос лишний. Серьезного ничего у Юры-поэта быть не может, всего лишь попытка компенсации за социальную неполноценность. Юра играет, заигрывает, Юре хочется остренького в невозможной пресноте его жизни. Я понимаю его, я его очень даже понимаю и не удивлюсь, если он выдерживает посты, благо в Москве есть чем заменить постозапретную пищу, это ему не сибирская тьмутаракань.
– Возьми меня как-нибудь с собой, – говорю я Юре и не успеваю понять по его лицу, как он принял мою просьбу.
Мы спешим к подходящему поезду, но нам в разные стороны, и я кричу ему на прощанье:
– Я тебе завтра позвоню, договоримся!
И опять не успеваю понять, согласен он или нет. Мелькает сквозь стекло Юрино лицо, и вагон уносится вдоль перрона в тоннель, над которым мигает табло с секундами.
Дома меня ожидает на столике пухлая папка листов – моя последняя халтура. Покончив с ней, я покончу и с халтурой моей жизни. Еще никогда я так отчетливо не сознавал и необходимость, и возможность другой жизни. Я так ясно ее представляю, другую жизнь, что меня даже лихорадит немного от нетерпения. Но я ложусь и приказываю себе спать, чтобы завтра проснуться раньше и сесть за работу. Это пока единственная реальная гарантия моей будущей новой жизни. Я желаю себе хороших снов.
* * *
Спасибо тебе, любимый мой, спасибо тебе за письмо! Я такого и ждала! Я знала, что получу его! Это почти так, будто бы мы встретились, но только почти, потому что вот уже вчера мне труднее было утром вспомнить твое лицо, а сегодня труднее, чем вчера, и мне становится немного страшно. Я будто и помню тебя, но как начинаю припоминать подробнее, все расплывается перед глазами, а ты пишешь, что еще не скоро приедешь… Милый, ну, зачем нам столько денег! И папа вот говорит, что есть у него две с половиной тысячи, и что, может быть, тебе совсем не надо так много работать… Мне с каждым утром все трудней вспомнить, как ты смеешься или сердишься, а все время в глазах только силуэт, как было, когда ты у окна стоял ночью, а за твоей спиной луна висела над озером…
Расскажу тебе, что случилось у нас третьего дня в воскресенье в храме. Я на клиросе была и видела, как вошел в храм чужой человек, совсем старый уже, он на машине приехал, я потом узнала. Он долго стоял просто так, я думала, посмотреть пришел. А потом он папу позвал и о чем-то говорил с ним, и папа повел его на исповедь, учил крест накладывать и Писание целовать. Исповедовался он долго, и когда я потом взглянула на папу, он весь бледный был, а причащал когда этого человека, то у него руки дрожали, и когда этот человек выходил из храма, папа стоял, как каменный, и глаза у него были такие страшные, что я испугалась за него. И сегодня папа какой-то сам не свой. Я его ни о чем не спрашиваю, все равно не скажет, но вчера вечером я плакала, потому что папа сидел весь вечер у окна и молчал, а когда я легла, он долго молился, что-то шептал. И я все думаю, что рассказал о себе человек, что папа стал больной, он ведь столько уже знает о людях, что, если бы мне его знание, я бы с ума сошла! Тот человек был обыкновенный, ничего особенного в лице не было, я хорошо его рассмотрела. Володя-дьяк говорит, что, должно быть, невиданные грехи открыл папе приезжий человек. А папа, ты знаешь, он очень добрый, и я думаю, если очень страшные грехи отпускать ему пришлось, то мучается нынче он от того, что душой не смог отпустить. Правда, это не я так думаю, а Володя-дьяк.
Милый мой, мне тяжело без тебя. Я знаю, что так надо, что тебя нет, но зачем нам много денег, я хочу, чтобы ты был!
Я молюсь за тебя каждый день, тебе, может быть, это все равно, что я молюсь, но ты считай, что я просто думаю о тебе каждый день, и это тебе не все равно, ведь правда?
Я вот пишу: храни тебя Господь! И это значит, я хочу, чтобы все у тебя было хорошо, и я знаю, что все будет хорошо, потому что я этого очень хочу!
Жду тебя!
Твоя.
3
Я не знаю человека более надежного, чем Женька Полуэктов. Он не просто надежный, он идеал надежности. Откуда берутся такие люди? Это для России какой-то новый антропологический тип, потому что нормальный русский немыслим до такой степени деловым. Они, полуэктовы, придумали новую профессию – проворачивание дел, они сумели изблатовать всю нашу строгую, такую серьезную систему, подобрали к ней ключик из чистого золота. Я в восторге от таких людей, и мне искренне жаль наших милых русских разгильдяев, которые обречены на вымирание в новом, оперативном климате полуэктовых. Кое-кто из них, разгильдяев, тоже разохотился до кормушек, но так примитивно пробивается лбом к привилегированному пойлу, что обрастает, как шерстью, всеобщим презрением – он не умеет маскироваться, пробивать себе дорогу чужими локтями. К тому же они все действуют поодиночке или жалкой кучкой, и если кто-то один дотягивается до цели, то всех остальных тут же отбрыкивает ногами. А чаще всего успех ему обеспечивают благоразумно расступившиеся полуэктовы. Пропускают, потом берут в мягкое колечко и устраивают деловой хороводик вокруг вновь образовавшейся номенклатуры: «А мы просо сеяли, сеяли! В нашем полку прибыло? Прибыло!»
Нет, я не осуждаю Женьку. Чем можно жить в этой системе? Бороться с ней? Во имя чего? Вот и остается – доить ее, стерву, раздаивать, чтоб вся она, от головы до хвоста, превратилась в одно податливое, многососковое вымя.
Не нравится? Брезгуешь? Женись на поповской дочке и постигай высоты экзальтированного духа.
Я лично не верю ни во что радостное в этой стране, да и во всем человечестве. Сотворяется новая цивилизация, к которой неприменимо ни одно из прежних понятий; она, возможно, оставит существовать резервации с сентиментальными дураками, с попами и поповскими дочками, но выработает по отношению к исключениям и чудачествам такую несокрушимую иронию и снисходительность, что ей не только не придется сражаться с рудиментами, но, напротив, они будут записаны в Красные книги и охраняться законом, как какой-нибудь сумчатый медведь или живородящая цапля.
В рудиментарности своей найдут себе удовлетворение все те, чей комплекс неполноценности окажется непреодолимым в условиях ежечасно обновляющейся действительности, кто выпадет из ритма времени, кто потеряет скорость в погоне за благами, кто не удержит в зубах посланный Богом кусочек сыра.
И я знаю, мне суждено оказаться именно среди «отставших, уставших, ведущими не ставших». На людях я, конечно, буду держать марку, состраивать хорошую мину, как бы ни была плоха моя игра, но сам перед собой признаваться в зависти к современникам, жизнь которых – восторженный галоп с препятствиями, как и ныне какой-то частичкой души я завидую Женьке Полуэктову. Зависть эта бесцельна, я не только не могу обрести Женькиного амплуа, но у меня нет и ни малейшего желания к тому. Желанья нет, а зависть есть, и в этом моя суть.
Женька – гигант! Он как сквозь землю провалился на целую неделю, но объявился именно тогда, когда я уж было засомневался в нем. «Привет, старик!» – возгласил он по телефону. Терпеть не могу этого обращения, но на душе моей стало спокойно.
Редакция, где он выбивал мне калым, самая что ни на есть патриотическая. Но и там у Женьки свой человек, «полуэтот», без которого даже патриотические издания обойтись не могут.
И вот у меня в одном кармане договор, а в другом – солидный аванс. Мне кажется, я мог бы все это проделать и сам. Главы из будущей книги сделаны на совесть, и я мог бы миновать Женькину номенклатуру. Но я знаю и другое, – сегодня, сейчас ни договора, ни аванса у меня еще не было бы. Тут явное преимущество Женькиной системы. Его начальник всегда подстрахован – самим Женькой, в случае чего Женькин клан найдет ему другое место, не менее номенклатурное. Поэтому он более свободен в принятии решений, и, следовательно, более производителен. Здесь не только замкнутый круг, здесь приговор идеализму.
Все это было бы грустно, если бы не было реально, а реальность требует к себе уважения и признания.
С Женькой мы встречаемся у метро «Каширская» и следуем в гости – к герою моей будущей книги. Мы отмечаем удачу, и по этому поводу у меня в обеих руках сумки. Прохожие, честные советские люди, заинтересованно поглядывают на мои сумки, откуда с наглядностью выпирают нетиповые горлышки буржуазных бутылок, буржуазный сервелат в сверкающей обертке, и я подозреваю, что некоторое несоответствие между содержимым моих сумок и мной самим, заурядно «нашенским», советским от ботинок до прически, должно вызывать нормальное подозрение на мой счет. Я чувствую себя фарцовщиком, торгующим индийскими презервативами.
Но рядом Женька. Солиден и скромен. Очки в изящной оправе. При этом одет Женька искусно просто. Мы идем в гости к простому советскому человеку и демонстрировать ему парижские моды неуместно, мы будем демонстрировать интеллект и принадлежность к сильным мира сего, чтобы сердце его зашлось радостью общения с «писателями».
Женька на подъеме, он сияет, более, чем обычно, подвижен, размашист.
– Итак, старик, ты уходишь в народ.
Сквозь очки Женькины глаза смотрятся как в проемах долговременной огневой точки, в них уверенность и въедливость.
Я жду, когда он пояснит свой намек. Мы стоим в хвосте десятиметровой очереди на автобус.
– Честно тебе признаюсь, старик, всегда считал, что Ирина не для тебя.
– А для кого?
– Для меня! – отвечает Женька, и тщетно я пытаюсь пробиться к его зрачкам; небо отсвечивает в стеклах очков и перекрывает глаза.
– Мы бы с ней такими делами ворочали! Ирка – это же не просто энергия, это аккумулятор. Ты, старик, смотрелся рядом с ней как балласт. А вот поповская дочка – это как раз для тебя. Ты, надеюсь, понимаешь, что я не принижаю тебя и не ущемляю твоих достоинств.
Я неопределенно киваю головой, я еще не решил, в каком месте оборвать Женьку.
– Альянс с религией излечит тебя от наклонности к диссидентству; в религии, как это ни парадоксально, всегда присутствует здравый реализм, то есть именно то, чего тебе не хватает.
– А Ирина? – провокационно спрашиваю я. Женька увлечен и не улавливает моей интонации.
– Ира – это женщина-воин, она только не нашла еще своего поля сражения, этим и объясняются ее рукопашные потасовки на телевидении. Ты знаешь, я бы мог всю эту историю похерить, но она не захотела, до нее, кажется, дошло, наконец, что она не для того создана.
– А для чего? – будто невзначай бросаю я, протаптываясь к подошедшему автобусу.
Когда изрядно помятого Женьку притискивают ко мне в автобусном проходе, он ворчит зло:
– Говорил тебе, возьмем тачку.
Я искренне наслаждаюсь, спесь его сбита, индивидуальность затерта, сквозь очки сверкают оскорбленные глаза. Холеная борода смотрится совсем нелепо в толчее… Мне хочется сказать что-нибудь про объективную реальность, которую следует принимать и уметь вписываться в нее, но ничего острого на язык не подворачивается. Я еще не успел обдумать Женькину радость по поводу моего разрыва с Ириной. Вообще все, что связано с Ириной, в последние дни отступило от меня, я как-то отупел ко всему, что, может быть, как раз и требовало моего внимания, я даже запретил себе думать об Ирине, о ребенке, который… чей? Эта тема стоит поперек моего пути к новой жизни, и я надеюсь потаенной надеждой, что все как-то разрешится само собой, и настежь откроется мне дорога в мирок отца Василия, и потому все, нынче окружающее меня, я воспринимаю, как временное, почти как мираж, за которым только и начнется нечто настоящее.
Дворами и сквериками я привожу Женьку к облупленной пятиэтажной коробке, где проживает герой моей будущей книги. Нас ждут, мы высмотрены из окна, и на втором этаже замызганного, провонявшего кошками подъезда распахивается дверь, обитая черным дерматином. Нас встречает празднично одетая жена моего героя Полина Михайловна, худая, высокая женщина, лет за шестьдесят, но энергичная, подвижная, и, как мне кажется, от постоянной озабоченности на лице – некрасивая. Но есть одно своеобразное движение руками и плечами, как бы вместо тяжкого вздоха усталости и отчаяния, это, скорее, старая привычка, но она мгновенно располагает к ней, вызывает сочувствие. Весь вид этой женщины – в морщинах, с тяжелой мужской походкой, с большими мужскими руками, – как печальный слепок судьбы, которой не позавидуешь.
Ко мне она уже привыкла, я почти свой, но, увидев за моей спиной Женьку, теряется, делается угловатой, деревянной, и я ее понимаю: Женька – мэтр, я при нем «девятка»! В прихожую к нам выплывает мой герой – в парадном костюме, иконостас наград до пояса, на лице торжество, достоинство и абсолютная трезвость, – до нашего прихода к рюмке не притронулся.
Я с трудом уговариваю Полину Михайловну взять у меня сумки с вином и продуктами. Нас проводят в комнату, где уже накрыт стол и за столом сидят старшая дочь Андрея Семеновича с мужем и еще трое незнакомых мужчин, впрочем, в одном из них я узнаю завсегдатая рыбачьего пруда Царицынского парка, он с улыбкой старого знакомого тянет мне руку. Я представляю Женьку всем присутствующим как сотрудника редакции, мы усаживаемся за стол, причем Женька демонстративно отказывается от почетного места в торце стола и почти насильно усаживает действительного виновника торжества, сияющего, сверкающего, звенящего металлом на груди, и я, знающий про каждую из его наград, проникаюсь вдруг к моему герою совершенно новым почтением. Женька играет представителя благодарного поколения детей, чтящих подвиги отцов. Играет в общем-то противно, но на уровне спроса, и уже через пять минут становится центром внимания. Хозяйка между тем торопливо осуществляет замен вин, колбас и сыров, и Женьке приходится конкурировать с зарубежным сервелатом и виски в фигурных бутылках…
Самое большое счастье на лице у дочери героя, она просто сияет от внезапной возможности гордиться своим отцом, и ее радость делает почти счастливым и меня. Я, конечно, не забываю, что я халтурщик, но ведь счастливы все в этом доме, и это моих рук дело…
Женька уже водрузился над столом с бокалом в руке, и все просто почтительно, в полном смысле слова, затаили дыхание.
– Друзья! – начал Женька взволнованно. – Не позже этого года у нас в стране свершится еще одно справедливое дело. Страна узнает о доселе безвестном герое, имя которого должно быть и будет вписано в историю Великой Отечественной войны. Дорогой наш, Андрей Семеныч!..
Еще мгновение, и у Женьки на глаза навернутся слезы. Голос дрожит, а мне – противно ли? Не пойму. Как соучастник, я не имею морального права отмежевываться от Женьки, но если бы сейчас его здесь не было, я, наверное, и сам поддался бы общему настроению, только без хинного своего цинизма и двоедушия.
– …Дорогой наш, Андрей Семеныч! Ваша жизнь – это учебник жизни для нас, невоенного поколения. Своим подвигом, сохранившим для нас нашу советскую власть, вы явили пример…
А ведь потрясающая истина в Женькином трепе! Мужики, клавшие головы на фронте, сохранили советскую власть для Женьки, для всех женек, которые сегодня и пользуются системой в свое удовольствие. Все прочие – хоть в чем-то, хоть как-то – недовольны; этому недовольству я знаю цену, это – брюзжание, свойственное всем временам и системам, это не протест… Но Женька – доволен!
– … Долгих лет вам, дорогой Андрей Семеныч! Жене вашей и детям вашим счастья и успехов!
Все поднимаются. Звякают бокалы. Смущенный герой расплескивает по столу виски, всех благодарит, заглядывая в глаза каждому, – у всех в глазах радость, гордость и некоторая ошарашенность – от Женькиного тоста.
По левую руку от меня сидит зять Андрея Семеныча. Между делом я узнаю, что он чиновник весьма высокого ранга, и догадываюсь, что переживает он нынче приятную метаморфозу своего отношения к тестю: левая, менее подконтрольная рука еще сохраняет некоторую небрежность в жестах, но правая уже переориентировалась, спешно тянется с бокалом к герою дня. Глаза уже отрабатывают новое выражение – этакое поощрительное сетование: дескать, безобразник, такие подвиги от нас скрывал, мы бы и сами оценили! По отношению ко мне он держится меценатом, партийно похлопывает по плечу, он ведь и здесь не просто зять, но и представитель… так сказать от имени…, потому что по должности своей он всегда представитель и от имени…
Рыбак с Царицынского пруда восторженно таращится, он польщен приобщением к высокому кругу. Я догадываюсь, что он тоже участник войны и завидует своему приятелю, но зависть его приятна мне, в неожиданном взлете Андрея Семеныча он видит торжество справедливости к их исчезающему сословию фронтовиков.
Я же чувствую себя Хлестаковым. Но будь я проклят, если немного – и писателем. Чувствовать себя писателем – это почти ощутить воспарение, какую-то особую, активную отстраненность от реальности. Во всяком случае, что-то неотмирное должно испытываться – хотя бы в такие моменты…
Третий тост – мой. Он мне дается с трудом. Женька мешает. Он мешает мне говорить искренне, я сбиваюсь на общие фразы и кончаю так:
– Однажды в жизни человек проверяется по всем своим качествам. Для вас, дорогой Андрей Семеныч, такой проверкой была война. Дай Бог каждому пройти свое испытание так же, как прошли вы!
Я понимаю, это только выверенные штампы, которые к жизни подлинной имеют такое же отношение, как я имею к писательству. Мне очень хочется сказать что-то сердечное своему герою, и я, вместо слов, которых все равно не найду, снимаюсь с места, подхожу и крепко обнимаю Андрея Семеныча, чокаюсь с ним, мы выпиваем единым махом. И он сжимает меня своей единственной рукой. Все хлопают, кричат. На глазах жены и дочери слезы… Я бросаю взгляд на Женьку, у него тоже радостное лицо, и мне хочется думать, что радость его искренняя, а почему бы и нет, железный он, что ли?
Проходит какое-то время, я уже всех присутствующих знаю по имени и по профессии, и про семейное положение каждого. В тесной печурке уже бьется огонь, и на позицию девушка провожает бойца, и расписные Стеньки Разина челны выплывают из-за острова на стрежень… Не первая рюмка уже опрокидывается на скатерть и не первая вилка летит под стол.
Осоловевший, я апеллирую чувствами к Женьке, и Женька, сукин сын, показывает на часы.
Но через стол тянется ко мне рыбак «Мишка», как он приказал себя называть, хотя он старше моего отца.
– Ты чо мне скажи, когда книжку закончишь, тебе ведь за это заплатят, поди, прилично?
Я не усекаю опасности темы, киваю самодовольно.
– А если не секрет, сколько?
Я настораживаюсь, но взгляд «рыбака» состоит из одного честного любопытства. Я мнусь, оборачиваюсь к Женьке и чувствую тишину, родившуюся в комнате. Интересно всем, даже номенклатурному зятю героя, и самому герою, и его жене. Я ощущаю неудобство, что-то не вписывается эта тема в обстановку, но нахожу выход, тычу перстом в Женьку:
– Он лучше знает. Сколько заплатит, столько и получу.
И все вперяются в Женьку. Ему не сладко, я это вижу по его морде, но морда у него тренированная.
– Зависит от многих обстоятельств, – отвечает он деловито и с достоинством, – от тиража, скажем, то есть – сколько книг будет выпущено. Ну, и других обстоятельств: бумага, формат.
Номер не проходит, «рыбак» нетерпеливо перебивает:
– А самое большее – сколько? И еще большая тишина обступает Женьку. Он двигает плечом, дергает бородой и выдавливает:
– Ну, думаю, тысяч шесть…
По тому, что Женька занижает цифру, я соображаю, насколько опасна эта тема. Я как-то одним взглядом вижу сразу всех, у всех легкий шок, а всплеск рук и хлопок ладошками – это жена героя выражает свое изумление – воспринимаю, как пощечину.
– Шесть ты..ы..ы. сяч! – лепечет рыбак. Он уже не смотрит на меня. И мой герой опустил глаза в стол, и мне не известно, какие чувства пытается он подавить в себе. Все меняется за столом, эту перемену я вижу в насторожившемся лице Женьки.
– Шесть тысяч! – вздыхает Полина Михайловна.
– Да-а! – многозначительно тянет рыбак. – Вот, Андрюха, лучше б дали тебе в лапу эти шесть, чем славу наводить.
– Как же это так получается? – стонет Полина Михайловна. – Он, значит, воевал, кровь проливал, и никто ему таких денег не предлагал, а книжка об том вон каких денег стоит!
– Воронье! – уже почти рычит «рыбак», а мужики рядом кивают согласно и не смотрят ни на меня, ни на Женьку. А вся моя надежда на него. Он явно растерян, я впервые его вижу таким.
– Но вы же понимаете, – старается он сохранить хорошую мину, – написать книгу это ведь не просто, этому учатся…
– Ну да! А фрица из окопа было легче утащить? – Это уже произносит мой герой, мой скромный и неловкий Андрей Семеныч. Лицо его покраснело, глаза злые, кулак на столе. Я вижу, что он пьян.
– По закону, деньги пополам! – стучит рыбак по столу.
– Ну что вы говорите! Какой закон? Папка, не слушай их!
– Чего мне слушать! А обидно мне или нет?
– Правильно! Обидно! Деньги пополам! Один жизнью рисковал, а другой на нем деньги зарабатывает! Такой закон есть?
– Перестаньте! – Это милая дочка пытается образумить отца и всех остальных.
– Эх, Андрюха! – не унимается «рыбак». – А ну, прикинь, что б ты на эти деньги сотворил!
– Много чего, – бормочет Андрей Семеныч, но жена сует ему под нос дулю.
– А вот – не хочешь? Сотворил бы! Восемь лет из бутылки не вылезал, а я вкалывала, как лошадь…
– Мама! – громко, отчаянно кричит дочка.
Женька кивает мне на дверь, мы поднимаемся одновременно, кто-то робко трогает меня за руку, но я высвобождаюсь и в два шага преодолеваю расстояние от стола до двери. В прихожей мы с Женькой хватаемся оба за рычаг замка, мешаем друг другу, и тут между нами возникает дочка Андрея Семеныча.
– Подождите! Пожалуйста. Не уходите. Это все так глупо! Но вы должны понять. Мама работала на двух работах, а когда болела, у нас даже хлеба не было, одна картошка… Вы не должны обижаться. Я не знаю, что сказать…
И я не знаю, что ей сказать.
– Мы понимаем, – воркует Женька, – потому и уходим. Мы понимаем. Пусть все успокоятся, а потом уладим.
Врет Женька, ничего потом не уладится. Я быстро пытаюсь подсчитать, сколько успел истратить из аванса, – ведь придется возвращать…
Дочка плачет, припав к чьему-то пальто на вешалке. Женька делает шаг к ней, чтобы взять ее за плечи, но руки повисают в воздухе, и Женька поспешно причесывается, потому что в прихожей появляется зять героя.
– Вот, что делают с людьми деньги, – говорит он с партийной скорбью в голосе.
– А, может, не деньги, – возражаю угрюмо, – а отсутствие их?
Муж успокаивает жену. Женька подталкивает меня к двери, а я отчего-то сопротивляюсь. Я еще и пьян основательно и не могу принять никакого решения. Вдруг поворачиваюсь к супругам спиной, вытаскиваю из пиджака пачку денег и сую в карман пальто на вешалке. Женька резко и зло, но молча хватает меня за руку, я оскаливаюсь по-собачьи – и рука моя пуста. Женька выталкивает меня за дверь, тянет по лестнице вниз, и лишь на улице у подъезда мы останавливаемся.
– Дурак! – говорит Женька. – Ты что ж думаешь, они возьмут твои деньги? Дурак сентиментальный! Ты обрек их на унизительную процедуру – возвращения твоих денег.
– Не возьму.
– Дважды дурак! Они будут унижаться перед тобой, пока ты не простишь их и не возьмешь. И ты возьмешь! И вот тогда они по-настоящему тебя возненавидят.
– Женька, тебе не противно жить?
– Ясно! – констатирует Женька. – До такси дойдешь?
– Я хочу в Урюпинск.
– Еще куда? К маме с папой не хочешь?
– Хотел бы к маме. Но ей не до меня. А к папе не хочу. Он такой же, как ты. Я вас обоих ненавижу!
– Понятно, – бурчит Женька и ведет меня куда-то.
– Кто-то из нас двоих сволочь. Ты или я?
– Во всяком случае, – спокойно отвечает Женька, – один из нас дурак, и это ты. И всегда будешь дураком.
– А ты всегда нет…
Женька оставляет меня и кидается на проезжую часть, такси чуть не сбивает его с ног. Он что-то говорит шоферу, сует ему деньги, открывает мне дверцу, и я плюхаюсь на сидение. Такси тут же рвет с места, и я не успеваю даже спросить, почему Женька остался.
– Куда едем? – спрашиваю шофера, и он называет мой адрес.
Все правильно. Мне нужно домой. Мне противно жить, но все-таки лучше в своей квартире.
В такси меня должно бы укачать, развезти, но чем ближе к дому, тем трезвее голова, только наплывает такое отчаяние, что мне страшно вползать в свою пустую квартиру. И что в ней делать? До вечера еще далеко, спать нельзя, иначе все пакости настроения обрушатся на меня ночью. Я всматриваюсь в улицы, узнаю свой район и решаюсь, наконец:
– Сейчас от светофора направо. Поедем в другое место.
– Поедем, – равнодушно откликается шофер. – Куда?
– Дави по кольцу, а там подскажу, не помню улицу.
Торопливо лезу в карман и с радостью обнаруживаю завалявшийся червонец. Если Юры-поэта нет дома, это очень вероятно, мне хватит до какого-нибудь следующего адреса. Надо бы, конечно, позвонить, прежде чем ехать в гости, но я полагаюсь на удачу.
В такси открыты все окна, я высовываюсь и заглатываю встречный воздух. От скорости он прохладный и кажется чистым; даже когда бесшумная «Чайка» выхлопывает мне в нос высококачественный перегар, я не обижаюсь, не фыркаю, всем воспитанием я приспособлен к машинному перегару, он действует на меня как степной ветер на сына степей. Я же сын города, я подасфальтный шампиньон, я мутант машинной цивилизации. Мне можно и в рожу плюнуть, я не обижусь, потому что я еще и социальный мутант!
И вот, я пытаюсь понять трезвеющей головой, что произошло в доме моего героя. Обидели меня или нет? Конечно, обидели. Но имею ли я право обижаться? С деньгами, действительно, получилось глупо. Было бы справедливо – все деньги пополам, но это жест, а не нравственный поступок. Я бы так поступил только по принуждению, а в сущности я солидарен с законом, который не обязывает меня к такому жесту, даже напротив, гарантирует мне спокойствие совести.
Но честно говоря, я нахожусь на стадии износа, точнее сказать – я так перестроился на другую жизнь, что вся суета, все передряги этой жизни скоро будут отскакивать от сознания, как поп-музыка за стеной у соседей…
Согбенная тихонькая женщина открывает мне дверь. Это мать Юры Лепченко. Меня она не узнает. «Юра работает!» – предупреждает она и ведет меня к его комнате. Ясное дело, когда сынок «работает», мама не рискует стучать к нему, берите, любезный, на себя смелость. Я брякаю костяшками пальцев по двери и тут же открываю. Поэт лежит на тахте, задрав ногу на ногу, в руках тетрадь и ручка. Скажите пожалуйста, и вправду работает! Поэт при моем появлении вскакивает с тахты с таким видом, будто я застал его за неприличным занятием.
– Творишь? – спрашиваю я и нагло сую нос в раскрытую тетрадь. Целая страница сплошного амфибрахия! Юра поспешно захлопывает тетрадь.
– Понятно, секрет фирмы. – Я жму ему руку и уже искренне извиняюсь. – Понимаешь, что-то тошно стало, ты уж извини, что без спросу.
Юра поспешно убирает на полку причиндалы творческого процесса. Книжные полки у него раскиданы по стенам – так модно. В проемах, конечно, Цветаева, Пастернак, Блок и, поди же, Гумилев! В восточном (!) углу, конечно, иконы, на одной из полок подсвечники, заплывшие стеарином. Все, как у нормальных советских людей.
– Есть? Пить? – спрашивает Юра.
– Сыт и пьян. Слушай, если с похмелья в церковь идти, это большой грех?
– Лучше не ходить, – деликатно отвечает Юра.