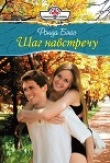Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Еще только четыре… Я продышусь…
Юра подозрительно косится на меня.
– Вообще-то я сегодня иду…
– Ну и отлично. Сваришь мне кофе перед выходом – и порядок. А что там сегодня?
– Обычно. Служба, потом проповедь… беседа…
– Это то, что надо. Так берешь с собой?
– Ну, если ты будешь в норме…
– Буду. Рассол есть?
– Лучше дремани, открою окно.
Я не очень-то уверен, что это не блажь у меня. Похоже, что я просто куражусь. Решаюсь упасть на тахту по Юриному совету, он распахивает окно и выскальзывает из комнаты. Я медленно опускаюсь-проваливаюсь в дремоту, без всяких видений, и пребываю в этом состоянии, кажется, довольно долго, потому что, когда вновь прихожу в себя, в окне солнца нет, оно за башней, что на другой стороне пустыря. И тут же в комнату влетает Юра.
– Проспали. Надо же! Проспали.
Оказывается, он в другой комнате занимался тем же, что и я, – дрых. На часах уже шесть. Юра некоторое время пребывает в нервной задумчивости – имеет ли смысл ехать или уже поздно? Все его маленькое личико напрягается и становится совсем детским. Наконец, он расслабляет брови и говорит спокойно:
– Поедем только на проповедь. Душ – хочешь?
– Ничего в жизни так не хочу.
Юра ведет меня в ванную, сверкающую импортной плиткой (наверняка не обошлось без Женьки Полуэктова!), знакомит с импортными кранами, выдает полутораметровое полотенце.
Струя колотит по темени почти ледяной дробью, дыхание рвется вон, но когда привыкаю, вместе с дыханием возвращается радость жизни. Это радуется тело, осознавшее себя в сопротивлении холоду, и я ощущаю его, свое тело, лишь как принадлежащее мне, но все же не мое, с моим «я» полностью не сливающееся. Это странное ощущение, будто живешь рядом с самим собой, и душа и тело не пришли в соответствие друг с другом. Но вот я бодр и пружинист, и это почти заглушает горечь мыслей, которые тоже проснулись и лениво шевелятся в мозгу. Тело мое готово причаститься иным мирам, а душа – какой лопатой ее выскоблить?
Юра торопит меня, и все же я успеваю отметить, что он как-то преображен, в движениях уверенность, в глазах отрешенность. Дивлюсь, но не верю: Юра не может быть верующим, это невозможно! Тогда что это?
– Крест на тебе есть? – спрашивает он.
Я только ухмыляюсь. Нешто я не интеллигент, нешто я могу без креста! На мне не просто крест, а золотой, и на золотой цепочке, и освящен он не где-нибудь, а в Загорске. Вопрос Юры наивен, как если бы он спросил меня, читал ли я хатха-йогу и Кафку.
Однако в метро, по мере нашего приближения к цели, я ловлю себя на том, что не хочется умничать, что хотелось бы почистить мозги от всех ухмылок, которые отравляют чистоту восприятия, не дают выжить ни одной светлой мысли. Но воля – она на что? Ведь обязан же я подойти к храму с предельной чистотой души. И я заставляю себя думать о чем-нибудь светлом и простом. Я говорю сам себе: я хочу думать о светлом и простом! Тут бы и подумать о поповской дочке, но увы – там все не просто и не светло, и раскаяние входит в душу словами: «дурак» и «подлец»! Ну, почему было не начать новую жизнь с чистоты, почему не остановился в неверном шаге! Ведь как сейчас было бы светло на душе! Нет же, устроил постыдство. И ей, Тосе, каково подходить к храму, если даже мне, нехристю, и то хоть мордой об тротуар!
Еще за сотню шагов мы видим толпу у дверей храма.
– Попробуй, пробейся! – ворчит Юра, но вдруг локти его становятся остры и беспощадны, ими он энергично вклинивается в толпу, и толпа уступает ему, и некий вакуум, что образуется за его спиной, всасывает и меня; я плыву сквозь толпу, словно на буксире, и через несколько минут мы уже в храме. Но Юра продолжает трудиться, и вот мы почти в первых рядах, и над нами священник с Евангелием в руках. Юра крестится, и я тоже, хотя не столь усердно.
Низенький, полный, лысоватый, с круглым лицом и прищуренными глазами, с белыми пухлыми пальцами на обложке Писания, священник говорит что-то о безбожниках; похоже, бранит их, и голос его, мягкий, почти бабий, воспринимается, однако, как вполне мужественный, металлические нотки в словах, в междометиях настораживают, захватывают внимание, и с первой же полностью понятой фразы я начинаю испытывать волнение. Я уже догадываюсь, что попал не на обычную службу и не к обычному священнику. Мимолетный поворот головы моего приятеля, его взгляд, словно он подмигнул мне заговорщически, – подтверждает догадку.
Голос священника крепнет, рука энергичным жестом взлетает над головами паствы и замирает.
Он клеймит безбожников, он обличает их, он призывает на их головы Божий суд, Божий гнев и Божье прощение одновременно. Он говорит о страдальцах земли русской, я слышу названия: Соловки, Колыма, я не верю своим ушам, я как во сне. Мне хочется дернуть Юру за рукав, спросить, что здесь происходит, кто он, этот обличающий поп, и почему говорит так долго и никто не врывается в храм, никто не прерывает его, и купол храма не взлетает на воздух! Я слышу призыв, почти приказ: «Помолимся за страдальцев земли русской, за невинно убиенных…»!
У меня на глазах слезы. Я осеняю себя крестами, – раз, другой, третий, – и чьи-то троеперстия мелькают в глазах, весь храм наполняется шорохом мечущихся рук, и кажется, будто это не шорох, а шепот, и в нем не простое моление, но что-то очень серьезное, способное из шепота перерасти в нечто большее, достаточно еще одной фразы толстенького лысоватого священника – и со всеми случится небывалое, и со мной тоже, я тоже на что-то готов, я с трепетом жду призыва. Но голос священника благоразумно удерживается на той тональности, которая лишь мобилизует готовность, по-отечески предостерегая от поспешных действий. Я утрачиваю ощущение самого себя, я лишь ощущаю свою волю как частицу общего настроения, моя воля примагничена к чему-то целому, и я воспринимаю это, как преображение, как открытие, и вместе с общей волей я устремлен всеми чувствами вперед, к белым и пухлым рукам священника.
«Что это? Что это?» – спрашиваю я себя и, пожалуй, вовсе не хочу ответа, потому что в ответе все упростится, уменьшится. Я не хочу понимания, я чувствовать хочу! Уже не раз снилось мне это чувство принадлежности к целому, но, просыпаясь, я не верил, что оно может быть не унижающим меня, а возвышающим, не верил, что оно может давать ощущение счастья…
– Ну, как? – слышу я шепот Юры, он подобрался ко мне и дышит в ухо.
Я не знаю, что ответить, и отвечать не хочется, я хочу продлить в себе этот небывалый радостный трепет, но Юра уже разбудил меня, и я тщетно пытаюсь не проснуться. Действо заканчивается, и шорохи в толпе подтверждают это.
Кто-то устремляется вперед, священник благословляет их, а нас с Юрой оттесняют к стене. Я вижу прижавшихся по углам старушек и пожилых женщин; меня сначала удивляет их деловитое молчание, но с еще большим удивлением я обнаруживаю на их лицах неудовольствие, плохо скрытое раздражение. Церковь забита молодыми, а точнее моим возрастом, все прочие оттеснены к стенам и углам. Лица молодых все мне знакомы, это московские интеллигенты: русые и смуглые бородачи из нелепых и бессмысленных учреждений, нервозные девицы из придаточных ведомств, бородатые евреи литературно-философского круга и, конечно, диссиденты – я узнаю их по какому-то специфическому выражению лиц, по тому, как они держатся кучкой, по их разговору, которого не слышу, но ощущаю его привычную конспиративность; и вот уже от них по рукам идет какая-то бумага, начинается сбор подписей под каким-нибудь протестом. Бумага у Юры, он торопливо передает ее мне. Так и есть! Заявление прихожан в защиту священника, которому грозят неприятности. Я достаю ручку, подписываюсь и, долго не думая, передаю бумагу стоящей за мной пожилой женщине в сером платке. Она непонимающе смотрит на меня, на бумагу. Молодой еврей что-то объясняет ей, я слышу только: «…батюшка… батюшка…» – и ее сердитый голос: «В субботу хоть в храм не ходи. Чего понабились, к алтарю не подойти! Шли бы в свои театры».
Мне становится стыдно. Я пытаюсь восстановить в душе те чувства, что еще несколько минут назад держали мою душу где-то на высоте купола, но не удается.
Толпа сжимается, и в образовавшийся проход, крестя и благословляя, вступает священник. Позади него, как телохранители, – молодые волосатые парни. На улицах Москвы я принимал их за хиппи, но сейчас вижу, они стрижены под Спаса Нерукотворного – это их образ, и всматриваясь в глаза парней, я с удивлением убеждаюсь, что в них нет игры, в них восторженное преклонение перед священником и, наверное, вера?.. Мне хочется спросить: «Волосатики, откуда она у вас, вера? И сами-то вы откуда? Где оно, то просмотренное мною место в стране победившего социализма, что плодоносит верующими душами?»
Я завидую этим мальчикам, но все же допускаю толику сомнения: «А может быть, вы всего лишь российский вариант хиппи?! Ведь в России испокон веков все варианты юродства и оригинальности реализовывались через веру».
Священник останавливается напротив меня, я машинально складываю ладони, и он деловито благословляет меня. Нет, это не отец Василий! Я ничего не чувствую! Ну, да сейчас я и не способен уже что-либо чувствовать. Вот если бы полчаса назад – упал бы на колени, ударился бы в слезы, и ведь обманул бы батюшку, не от веры была моя слабость, а от эмоций. И он не понял бы моего обмана.
А сколькие здесь обманывают его, как я, и зачем они пришли сюда? Я – по чистой случайности. А другие? Что ищут они у бунтующего попа? Опыта веры или опыта бунта?
Кто-то чувствительно меня толкает в бок – та женщина в сером платке пробивается к священнику, она этим толчком высказалась в мой адрес. Священник благословляет ее деловито, как и меня. Неужели он, пастырь духовный, не чувствует разницы между мной и этой женщиной. Мне обидно за нее, и я недобро смотрю в спину удаляющегося попа. Мысли мои обращаются к отцу Василию, улыбчивому священнику маленькой сибирской церкви, и я ощущаю гордость: мне известно большее и лучшее, по крайней мере – более необходимое мне. Я начинаю протискиваться к выходу.
На улице уже темно. На освещенной паперти, от двери до калитки, толпа. За калиткой тоже. Там курят. Деликатно по отношению к церкви!
И все же, что здесь происходило со мной и со всеми? Сейчас я спокоен, но помню же свои чувства, трепет души, некую обалделость, почти истеричность… Если представить себе, что священник продолжал бы говорить, и нарастало бы то возбуждение, что испытали я и все остальные, во что бы это могло вылиться? На что я был бы способен в таком состоянии, я, неспособный откликнуться ни на какой призыв? Мне немного страшно, потому что – не только откликнулся бы, но кинулся бы вместе с толпой, как ее неотъемлемая частица. В чем же секрет? Неужели под куполом храма слова имеют особенную власть над душой? Ведь происходи это все на улице или в театре, куда отсылала та женщина меня и подобных мне, – уверен, я стоял бы в стороне, ухмылялся бы и рефлектировал, как и подобает современному интеллигенту.
Что может предположить насыщенный информацией человек? Форма храма, его интерьер, фонетические особенности религиозного лексикона формируют особое поле, может быть, четырехмерное пространство, – и в этих условиях человеческое сознание способно раскрываться неожиданной стороной, необычными свойствами, сверхвозможностями. Но в любом случае это здорово! Что-то свершается в мире, то есть в моей Москве, чего не было ранее и быть не могло, но теперь оно есть, какое-то новое качество нашей жизни! Я его просмотрел. Я же слишком мелко плавал, слишком был занят самим собой. А теперь вот и меня втянуло в круговорот происходящего. Кончается самодеятельность личностей или мнящих себя таковыми, а начинается, возможно (и неужели так), подлинное историческое действо. И может быть, мы тоже на что-то способны, мы, жалкое поколение халтурщиков и приспособленцев?
Что-то меня потянуло на оптимизм. Так непривычно! Равнодушие и лирический пессимизм были опознавательными знаками нашей касты; свою обреченность социальному Молоху мы рассматривали как одну из функций мировой трагедии. Но это была ложь, лишь попытка оправдать пустоту в себе, свою никчемность! Мы не умели уважать себя…
– А я тебя везде ищу! – обиженно говорит вдруг возникший Юра. – Ну, как?
– Интересно, – отвечаю я безразличным голосом.
– Здесь и политических полно, – говорит Юра почему-то шепотом. – Бывшие зэки. Хочешь, покажу? По десятке за политику отсидели.
– Не нужно, я их видел.
– Ну да, – соглашается Юра, вспомнив, что я близкий к диссидентам человек.
– А евреи, – спрашиваю я, – их здесь много, они тоже православием интересуются?
– Это, брат, такой народ – они всегда нюхом чувствуют, к чему дело идет.
– А к чему идет дело? – спрашиваю я с искренним любопытством.
– А ты поменьше с полуэктовыми да диссидентами крутись, тогда и сам увидишь.
Я даже немного ошарашен, каким тоном он это говорит, и отвечаю неуверенно:
– Полуэктов тут ни при чем. А диссиденты, так их и тут достаточно.
– Еще бы! – говорит Юра с торжествующим сарказмом. – Они это дело под себя подмять хотят.
– Какое дело? – спрашиваю я уже раздраженно.
– Понимаешь, им вождь нужен, идол. Но этот номер им не пройдет. Батюшку им не отдадут.
– О каком деле ты говоришь, я еще не понял, а вот склоку уже чувствую. По крайней мере, письмо в защиту батюшки они пустили, а я что-то не видел, чтоб ты его подписал.
Маленькое личико Юры грустнеет. Он бурчит обиженно:
– От этого письма только хуже будет. Они его там как политического борца расписывают, это их старый приемчик. Кого-нибудь с работы уволят – они письмо строчат, подписей насуют, тому еще раз по шапке. И куда деваться? Подается в диссиденты…
– Ты бы другое письмо написал.
– Да. А знаешь, сколько сейчас здесь стукачей! – Юра ежится, оглядывается. – Диссидентам-то терять нечего.
Я кладу ему руку на плечо и стараюсь говорить без подвоха или иронии.
– Юра, а нам с тобой есть что терять? Есть ли в нашей жизни что-нибудь, что имеет ценность?
Он бросает на меня взгляд недоверчивый и подозрительный, да и сам я чувствую пустую риторику в своих словах. Как бы ни была ничтожна и жалка жизнь, в ней всегда есть, что терять. Каждому своя жизнь дорога, и если даже ум подсказывает иное, то инстинкт не обманет. В глазах Юры я вижу этот инстинкт. Я сам подписал «бумагу» только потому, что знаю – что сегодня это не опасно. Юра этого не знает, нет у него такой информации. Инстинкт, он ведь тоже информацией не брезгует!
Из дверей церкви вываливается толпа и тут же рассекается надвое. В образовавшемся проходе появляется священник. Он уже в костюме, и ростом кажется меньше, но зато теперь видно, что это еще крепкий человек, не старше пятидесяти. Свет падает ему на лицо – и я вижу на нем нескрываемую радость, почти торжество. Бородатые мальчики окружают его и мешают проститься с ним остальной толпе. Откуда-то, как по команде, подкатывает «Москвич». Священник садится рядом с шофером. Сзади ныряют двое бородатых, и машина тут же рвет с места.
«Крепко же у них дело поставлено!» – восхищаюсь я и дергаю Юру за рукав.
– Объясни мне, почему это допускают, почему терпят?
– Батюшка их не боится, – с достоинством отвечает Юра. – Пусть они его боятся.
Я внимательно смотрю на него. Неужели он верит в их страх? Самообман? Азарт? Сколько это продлится? Во что это выльется?
Что и говорить, я испытываю потребность поблагодарить милого Юру за все, что я увидел, он и сам для меня уже не тот, какого я знал несколько лет, я смотрю на него совсем другими глазами.
Я обнимаю Юру за плечо.
– Спасибо тебе. Жаль, что я не знал обо всем раньше.
Юра горд.
– Когда-нибудь я прочитаю тебе стихи, которые еще никому не читал.
Я, как могу, благодарю, но надеюсь, что этого никогда не случится. Я уже догадываюсь, это будут стихи о ВЕРЕ, а плохие стихи о вере – это невозможно! Однако он прав, я крутился не по тем орбитам и просмотрел что-то очень важное, о чем предстоит еще думать и думать.
Теперь уместно было бы уединиться и «обсудить» все чувства, что пережиты за такой необычный вечер, но мне жаль расставаться с Юрой. Он – сама серьезность, личико его сосредоточено и вдохновенно; возможно, в его поэтическом мозгу в эту минуту осторожно подстраиваются друг к другу подлинно поэтические строчки; я реально представляю себе, как неожиданно одно слово вышибается из строки другим, а это другое – третьим, как зачищаются и стыкуются рифмообязанные концы строк, и возникает-рождается здание-образ, который нечто совсем иное, чем все строки сами по себе. И какой, должно быть, восторг рождается в душе в такие мгновения!..
А может, все бывает совсем не так, но как светятся в темноте глаза Юры! Нет, в нем что-то есть, он чертовски славный парень. Жаль, что я не принимал его всерьез, отпускал, бывало, легкомысленные шуточки в его адрес, уверенный в безобидности и необидчивости адресата. И вообще, мы, простые советские люди – есть в нас что-то славное и сердечное! Может быть, мы даже вовсе и не мерзавцы и прохвосты, ведь, учитывая все, к чему нас призывали и принуждали, мы могли быть намного хуже. После нашего пионерского детства, комсомольской юности мы еще способны интересоваться идеалами веры, разве это не чудо? И то, что мы дожили до бунтующих батюшек, разве это не заслуга наша?..
В метро я сердечно прощаюсь с Юрой. Я бы и обнял его, но он не поймет, не в том состоянии. Он прощается со мной рассеянно и торопливо, явно спешит остаться один, и в мгновение исчезает в толпе.
«По закону – деньги пополам!» – вдруг слышу слова, что как оплеуха прозвучали несколько часов назад. Как бы там ни было, не представляю себе очередную встречу с моим героем после всего, что случилось. «Да провались! – бормочу всю дорогу в метро. – Провались!» И тяжело вздыхаю в ухо какому-то мужичку, что качнулся на меня при торможении.
Я открываю дверь своей квартиры, и тотчас же из своей комнаты выглядывает отец.
– У тебя полная комната гостей.
Я слышу мужской смех, несколько голосов и женский в том числе.
На кушетке, задрав ноги, валяются Женька и Андрей Семеныч, в пододвинутом кресле – его дочь. Они режутся в карты.
– Гена, – хохочет дочь Андрея Семеныча, – они мухлюют, я шесть раз подряд в дурачках. Садитесь, проучим их.
Они, как ни в чем не бывало, тащат меня к кушетке, и Женька раскидывает карты на четверых. Последний раз я играл в карты еще при культе личности.
Андрей Семеныч хлопает меня по плечу, Женька торжествующе вопит, моя партнерша проклинает меня, через несколько минут я оказываюсь в персональных дураках.
Андрей Семеныч обнимает меня и шепчет на ухо:
– Ты забудь, что было. Глупости все.
– Понимаете… – пытаюсь я что-то сказать, но он перебивает:
– Все понимаем! Твою книжку будет читать мой внук, а может, и правнук, ты же мне жизнь продлил, разве это деньгами меряется!
«Это Женькина работа», – догадываюсь я, но тронут, обнимаю Андрея Семеныча, говорю тихо:
– Я напишу хорошую книгу. Халтуры – не будет!
Его дочь тянет меня к себе.
– Вы на нас не обижаетесь? Не обижайтесь, не надо.
– Ну, что вы…
– Папаня мой добрый, мне всегда было жалко его. Он ведь большего заслуживает, правда?
– Конечно! Все, о чем пишу, это же он, он таким и остался, только условия жизни…
– Правильно, – радостно кивает она. – Значит, не обижаетесь?
– Хватит шептаться! – кричит Женька. Он уже не тот холеный интеллигент-деляга, каким был на квартире Андрея Семеныча. Он почти сам собой. И на это он пошел ради меня, чтобы не расстроились мои дела.
– Всё, братцы! – кричит он. – Я в цейтноте! – Стучит по часам. – Покидаю вас.
– Нам тоже пора, – торопливо говорит мой герой, и дочка поспешно соглашается. Они прощаются со мной, говорят мне теплые слова, кроме Женьки, который делает большие глаза и шепчет, почти не шевеля губами:
– Вот так, старик. Трудись и держи эмоции в узде. А деньги – в столе. С тебя ужин в «Праге».
Все трое долго топчутся в прихожей, шумят, и я с беспокойством поглядываю в сторону отцовской комнаты.
Наконец, они выходят, за дверью еще некоторое время топот и голоса. Надо бы извиниться перед отцом. Я подхожу к его двери, она вдруг открывается, и я почти сталкиваюсь с ним.
– Гена, – спрашивает отец, – как у тебя завтрашний день?
Я не совсем понимаю его вопрос, обычно мы таких друг другу не задаем.
– Валентина придет к нам около пяти. Ты будешь?
Милый папа! Я чувствую, как труден ему этот разговор, сама поза просителя, и с радостью помогаю ему избавиться от неловкости.
– Конечно. Завтра у меня как раз свободный день. Во всяком случае, – спешу поправиться, потому что еще ничего не знаю про завтрашний день, – в пять я точно буду дома.
Отец кивает и нервно застегивает верхнюю пуговицу на рубашке. Бедный папа! Завтра ему предстоит тяжелейшее мероприятие. Но я помогу ему, я буду паинькой, я буду тем, кем он хочет, чтоб я был. К тому же я вовсе не безразличен к женщине, которую он зовет Валентиной, мне чертовски любопытен отцовский выбор, я боюсь даже, что буду нервничать, ведь я люблю отца.
– Тут мы пошумели немного, извини.
Отец разводит руками, дескать, он даже внимания не обратил, и правда, он полон тревоги за завтрашний день, тревоги за меня. И я радуюсь, что в эту минуту и завтра весь день буду объектом его тревог – может быть, впервые за всю нашу совместную жизнь.
Нам больше нечего сказать друг другу, и мы несколько неестественно раскланиваемся. Я иду в свою комнату, подхожу к столу. Деньги аккуратной пачкой лежат в ящике. Я вынимаю их, швыряю на стол и пытаюсь понять, как мне нужно к ним относиться теперь, ведь не могло же пройти без следа сегодняшнее, от скандала в квартире героя до необычной церковной службы! Ведь я не толстокожая скотина, к тому же я на рубеже новой жизни. Я пытаюсь нащупать в себе состояние перехода и для этого заставляю себя сформулировать свое представление о той новой жизни, к которой столь жадно стремлюсь. Что она есть – эта моя новая жизнь? Благочестивая семья с твердыми нравственными устоями – раз? Погружение в сферу религиозных истин – два? Отречение от суеты московского безделия – три? Что же еще? Неужели это все?
Конечно, если не произносить имя, то больше и сказать нечего. Но если произнести: «Тося!» формула новой жизни наполняется до предела, нет сомнений, я отчетливо знаю, чего хочу!
И все же спокойствия в душе нет, в мою жизнь вторглась непривычная для меня динамика, и я не справляюсь со скоростью событий. С завтрашнего дня – снова садиться за халтуру. Я себя знаю, я могу работать по пятнадцать часов в сутки, но получить деньги – это еще полдела. Нужно искать блат на покупку квартиры, и тут не избежать обращаться к матери.
Я не был у нее с того сумасшедшего дня, когда мы все переругались, и я даже не звонил ей с тех пор. Мне стыдно. Я обо всех забыл в суете. Забыл о Люське, забыл об Ирине, пустил дела на самотек. Я, конечно, еще встречусь с Ириной, но не сейчас, немного позднее, когда у меня самого все определится.
Почему бы не признаться себе, что с именем Ирины связано у меня ощущение беспокойства, которое пока удается подавлять, то есть не обращать внимания. Мне нужна твердая почва под ногами, определенность.
* * *
Милый мой Генночка! Сразу два твоих письма, это такая радость! Я держала в руках конверты и танцевала по комнате. Мне повезло, я сначала прочитала второе письмо, а потом уже первое. Но все равно оно огорчило меня. Я не все поняла, дала прочитать папе. Ты не сердишься на меня? Но он у меня очень хороший, он все понимает. Он говорит, что душа твоя в смятении, что это очень трудно и тяжело. Если бы я могла помочь тебе хоть чем-нибудь! Но ты так далеко, что иногда мне кажется, что тебя вообще нет на свете…
А у нас три дня шел такой дождь, что все ручьи превратились в реки. Я сидела у окна, а вокруг дома вода, и я думала, что плыву на корабле к тебе и заблудилась в океане. Ведь если плыть в океане, то это все равно, что стоять на месте, и через час вода, и через день…
Не буду переписывать это письмо, хотя оно как-то не так пишется. Все время хочется плакать, но ты не подумай, я вовсе не плачу, это только по вечерам такое настроение. А днем я теперь сеном занимаюсь. Папа обкосил ту поляну, что за мостиком, помнишь? Вот я его сушу, а погода – по три раза дожди, раскидывать да ворошить нужно постоянно. Мне иногда Володя помогает, дьячок, но я не хочу, чтобы он мне помогал, он на меня так смотрит, будто я больная.
В этом году такая земляника крупная и сочная, я собираю в кружку и потом уже не могу есть ее, как будто для тебя ее собираю… Отдаю кому-нибудь…
Я прочитала книжку, которую ты позабыл. Может быть, я чего не понимаю, но не люблю я такие книжки, обязательно где-нибудь кто-нибудь выругается на веру или священников, мне это в школе надоело, и я никогда не понимала, почему все злятся, ведь мы никому не мешаем, папа ведь никого в храм не зазывает и не затаскивает, это они всех куда-то тащат, то на собрания, то на воскресники, и все ругают нас… Или юмор такой, как инженер тот из твоей книжки, он же ничего о нас не знает, а только шуточки…
Ты хочешь, чтобы мы в Москве жили, а я боюсь, я по телевизору смотрю – в Москве так тесно, такая жизнь, что невозможно ни во что верить, и лица все такие некрасивые, будто у них вообще души нет, они все какие-то планы выполняют и решения принимают… Я их боюсь…
А ты привык, да? А я привыкну ли? В Москве такие дома, за ними ничего не видно. А у нас, куда ни пойди, отовсюду наш храм видно, хоть колоколенку, да видно, и захочешь, не заблудишься.
Я до девятого класса тоже мечтала кем-нибудь быть и жить в другом месте, где много разного и интересного, я даже космонавтом мечтала быть, а потом, когда телевизор купили, я все на лица смотрела этих героев, когда они говорят о своей жизни, будто у них тысяча жизней или одна вечная, и мне всегда хотелось крикнуть им, что одна только жизнь бывает, а самое главное – после нее, и если про главное не думать, то зачем вообще жить, для чего? Вот и ты говорил, что главное – это интересное дело, работа, а я этого не понимаю, почему это главное, для меня главное, после самого главного, это то, что я тебя люблю. А у тебя так быть не может, да? И мне грустно… немножечко…
А твои папа и мама? Я им не понравлюсь, так ведь? И тут ничего не поделаешь, хотя я уже их всех и сестру твою, я их люблю. Но я еще об одном скажу, что меня пугает. Мне иногда кажется, что Господь не для жизни свел нас с тобой, а для чего-то другого, потому что все, что случилось у нас с тобой, оно как бы против всех законов. Не за что тебе было полюбить меня, и что со мной произошло, разве такое можно было предполагать, ты же как с луны свалился по мою душу…
Нет! Нет! Нет! Я больше сегодня не буду писать. И вообще сегодня не нужно было писать. Я устала сильно, все из-за сена. Три раза дождик был, а тучи сколько раз набегали. Это я просто устала. А ты пиши так же часто, хорошо?
Очень жаль, что впереди осень, а не весна, мне было бы легче ждать тебя, если бы впереди весна.
Целую тебя. Я и забыла, как это, когда я целую тебя, но было очень хорошо!
Твоя