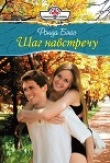Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Мне до слез жалко сестру, но, в конце концов, мне она, как сестра, оставила только право жалеть ее.
Домой ехать не хочется. С тоской смотрю на телефонную будку, перебираю в кармане мелочь, затем захожу и набираю номер Ирины. Последнюю цифру задерживаю в диске – я не знаю, зачем я звоню Ирине, и когда все же последняя цифра прокручена и в трубке знакомый голос, я покашливаю и фальшивым голосом говорю:
– В общем-то ничего нового… Я сейчас приеду к тебе.
– Нет, – говорит она жестко.
– Почему?
– Ко мне нельзя.
– Ира, мне нужно поговорить с тобой.
– Я же говорю, ко мне нельзя. Разве не ясно?
– Чёрт с тобой!..
Двушек больше нет. Кидаю гривенник, и голос милого Юры Лепченко возвещает мне, что он жив и здоров, что мне будут рады. Слава Богу, есть куда приткнуться.
– Я все знаю, – говорит Юра шепотом, как только я вхожу.
– Откуда?
– Олег Скурихин звонил.
– А он откуда знает?
– Ирина звонила.
– Хотел бы я знать – кто позвонил Ирине?
Что и говорить, времена здорово изменились! Двадцать лет назад брата арестованной сестры разве пустили бы в дом? Разве суетились бы перед ним с такой услужливой готовностью – накормить, напоить, уложить спать, как вот сейчас суетится вокруг меня Юрина мама? Юра – счастливец, у него именно такая мама, какая нужна поэту, у него уютная мама, от нее исходит спокойствие и тихая теплота, и сама она маленькая, тоненькая, бесшумная; у нее очень красивые руки, приятный голос и в голосе только совершенно необходимые слова, ни одного лишнего.
Когда все приготовлено, мы остаемся с Юрой на кухне одни. Я ем все, что есть на столе, Юра пьет чай и радуется моему аппетиту.
– Сколько ей дадут? – спрашивает Юра.
– Статья семидесятая. От полугода до семи. Кто знает, как они ее оценивают…
– Слушай, они там что, совсем рехнулись? Девчонок-то зачем сажать!
Я согласен, но на его возмущение наверняка у них есть ответ, и я пытаюсь его угадать.
– А ты посмотри, кто сейчас у диссидентов заправляет всеми делами? Женщины. Они ведь тоже изучают историю, они знают, сколько мужиков пытались убить царя, а взялась баба, и все сделала.
– Твоя сестра – не Перовская.
– Почем знать? Она во всяком случае способна на то, на что мы с тобой не способны. Люська чертовски отчаянная девка. Вот мы были с тобой в церкви. Завтра берут меня за шиворот, тащат, куда надо, и спрашивают о тебе… Ты уверен, что я тебя не продам? Ну, смело, как на духу.
– А чего меня продавать… – мямлит Юра.
– Не крути. Я бы тоже за тебя не поручился. А за Люську – поручусь. Объясни, как это так получается? Почему девчонки крепче мужиков?
Юра мнется.
– Диссиденты, они вроде революционеров, их дело на ненависти построено…
– Положим, хотя и спорно. Ну и что?
– Ненависть… сильная эмоция заглушает чувство самосохранения… Я специально не думал на эту тему. Но, по-моему, нормальный человек не может убить человека, это внутренний закон. А из ненависти – может…
– Ну, а понятие элементарной порядочности, как оно вписывается в твое объяснение? Это сильная или слабая эмоция?
Юра вздыхает.
– Знаешь, – говорит он, – мне один человек, это давно было, предложил наркотик попробовать. Рассказывал, как это интересно, какие видения бывают. У меня от страха пот на лбу выступил. Это потому что я твердо знаю, наркотик – это ужасно. Хотя, наверное, попробовать можно было. Для интереса… – Юра умолкает, и я не понимаю, к чему эта история. – Или вот другой случай. В детстве. Поспорил я, что искупаюсь в проруби. Прыгнул. И теперь уже больше никогда не прыгну. Знаю твердо, это не для меня. – Он снова умолкает. Я пью чай и смотрю на него. – Тут не в порядочности дело. Мне так кажется… Когда я в прорубь прыгнул, я заорал так, что надо мной все смеялись. Я не знал, как оно, в проруби, и прыгнул. А кричать было, ну, скажем, непорядочно, неприлично. Не все люди знают предел своих сил. Тот, кто знает, тот хитрый человек, он ловко может распорядиться своим знанием.
– Что-то я плохо понимаю тебя сегодня.
– Я думаю, – говорит Юра, меняя тему, – что твоей сестре много не дадут.
Я тоже надеюсь на это, но предпочитаю об этом не говорить.
– Почитай стихи, – предлагаю вдруг. Я надеюсь, что он откажется, но, увы, он встает, отходит к окну, взглядом упирается в цветастую штору на окне. Читает уверенно и даже приятно. Я слышу неплохо зарифмованные слова о смысле жизни, о разочарованиях и сомнениях, и, ей-Богу, принимаю это всерьез, хотя за всю историю человечества таких стихов написаны километры. Очередной метр ничего не прибавит, потому что мудрость человечества – понятие не количественное, и даже не качественное, – это величина постоянная к единице времени. У каждого мгновения истории своя мудрость, и чужому мгновению она – всего лишь исторический памятник, предмет эстетического созерцания. Разве не сказал еще Шекспир, что жизнь – тень мимолетная, сказка в устах глупца, и разве кого-нибудь это убедило настолько, чтобы не жить?
Мое неверие становится прочнее
Моей любви! Я задыхаюсь в нем!
Это последние строчки Юриного стиха. Он поворачивается ко мне, у него блестят глаза.
– Хорошие стихи! – говорю я, почти не кривя душой. – А есть у тебя стихи о том, как бы ты хотел жить? Стихи про другую жизнь?
Я уверен, что у Юры есть стихи на все случаи жизни. Но – ошибаюсь.
– Нет. У Ибсена есть.
– Ну-ка.
Он сразу преображается, даже как будто ростом подтягивается, и читает, глядя мне в глаза с мальчишеским озорством:
Мой парус по ветру расправлен крылом.
Над миром житейским лечу я орлом,
Вслед чайки кричат мне тревожно.
Я сбросил рассудка балласт среди волн,
А если на мель и наткнулся мой челн,
Летел я, пока было можно.
– А ты, брат, романтик! – искренне удивляюсь. – Что же мешает тебе «лететь орлом»? Впрочем, да. «Балласт рассудка». Его не сбросить современному человеку. А я, между прочим, женюсь на поповской дочке и намерен в ближайшем будущем наплевать на все прочее, что поперек. А?
Хвастливых интонаций не скрываю и вижу откровенную зависть в глазах Юры.
– Ну, когда женишься, тогда и посмотрим, – говорит он.
– А тесть мой будущий – священник, и не чета твоему батюшке бунтующему.
– Почему? – обиженно спрашивает Юра.
– Почему?
А и правда, почему я вдруг противопоставил отца Василия тому священнику, который ведь поразил же меня? Я пытаюсь объяснить это одновременно себе и Юре.
– Пожалуй, так… Над твоим священником знамя… не знаю, какого цвета, но знамя… А над этим, понимаешь, нимб. С твоим можно пойти и умереть, а с этим можно только жить. И хорошо жить. Я объяснил?
Юра не понял, но обиделся. Обижается он, как девица, пухнет нижняя губа и ноздри раздуваются.
– Ну, не дуйся, – говорю я ему, как сказал бы Люське или Ирине. – Твой батюшка – событие, явление, а мой – всего лишь частный случай и, наверняка, не единственный. А потом, я еще просто не все понял. Когда пойдешь к нему в следующий раз?
– Послезавтра.
– Пойдем вместе. Обязательно!
Мы еще долго треплемся на всякие прочие темы, пьем чай, слушаем враждебные радиостанции в надежде услышать про Люську, и слышим, наконец. Иностранные корреспонденты – люди деловые. Мне странно слышать нашу фамилию по радио, кажется, что это не про Люську, но это про нее, и как-то не то чтобы легче, но все же приятно, что не сгинула в неизвестность моя сестренка. И может, ей легче, ведь она знает, что уже сегодня ее имя прозвучит по радиостанциям Европы и Америки, и кто-то услышит его в России, и все близкие будут слушать каждое сообщение о ней.
В третьем часу ложимся спать, но я еще долго не могу уснуть, у меня ощущение, что не чиста моя совесть. Но мозги – уставшие, и от копания в совести я устаю еще больше и от усталости, наконец, засыпаю.
Где-то за полдень мы с Юрой встаем, пьем кофе, я звоню матери, и мы договариваемся на следующий день вместе ехать в Лефортово с передачей.
Среда, поэту почему-то некуда спешить, и я лишь в четвертом часу выбираюсь из его уюта и, не торопясь, направляюсь домой. На улице пасмурно и не по-летнему прохладно. Когда выбираюсь из метро, попадаю под мелкий дождик, к подъезду бегу аллеей тополей, прячась под их навесами. Из почтового ящика выдергиваю газеты, открываю дверь, роняю всю эту периодическую макулатуру, чертыхаюсь, поднимаю, швыряю на столик трюмо, вхожу в свою комнату и застываю в изумлении.
В моем кресле сидит незнакомый человек и читает… мою Библию! Я буквально немею на пороге, а незнакомец спокойно откладывает книгу, встает, странно кланяется и говорит:
– Здравствуйте. Вы меня не узнаете?
И только по голосу я узнаю его. Это дьяк Володя из далекой страны отца Василия. Он вполне современно одет, хотя чувствуется, что костюм и галстук и отутюженные брюки доставляют ему некоторые хлопоты. Но сам он для меня – явление другого мира, и я долго не отвечаю, только пялю на него глаза.
– Почему вы здесь? Что-нибудь случилось? Он улыбается спокойно.
– Ваш отец разрешил мне подождать вас, и книгу я тоже взял с его разрешения. А у нас ничего не случилось, у нас как всегда…
– Есть, пить, ванну?
– Спасибо, мы с вашим папой кушали, я сыт. Не беспокойтесь.
Я, наконец, подхожу, жму ему руку, но все еще не могу привыкнуть к его присутствию в моей квартире.
– Вас отец Василий прислал? Только честно.
– Нет, – улыбается он, – батюшка сначала против был, но потом согласился.
– Ну и что? У вас письмо ко мне… или как? Может быть, все-таки чай или кофе?
Он отказывается.
– Я сам, так сказать, по собственному разумению…
И опускает глаза.
– Слушайте, Володя, если вам есть что мне сказать, говорите, ведь не посмотреть на меня вы приехали. Вы на чем, кстати?
– На самолете, – он вздыхает. – Первый раз в жизни. К небу ближе, а страху, знаете… Он смеется и немного раздражает меня.
– Я именно посмотреть на вас приехал. Тося просила посмотреть… на вас…
– Но у вас лично есть что мне сказать?
– Спросить… – говорит он, все так же улыбаясь, – зачем вы ее мучаете?
Что ж, вопрос по существу. Нужно подумать, стоит ли отвечать и вообще – продолжать ли разговор с влюбленным дьяком.
– Ведь все, чем вы сейчас заняты, – говорит Володя, – это же все можно делать потом. Или я что-то не понимаю? Разве вы не знаете, как ей тяжело?
Может быть, я действительно не знаю.
– В общем-то вы правы, конечно. Все можно оставить на потом. Но я хотел, чтобы у нас с ней с самого начала все было прочно и твердо…
Плохо говорю.
– А разве начала не было? – спрашивает он и опускает глаза.
Он прав. Начало было, и далеко не блестящее. Я тоже отвожу глаза. Но мои расчеты были чисты, именно нечистоту начала хотел я искупить, исправить серьезной подготовкой к нашей будущей жизни. Однако она мучается, и прав дьяк, а я – неправ. Взять бы и уехать сегодня вместе с ним. Если б не Люська…
– У нас тут кое-какие неприятности…
– Знаю, – говорит он, – ваш отец сказал мне. Мы все будем молиться за вашу сестру.
С трудом сдерживаю горькую усмешку. Я, конечно, не отрицаю, что молитвы – это ведь, в сущности, излияния душевной энергии, и кто знает, может быть, эта энергия имеет силу влияния…
– Будем молиться, – повторяю за дьяком. – Другие говорят – будем бороться, третьи говорят – будем надеяться… Я – из третьих. Я не безнадежен, а? Бороться можно только здесь, а молиться и надеяться можно и у вас, в вашей славной тьмутаракани… А что, Володя, завтра я пойду с матерью в тюрьму, передачу снесем, а послезавтра вместе и махнем? Проведем мероприятие честь по чести, привезу ее сюда, и вместе будем сражаться за нашу новую жизнь.
Володя грустен. Не верит он мне, что ли? Или, может быть, надеется еще…
– Ну-ка, перед Богом. Чему вы сами были бы рады?
Дьяк краснеет.
– Я не могу перед вами, как перед Богом.
– Хорошо. Прямой вопрос. Вы не хотите, чтоб я женился на Тосе? Так?
– Нет, не так…
– А как, чёрт возьми?
От «чёрта» он вздрагивает, кидает быстрый взгляд на икону.
– Не верю я вам! – буквально выдыхает он, пугается своих слов и виновато смотрит на меня, почти просит прощения.
– Чему же вы не верите? Что я люблю ее?
– Не знаю. Не пытайте меня. – Он поднимается, подходит к иконе. – Господь знает, что я хочу ей счастья! – Медленно крестится и поворачивается ко мне. – Значит, поедем к нам послезавтра, да?
– Послезавтра. Расскажите лучше, как она. Ну, и вообще, как там у вас жизнь?..
– Чего ж рассказывать, если послезавтра поедем? – Он садится в кресло, складывает руки на коленях. – Тося работает. Мы все работаем. Ремонт храма сейчас, все сами делаем. Батюшка, Тося, я и еще двое мужичков помогают… Трудно. Краски достать негде, олифы тоже… но потихонечку делается… Огород опять же, сено, ну, и прочее бытие наше, в заботах да хлопотах.
«Мне бы ваши заботы!» Но вслух не говорю, не уверен, что чужие заботы легче моих. Так, за слово зацепился.
– Вот, – показываю на стол с магнитофоном и бумагами, – делаю сложную работу. Получу большие деньги. Купим квартиру. А может быть, дом под Москвой…
Это я импровизирую. О доме под Москвой подумал впервые.
– У нас дома дешевые. Пустых полно, хоть задаром бери.
Это он говорит будто между прочим, но я откликаюсь на намек.
– Не исключено, Володя. Об этом я еще буду думать. Но не так все просто…
Звонок в дверь.
– Отец, наверно.
– Он сказал, что придет поздно. Он еще просил, чтобы вы его дождались. Извините, забыл сказать сразу.
Я иду к двери, открываю. Врывается Женька Полуэктов.
– Дома? Добро! У тебя куда окна выходят?
Он отстраняет меня, бежит на кухню. Я за ним: Женька открывает форточку, высовывается, свистит и машет рукой.
– Такси отпустил. Наугад ехал. Разговор будет.
Я веду его в свою комнату. Увидев дьяка, Женька прищуривается и мгновенно оценивает моего гостя.
– Понятно. Посланец из того мира.
Я знакомлю их. Дьяк стесняется, мнется, робко подает руку. Женька хлопает меня по плечу.
– Ну, а мы с тобой, старик, прочненько из этого мира, потому разговор будет приватный.
Он намеревается выйти, но я останавливаю его. Недоброе предчувствие приходит ко мне от прыгающего Женькиного взгляда.
– Садись и говори. Какие от него могут быть секреты.
Женька смотрит на меня, на дьяка и хмыкает – дескать, его дело сторона, он умывает руки. Разваливается на кушетке, жестом предлагает сесть и мне. Я стою.
– Ну, старик, сейчас ты попадешь в стирку. Так что сосредоточься.
Я смотрю на него, как смотрел бы на колесо наезжающего самосвала.
– На Ирине, как я понимаю, ты жениться не собираешься?
Словно подключенный к чужой игре, я отвечаю медленно:
– Нет. Я собираюсь жениться на поповской дочке, то есть на невесте присутствующего здесь человека. Его зовут Володя…
Неужели я уже догадываюсь о следующей Женькиной фразе? Наверное, иначе зачем бы мне так говорить.
– Значит, старик, ты не хочешь жениться на женщине, которая ждет от тебя ребенка?
Конечно, я догадался раньше, чем это было сказано… А может быть, давно уже догадывался, да не признавался, играл в темную? Я не вижу своих ушей, но чувствую, как они махровеют. А Женька, мне кажется, удивлен моим состоянием.
– Понимаешь, старик, я дал ей честное слово, что не скажу тебе. Я бы и не сказал, если бы она пошла за меня замуж, но – такие дела, она меня мягко отшила. И что это значит? Что она любит тебя, стервец. А спрашивается, за что?
Я со скрипом шеи поворачиваюсь к дьяку Володе, его моргающие глаза смотрят куда-то в угол.
– Видишь, что получается, какая сложная геометрическая фигура: два смежных треугольника с общей гранью. Как мы их отделим друг от друга?
И отчаянно к Женьке:
– Разве я подлец? Ну, ты, рационалист, давай обозначь ситуацию. Подлец я? Ты же пришел выстирать меня. Давай! Я уже в пене.
– В известном смысле, – отвечает Женька холодно, – ты собака на сене. Этакая ленивая собака.
– Я к тому же еще и пакостливая собака. Ну, дьяк, что скажешь мерзкому грешнику?
Он боится взглянуть мне в глаза, я же впиваюсь в него взглядом, как клещ, ему от меня не отвертеться.
– С той женщиной, ну, которая… это все было раньше, ведь так? И вы ее больше не любите?
– Ну, дорогой мой, ты говоришь, как жалкий гуманист. И я думаю, не очень-то искренен.
– Я ничего не знаю! – почти воплем разражается дьяк Володя. – Не спрашивайте меня! Я ничего не знаю!
Телефон звонит так резко, что кажется, будто он подпрыгивает на месте. Я взглядом прошу Женьку взять трубку.
– Нет, я не Генночка. Генночка? Он теоретически здесь.
Дьяк Володя с ужасом смотрит на телефон. Женька закрывает трубку рукой.
– Леночка Худова собственной персоной в большом волнении.
Мне сейчас не до нее, но Женька тянет мне трубку.
– Генночка, ты волшебник! – захлебывается от восторга дочка подполковника с Лубянки. – Генночка, если тебе нужно будет пройти по мокрому месту и не замочить ножки, скажи, и я выстелюсь мостиком.
– Все в порядке?
– Жуков торжественно сделал мне предложение. А знаешь, я уже хотела ему третьего лишненького преподнести. Я целую тебя биллионнократно!
Леночка чмокает трубку и прощается.
– Чего она? – спрашивает Женька.
– Я устроил ее счастье. Как видишь, я не совсем ленивая собака.
Женька встает с кушетки, подходит к дьяку, садится на подлокотник кресла, фамильярно обнимает Володю.
– Так что мы будем делать? – спрашивает Женька. – На ком мы будем жениться?
Дьяк в ужасе хватается за голову.
– Господи! Как вы живете! Как вы все живете! Зачем так живете!
– Давайте без паники, товарищ культовый работник. Живем как можем.
Женька все-таки хам. Но дьяка он сразу успокаивает, тот несколько раз дергает галстук на шее, который ему явно мешает, производит горлом какие-то странные звуки, освобождается от Женьки, встает.
– Я посижу там, на кухне. Вы как-нибудь без меня.
Но без него невозможно! Я не знаю почему, но сейчас мне необходимо присутствие Володи. Я беру его за руки, усаживаю снова в кресло.
– Володя, прошу вас.
Мы сидим все трое и не смотрим друг на друга. Немыслимая ситуация! Я должен принять решение, на ком мне жениться. Тут даже пошлостью не пахнет, тут подлинная чертовщина! Женька хочеть жениться на Ирине, дьяк – на Тосе, а я должен жениться на одной из них…
Нужно начать с того, что мне абсолютно ясно. А ясно мне, что я не могу потерять Тосю. С ней я теряю все. И себя, и ту жизнь, на которую настроился всем своим сознанием. Я, в конце концов, люблю Тосю, я любил ее до и люблю после всего, что случилось в моей жизни, и у меня не может быть выбора.
Ну, вот, за первой ясностью сразу является другая. Нужно ехать к Ирине. Слава Богу. Это уже похоже на решение. Нужно ехать немедленно, сейчас же.
Я тяну на себя телефон, набираю номер и, услышав ее голос, тут же кладу трубку. Она дома.
– Сейчас я еду к Ирине. – Две головы напротив меня вскидываются и две пары глаз сжимают меня в клещи. – А послезавтра мы с Володей улетаем в Урюпинск.
– Какой Урюпинск! – удивляется дьяк.
Я смотрю на Женьку, он молчит, кусает губы. Дьяк моргает. Мое решение ни тому, ни другому не приносит удовлетворения. У задачки, которую подкинула мне жизнь, нет такого решения, чтобы все разделилось без остатка. По крайней мере, не в моих силах справиться со всеми неизвестными величинами. И тут, инстинктом эгоиста, я надеюсь на Ирину. Я для того и еду к ней. Инстинктом слабого я надеюсь, что Ирина сумеет поставить необходимую точку. Это подло, я понимаю, но я поеду к Ирине!
– Вы, – это я дьяку, – ждете меня. Отцу скажете, что буду поздно.
Женьке кричу: «Поехали!» и тут же направляюсь из комнаты. Хлопаю себя по карманам, возвращаюсь, хватаю из стола деньги и уже на лестнице нагоняю Женьку.
– Только ты уволь, – говорит Женька. – К Ирине я с тобой не поеду. Я же дал ей честное слово!
– Успокойся, тебе и не нужно ехать к ней.
Последнее время я Москву вижу чаще всего в сумерки. И вообще, впечатление такое, будто я все время в движении в каком-то полупустом пространстве, где в разных точках пребывают разные мои интересы и заботы. Я мотаюсь между ними, пытаюсь связать их между собой, но пальцев на руках не хватает, чтобы удержать все нити. Я вижусь себе тем чудаком, который слезал с неба на землю по короткой веревочке, и когда веревка кончалась, он сверху срезал и надставлял снизу.
– Ну, хорошо, – говорит Женька в такси, – ты уедешь, а как будет с книжкой?
– Женюсь и приеду вместе с женой. Может быть, за неделю управлюсь. Дело ведь не горит?
– Время есть, – как-то неуверенно отвечает Женька. – Если передумаешь, продашь работу мне, я закончу. О цене договоримся.
Деловой человек! И я к нему расположен.
– Смотри, как у меня закрутилось все, – говорю ему. – Ведь не подлец же я. А вся ситуация – подлая до отвращения!
– Сказать тебе, – бурчит Женька, – так ведь обидишься.
– Говори. Лучше от тебя услышать, чем от дьяка.
– Самые вредные на земле люди, – ворчит Женька, – это те, которые не знают, чего хотят. Они всюду суют нос, во всякое чужое дело, чужую игру, все путают и сами запутываются.
– Понятно. Спасибо.
– Вот, спасибо сказал. И весь ты такой плюшевый. Твоя сестричка-диссидентка – предпочтительней. Ее просто взяли и посадили. А ты законом не предусмотрен.
Я обижаюсь за Люську. Все-таки он хам.
– Ты, может быть, на ее месте заскользил бы угрем.
– На ее месте? – хмыкает Женька. – Я на ее месте оказаться не могу. А вот на месте тех, кто их в лагеря запихивает, даже хотел бы.
– Трепач ты, Женька!
– Ничуть. Я тебе сочувствую, но сестру твою мне не жаль. Чересчур шаловливых детей бьют по рукам. А диссиденты твои расшалились без меры… Умники эти евреи, которые там в лидерах, они допрыгаются до погромов!
– Ты, никак, антисемит, – смеюсь я.
– Я – семит. И мне в этом государстве жить. И мне нравится в нем жить. А те, кто это государство лихорадят, мои враги, будь они евреи, или армяне, или бешеные русопяты. Всех их к чёртовой матери в лагеря!
– Врешь ты все…
Хотя, кто знает, может быть, он и есть подлинное дитя существующего строя.
– Ну, я на месте, – говорит Женька. – Дальше не поеду. Заплатишь? – Он уже вылез из машины, но заглядывает снова. – Я все же надеюсь, что Ирина даст тебе по морде.
И хлопает дверкой – как по глазам.
Ирина открывает мне дверь лишь на четверть.
– Ты зачем?
– Может, я войду сначала?
– Ты зачем, я спрашиваю?
Я нажимаю на дверь, отстраняю ее, вхожу.
Она в халате, и первое, что я вижу – живот. Ну, конечно, у нее уже по меньшей мере половина срока. Она перехватывает мой взгляд, делает какое-то странное движение, и живота нет. Зато на лице злость выступает пятнами. Я знаю это ее состояние, и мне бы сейчас испугаться, а я не боюсь. Она стоит в прихожей и не намерена двигаться с места. Я иду в комнату, сажусь.
– Между прочим, это хамство! – слышу я ее голос.
На столе банка маринованных огурцов, и поскольку я не помню за Ириной пристрастия к острому, то отношу сей продукт к особенности ее состояния. Она, наконец, появляется в комнате. Руки она держит особенным образом, чтоб изменить фигуру, и ей так неловко стоять. Я смотрю на нее, и это она и не она… Что-то в ней появилось решительно новое и незнакомое для меня. Мягкость, слабость или еще что-то появилось в лице, хотя оно и злое сейчас. Передо мной будто другая женщина, которой я не знал раньше, и я тихо робею не от ее взгляда, а скорей от своего, словно прилипшего к знакомым, но изменившимся чертам.
– Ну? – говорит она.
– Сядь… пожалуйста, и помолчи.
Да, мне сейчас необходимо, чтобы она сидела напротив и молчала, и мне тоже нужно помолчать, прислушаться к самому себе. Я чувствую, сейчас должно произойти что-то очень важное, может быть, самое главное в моей жизни, я полон тревожных предчувствий, и одно из них – ощущение конца свободы; словно, ранее плывший сам по себе, я теперь попал в несокрушимый поток обстоятельств, которые не просто сильней меня, но они – та единственная реальность, где отныне предстоит мне продолжить свое существование.
Я заставляю себя вспомнить, зачем я пришел. Я пришел, чтоб внести ясность в двусмысленную и нечистую ситуацию, что создалась мной самим, хоть и без дурного умысла. Еще зачем я пришел? Чтобы Ирина помогла мне выпутаться? Наивность. И подлость. На что я рассчитывал? Я хотел, чтобы она, будущая мать моего будущего ребенка, сказала мне: «Ты свободен и не нужен мне». А я при этом поверил бы ей или сделал бы вид, что поверил…
Ирина опускается на стул и делается вся какой-то маленькой, и нет в ней уже ни злости, ни враждебности, передо мной просто маленькая беременная женщина, которую я настолько знаю всю, что это знание готово обернуться решающим обстоятельством, и я чувствую, как уходит от меня, уплывает выношенный и выстраданный образ новой моей жизни. Я еще ничему не даю оценки, не произношу мнения и приговора, все свершается само собой с моим участием, но без моей инициативы.
И все же я обязан назвать вещи своими именами: передо мной сидит моя жена. Вот как все просто, как очевидно. Передо мной моя жена! И дело не в слове, а в чувстве, которое родилось в эти минуты. Я слышу, как меняется ритм моей жизни, я слышу собственный пульс, он чист, в нем нет посторонних шумов, лишь одно ровное, спокойное, отстоявшееся мое дыхание. Я испытываю тоску по чему-то безвозвратно ушедшему, с чем-то прощаюсь, а между тем встаю и подхожу к Ирине. Ладонями касаюсь ее лица, и что-то обжигает мои ладони. Это ее слезы. Непривычно бережно я поднимаю ее за плечи и приближаю ее лицо к своему. Она прячет глаза, и я молча вытираю слезы на ее щеках, их немного, всего две слезинки. Держу ее за плечи и чувствую готовность ее дрожащего тела податься ко мне, и это будет последняя точка в наших запутанных отношениях. Еще минуту, полминуты я как бы удерживаю судьбу на расстоянии локтя, но вот почти незаметное движение моих ладоней, и Ирина приникает ко мне. Я глажу ее волосы, как мать когда-то, сто лет назад, гладила мои, мы стоим молча, потому что и так уже много лишнего было наговорено, я только спрашиваю: «Сколько?» Она сразу понимает.
– Четыре.
– Все идет нормально? У врача была?
Она кивает.
У гордой, заносчивой, откуда взялись у ней и эта стыдливость, и совсем незнакомая мне покорность? Я, наконец, поднимаю ее лицо и смотрю в глаза, в них еще, правда, нет радости, но есть готовность откликнуться теплотой, и я целую ее глаза и говорю с незнакомой мне твердостью:
– Ну, вот и все.
Мне странно и удивительно слышать в своем голосе твердость, и я повторяю для самого себя:
– Вот и все.
Я говорю это как хозяин, я говорю это как мужчина, и мне даже немного неловко за свои новые интонации, но – приятно.
– Я хочу есть, как волк!
Вот мы уже суетимся на кухне, как будто ничего не случалось с нами, если не считать, что я не сижу, развалясь на стуле, как бывало, а гоношусь более нее, и непонятно, кто кого жаждет накормить в этой радостной суете.
Жизнь моя единственная! Как мне жалко тебя! Сочишься ты сквозь растопыренные пальцы, а кулака никак не сжать. И для чего ж тогда ты дана мне, если жалость – это все мое достояние? И что мне с ней делать, с жалостью? Ее не высказать, ею не поделиться, она есть пустое состояние души, самое никчемное. Что я должен сказать самому себе, чтоб не оглядываться испуганно на мелькающие верстовые столбы моего бесцельного пути-перемещения из ночи в день, из недели в неделю, из года в год, чтобы не всматриваться судорожно в горизонт? Наверное, ошибка моя была в том, что я наделял смыслом чужие времена и чужие жизни, и от них пытался вести отсчет жизни своей, сравнивая реальное с вымыслом и страдая от несоответствия, которого в действительности не было, потому что в чужих временах и в чужих жизнях собственного смысла не более, чем в моем времени и в моей жизни. Я должен сказать себе, что свободу человек только тогда и обретает, когда прозревает о несравнимости жизней и времен, о бессмысленности смысла, того смысла, которым мы пытаемся повязать собственные жизни. Я обязан сказать себе, что поисками смысла жизни терзаются люди, плененные от рождения или от воспитания честолюбием, гордостью, и такие люди – вечные рабы своих комплексов!
И много еще могу я сказать себе в оправдание и утешение, но жизнь мою единственную, мне все равно жаль ее. Если бы я хотя мог кому-нибудь позавидовать до отчаяния, может быть, тогда я бы мобилизовался для чего-то решительного, но, к сожалению, я никому не завидую, ну, ни единому человеку на земле, потому что, стоит лишь присмотреться к чьей-то, на первый взгляд завидной судьбе, как замечаешь такие издержки и потери, которых не стоит никакая удача. Значит, несостоятельно само сравнение судеб, и вот в этом выводе уже что-то есть, чем можно жить и почти не жалеть свою собственную, единственную жизнь! Сегодня утро такого-то числа, месяца и года, и рядом со мной спящая женщина, уже моя жена, но выбор, что осуществился таким обычным образом, касается чего-то большего. До единственной узкой тропки упростился перекресток, до единственно возможного отсеялись варианты, а впереди уже нет чарующего тумана неизвестности, поставлены две необходимые точки, проведена прямая, и лучом трезвости высвечивается все, чему предстоит осуществиться. И я должен понять эту новую перспективу, как источник желанного спокойствия. Я тихо провожу рукой по лицу Ирины, и она горячей щекой прижимается к моей руке.
– Уже пора? – спрашивает она. Я не уверен, что она сказала это не во сне. Ее лицо спокойно, и это – выражение счастья. Никакого другого лица я не хочу сейчас вспоминать, чтобы иметь право сказать себе, что в моих силах хоть одно человеческое существо сделать счастливым. Такое право способно дать мне волю к жизни…
– Нам обязательно ехать туда? – спрашивает Ирина, и я понимаю, что она не только не спит, но готовится к неизбежной тревоге, которую сулит ей наша поездка ко мне домой.
Ирина просит меня отвернуться, она стесняется своей изменившейся фигуры. В халатике она убегает в ванную, а я еще некоторое время лежу и просто смотрю в потолок. В голове сентиментальная мелодия Вивальди, которую я не люблю, но любит Ирина.
Я поднимаюсь, когда из кухни доносится запах кофе. Ирина уже вся прибрана и одета тем хитрым манером, что умно скрадывает некоторое обстоятельство. Я гляжу на нее и говорю себе просто в порядке информации: «Она мне нравится, я смогу всегда любить ее, а как будущая мать моего ребенка она вызывает во мне нежность!» Но слово «нежность» непроизносимо без последствий, и я обнимаю Ирину именно так, по-новому, как мать моего ребенка, и целую ее также по-новому, и она откликается робко и целомудренно.
И вообще я не узнаю Ирины. Она вся такая домашняя, уютная и неторопливая, словно не она месяц назад носилась по этажам и коридорам телевидения со своими скандальными идеями, ругалась с начальством, кого-то назидала и убеждала, кого-то клеймила и развенчивала. Только женщины умеют так перевоплощаться, почти мгновенно и до неузнаваемости, без всяких планов на «новую» жизнь, без рефлексий и колебаний. Вот чему можно позавидовать! И ведь скажи ей, что вся предыдущая ее профессиональная суета была именно суетой – обидится! – потому что в ее перевоплощении одно состояние не отрицает другого.