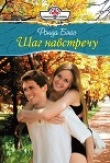Текст книги "Расставание"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
1
Мой отец для меня хороший человек, потому я и живу с ним, а не с матерью. Мне удобно с ним, и этим он для меня хорош.
Он – человек удивительного здоровья, у него вместо нервов струны от контрабаса. Не существует ничего в мире, что могло бы вывести его из себя. Чем больше я присматриваюсь к отцу, тем больше поражаюсь его уникальности. Весь мир, всех окружающих, все свои дела, личные и служебные, он воспринимает так, как будто в целом свете он – единственная реальность, все же прочее – кинематограф, то есть можно, конечно, позволить себе некоторые эмоции, но предаваться им всерьез по меньшей мере смешно.
Я не встречал второго такого человека, который мог бы так пожимать плечами. В этом неповторимом жесте больше философии, чем в рассуждениях любого из стоиков. Это его пожатие плечами я долго учился копировать, но где там!..
Под конец совместной жизни мать от этого жеста впадала в истерику – получала в ответ такой же точно жест, но теперь уже по поводу ее истерики.
Небывалое равнодушие ко всему миру и к человечеству позволяло отцу довольно часто высказывать весьма трезвые и резонные мысли, которые служили для меня пищей для размышлений. И где-то к двадцати годам мать начала присматриваться ко мне с откровенной отчужденностью и даже враждебностью. Люська, младшая сестра, материн адъютант и единомышленник, та, щурясь презрительно, выносила мне приговор: «Папин сыночек! Такой же толстокожий!» Мать неуверенно защищала, а я не обижался. В материнском неравнодушии я тоже не видел истины, про себя же знал – кожа моя тонка и чувствительна, и если я не буду повышать свой болевой порог чувствительности, трудно будет в этом мире, где каждый норовит наступить тебе на ногу, поддеть локтем, уколоть языком.
В эпоху потепления мать с Люськой отчаянно задиссидентствовали. Их однокомнатная квартира на Новослободской гудела голосами и шуршала Самиздатом. Что говорить, это было веселое время! Пахло озоном, а как дышалось! Тарахтели машинки, множа и множа вырвавшееся из бездны молчания человеческое слово. И я закрутился в потоке разномыслия. Отцовская квартира превратилась в перевалочную базу торопливо настуканных машинописных листов. Отец прочитывал все, что я приносил, говорил: «Любопытно» или «Интересно», а иногда коротко: «Чушь», и, как мне казалось, через минуту забывал о прочитанном. Ничто не могло поколебать его спокойствия. Он даже не высказывал беспокойства, что могут быть неприятности из-за этой макулатуры, из-за моей суеты, из-за его, пусть косвенной, но все же причастности к диссидентству. Ведь это на его машинке я выколачивал одним пальцем экземпляры вольных стихов, обращений, манифестов.
Мать с Люськой – другое дело. Они носились по Москве, как одержимые, с кем-то знакомились, куда-то кого-то возили, вечерами ахали над страницами Самиздата, с именами диссидентствующих физиков и лириков.
При всем том, Люська продолжала исправно учиться на факультете журналистики, мать трудилась в институте общественных наук, отец преподавал марксизм-ленинизм в одном из технических вузов. Я сам заканчивал историко-архивный и присматривал уже себе тепленькое местечко в солидном музее. Чудное и непонятное было время!
Все прошло. Власть опомнилась. Диссидентство замкнулось на кругах своих. Активисты исчезли – кто на Западе, кто на Востоке. В материной квартире из всего иконостаса вольнодумцев остались лишь фотографии Ахматовой да Пастернака. Книжные полки отца добросовестно сверкали корешками классиков.
Сейчас Люська, единственная пострадавшая, перебивается случайными заработками, халтурой. С матерью ее отношения несколько запрохладились, но живут дружно. По-моему, их объединяет презрение к отцу и ко мне, хотя наши отношения с матерью сложнее. Мы любим друг друга и все же глубоко чужды. Но мать есть мать. Я скучаю по ней, хотя и дня не вытерпел бы совместного житья. Мать агрессивна. И мне удобнее с отцом. Отец щедр. Люська и мать принципиально отказываются от его помощи. Я не отказываюсь и тем доставляю ему даже удовольствие. Много я у него не беру, но чаще всего как раз немного и нужно позарез.
У отца есть женщина, тоже какой-то марксоид из того же института. Отец ее не приводит. Ездит к ней или они где-то встречаются, это не мое дело. Но убывает он из дома часто, так что квартира бывает неделями в моем распоряжении. Что и говорить, удобно я устроился в жизни. Только мне уже почти тридцать, а все кажется, будто жизнь еще не начиналась, вот-вот должна начаться, но только это начало, как горизонт, отступает от меня ровно на столько шагов, сколько я сделаю в его сторону, и я все еще не живу, все только готовлюсь…
Так было до этой последней командировки.
Я возвращаюсь в Москву новым человеком. Так я провозглашаю самому себе. Новизну я ощущаю во всем, в каждом впечатлении, в каждом намерении. Нет, ничего нового про себя я пока что не знаю, откуда ему взяться, новому! Однако новизна это скорее готовность к новому, оптимизм предчувствий, планов… Мне хорошо!
Сегодня мне нравится Москва. Меня не раздражает теснота в метро, я улыбаюсь красивым женщинам и некрасивым тоже, я, наверное, похож на идиота но, в конце концов, я не виноват, если улыбка не сползает у меня с рожи.
Два месяца я не был в Москве, но, если руку на сердце, соскучился ли я? Едва ли. Хотя мы очень странные люди – горожане. Когда мы хотим одиночества, мы выходим из своих перенаселенных квартир и ныряем в толпу и умудряемся никого не видеть, ничего не слышать, мыслить под визг тормозов, мы умеем оставаться один на один со своим «я», работая локтями, выскальзывая из-под машин, ослепляясь рекламами, – мы ненормальны всем своим образом жизни. Но если эту жизнь принимаешь, значит, она – норма.
Когда возвращаешься в Москву, только тогда видишь, как по-разному воспринимаем столицу мы, коренные москвичи, и провинциалы. Мы не чувствуем в Москве столицу страны или государства, Москва в нашем восприятии – политический центр.
Центр чего – сказать трудно. Но в Москве даже случайный чих есть событие политическое, здесь просто не бывает неполитических событий. Эту политику мы чувствуем нюхом и обособляемся от нее в своих мирках, которые создаем, рушим и воссоздаем заново, и Москва для кондового москвича – это несколько квартир, где разнузданный треп, чревоугодие и бахусовы процедуры – как бы микропротивостояние всеобщей вовлеченности в политику, там мы раскрепощаемся, там мы ехидничаем, иронизируем, импровизируем, пошлим, выворачиваем себя наизнанку и, собственно, только эти часы именуем жизнью, которую отделяем от службы.
Есть еще коридоры нашей жизни, личной жизни, они проходят где-то под землей – это телефонные провода. Телефоны – это наше, непосягаемое, неотъемлемое, это наша свобода. Телефон, если он где-то в прихожей, или на подоконнике, или на этажерке – это не телефон, и в такой квартире живут не москвичи. У москвича аппарат около тахты или кушетки на маленьком столике, чтобы не тянуться далеко, не утруждаться неестественной позой, москвич «телефонит» в самой удобной позе, а таковой может быть только одна: это упасть на кушетку (диван, тахту), в зубах сигарета, на столике черный кофе без молока, без сахара, вот так полулежа, свободной рукой снимается трубка, не торопясь набирается номер, голос ленив, спешить некуда, на том конце тоже не торопятся, идет треп – совершенно новый вид искусства, порождение второй половины двадцатого века.
Каждый уверен или, по крайней мере, надеется, что телефон его прослушивается, иначе вы – не личность! Но каждый надеется, или даже уверен, что органы понимают: он человек не опасный, ну, немного иронии, немного вольности, но, слава Богу, есть настоящие диссиденты, от которых органы могут отличить просто интеллектуальных людей, коим необходима доза вольности для повышения производительности труда; в органах нынче не гробокопатели, не застрельщики сталинских времен, уже не хватают за глотку каждого шипящего, лишь пожурят слегка…
Внешне кондовый москвич немножко левее, чем по сути, а в душе полагает, что если систему можно слегка поругивать, то в такой системе можно жить, то есть считать, что ты живешь сам по себе, что тебе плевать на политику, что ты достаточно свободен, чтобы уважать себя и не уважать кого угодно.
Что до Москвы, то она для москвича – зачастую несколько кварталов, улиц или домов, это какой-нибудь один театр, несколько художников, поэтов, актеров и просто исключительных личностей, за которыми закрепляется понятие Москвы, не Москвы – столицы, но Москвы – микромира высшей категории, за пределами которого суета политиков и лупоглазие провинциалов.
«Ах, Арбат, мой Арбат!» Провинциал не поймет этих слов, в которых речь идет не о районе Москвы, где, положим, вырос, а о микромире-фантоме, что сотворен незамысловатой песенкой в противовес лозунгам, портретам и небоскребам; для москвича «наша Москва» – не город-герой, не источник социалистической мощи, нет, сохрани Боже! Это понимать надо, что такое «наша Москва»!
И неважно, что завтра он выйдет с флажком «по-среднесдельному» на ненавистный Калининский проспект встречать представителей враждебно-дружественной державы, неважно, что послезавтра на партсобрании будет докладывать о готовности своего отдела принять повышенные соцобязательства в честь предстоящего съезда, это все неважно, потому что дома у него на полке «Мастер и Маргарита», а в прошлом году один диссидент оставил у него на хранение пишущую машинку, а в позапрошлом некоторая часть гонорара за статью ушла, ни больше, ни меньше, в фонд помощи… «Ах, Арбат, мой Арбат!»
Ну, а для меня Москва – любовь или ненависть? Привязанность – вот слово, точное и безоценочное. Привязаться можно к чему угодно, – я привязан к Москве.
Я схожу с поезда, и с первого шага я повязан ритуалом моей московской жизни. На Кропоткинской у выхода из метро я ныряю в телефонную будку и звоню домой. Это правило. Отец, возвращаясь из отъездов, тоже звонит на квартиру. У меня может быть женщина. У него может быть с меньшей вероятностью, но может, и я звоню. Дома никого, и это хорошо. Я почти бегу по улице, в подъезде лишь кидаю взгляд на почтовый ящик. В нем ничего. Значит, отец был сегодня. Щелкаю замком и – дома. Заглядываю в отцовскую комнату. Там порядок, как всегда. В холодильник. Полно. И теперь лишь к себе.
Пыль. Отец не прикасается к моим бумагам. Отец у меня, что надо! Я разбираю чемодан, швыряю на стол материалы командировки, белье в ванную, точней, под ванну, чемодан под кушетку. На кушетку падаю сам, а под рукой телефонный провод. Звонить? Нет, что-то не хочется. Обстоятельства моей личной жизни выбили меня из привычной колеи. Комната моя, которую ценил безмерно, изолированная, шестнадцать метров, полная книг, увешанная репродукциями и даже подлинниками, с окном в сквер и на простор за сквером, что-то она сегодня пустовата. И я вписываю поповскую дочку в этот интерьер и пытаюсь ее глазами взглянуть на каждую деталь и на самого себя, развалившегося на кушетке у телефона.
Икона прошлого века рядом с фотографией Солженицына, это вполне по-московски, но я беру икону Тосиными руками и смотрю в угол, где репродукция «Дон-Кихота» Пикассо. Тонкими, гибкими Тосиными пальчиками я осторожно снимаю Рыцаря Печального Образа и пристраиваю на его место икону. С полки антиквариата, из плотного ряда старинных переплетов вынимаю Библию и держу ее в руках, прижав к груди; ее некуда положить, чтобы она была отдельно от прочих вещей и книг, нужна полочка под иконой, и Тосиными руками я уже не могу ее сделать. Впрочем, я и своими едва ли что-то смогу. На редкость умными руками одного моего приятеля я сооружаю полочку в углу, и Библия на месте. Но не у места оказывается журнальный столик, и я сдвигаю его вплотную к письменному столу, стол оттаскиваю к книжной стенке, снимаю навесные полки и навешиваю на другие места; на пол летят картины, репродукции, фотографии, кушетка подперла дверь, телефон у черта на куличках. Я умаян и раздражен. Я выставляю поповскую дочку из комнаты, и все снова на своих местах, и обретается некоторое спокойствие, только некоторое, потому что поповская дочка за дверью, а там ей не место, ее место рядом со мной, и поэтому она снова входит в комнату легкими шагами, обводит комнату взглядом, взгляд ее останавливается на иконе, что рядом с Солженицыным, она протягивает к ней руки… и сейчас все начнется сначала! Я хватаю с рычага телефонную трубку, звоню матери. Приехал? – спрашивает она.
– Приезжают из отпуска. Из командировки прибывают. Здравствуй!
– Здравствуй! Здоров?
– Слава Богу!
– Зайдешь?
– Обязательно!
– Что-нибудь случилось?
– Почему?
– Если обязательно зайдешь, значит, случилось. Мать любит демонстрировать прозорливость.
– Пожалуй, случилось. Женюсь.
– На котором месяце?
– Все не то, мама. Я женюсь не на Ирине.
– Нашел в провинции?
– Нашел.
– Когда зайдешь?
Мать волнуется, я слышу это, и я благодарен ей.
– Она не в Москве. И все будет еще не скоро. Как Люська?
Мать молчит, и я поеживаюсь.
– Что у нее?
– Не то, что ты думаешь… Приходи.
– Вечером. Хорошо?
Мать рада, что я приду сегодня. Что-то с Люськой. Но, как я понял, не по диссидентской линии. С Люськой обязательно должно что-нибудь случиться. Она живет на нервах. Еще в детстве у нее всегда были обкусаны губы. От нее исходит беспокойство, она все кого-то разоблачает, обличает, всегда кому-нибудь предана до умопомрачения. Пока она была девчонкой, я подшучивал над ней, и просмотрел, как она перестала быть девчонкой, и однажды заработал оплеуху, пожалуй, справедливую. Оплеуха сломала наши прежние отношения, новые не возникли, просто я стал побаиваться ее, у ней появилось презрение ко мне. Но родственность – куда ее денешь, и я привык любить сестру на расстоянии. Это вообще, по-моему, самый истинный тип любви, может быть, даже единственный. Я всех держу на расстоянии. Вовремя подпустить холодка в отношениях – в этом я вижу высшую мудрость поведения.
Кажется, это даже не мой стиль, а отца. Но если я это делаю сознательно, иногда с насилием над собой, вопреки чувству, то у отца все естественно, самой его натурой предусмотрено, для него просто невозможна страстность отношений, чужая страсть отодвигает его ровно настолько, чтоб самому не загореться и в то же время пользоваться теплом чужого огня.
Вообще, отцу я многим обязан. Он был первой моей любовью. Спокойный, серьезный, деловой, уверенный – я боготворил его в детстве! Но именно от него получил первый щелчок по носу. Почувствовав мою неумеренную привязанность, он своей холодной ладонью однажды отстранил меня, всего на йоту, но не понять его жеста было невозможно, и после этого я всегда ощущал пространство, которое он воздвиг между мной и собой. Я на всю жизнь запомнил свои страдания, и еще сопляком решил бесповоротно – никогда не подвергать себя такой боли. И позже, отстраняя от себя других, видя чужую боль, я говорил про себя: учись, дружок, такова жизнь, один раз наколешься, другой раз побережешься!
Заерзал ключ в замке, мягко подалась дверь. Пришел отец.
– Гена, ты дома?
Я выхожу ему навстречу с приветственным жестом. Это все, что мы позволяем себе при встречах. Отец, как всегда, причесан, изысканно одет во все серое, этот цвет идет ему. Он красив, в лице холеность, в глазах ум и спокойствие, в движениях сдержанность, в словах точность и предельная экономия.
– Все нормально? – спрашивает он, и это не пустой вопрос, а по существу, потому что не всегда бывает нормально, и тогда я так и отвечаю, и у нас возникает полезный деловой разговор. И сейчас я отвечаю ему по обстановке:
– Нормально. Но поговорить надо.
Он понимающе кивает.
– Уже ел или вместе…?
– Вместе.
– Ставь чай, грей котлеты, я переоденусь.
Я могу, конечно, подражать отцу, но это всегда будет только подражанием. Увы, моя порода разжижена материнской эмоциональностью. Я только подыгрываю отцу, но при всей нашей внешней схожести, – вроде бы говорим одни и те же слова, живем одними и теми же принципами, – то, что у него получается легко и как бы само собою, то мне дается непременно волевым усилием, а точнее – насилием над своей натурой.
К примеру, я знаю, какой у нас состоится разговор, – не такой, какого бы мне по-настоящему хотелось.
Я включаю электроплитку, грохочу сковородой и чайником, звеню посудой, я сижу и жду отца. Ну, вот опять же, разве я когда-нибудь приучу себя, придя домой, так педантично переодеваться, развешивать одежду по шкафам, ставить ботинки в гнезда под вешалкой, хотя бы не стаптывать безобразно домашние тапочки?
Отец появляется в домашнем одеянии, не менее элегантном, заново причесан, на домашних брюках стрелочки. Зачем ему стрелочки на домашних брюках? Но я завидую. Хотя зависть моя – бесплодна.
Я раскладываю котлеты, наливаю чай. Некоторое время мы молча едим. Потом я спрашиваю:
– У тебя как?
– Без изменений.
И это тоже не отговорка. Значит, у него действительно все без изменений в ту или другую сторону.
– Женюсь, – говорю я.
Он перестает есть, смотрит на меня серьезно.
– Не на Ирине, – упреждаю я его вопрос. – Вообще не на москвичке.
Он смотрит на меня полминуты, и этого достаточно, чтобы он понял ситуацию.
– Тебе нужна квартира.
Есть ли еще у кого-нибудь такой отец?
– Однокомнатный кооператив стоит четыре тысячи. Я могу дать две.
Это значит, он больше действительно дать не может. Но разве я рассчитывал на такое! Только почему мне грустно? Он расстается со мной без сожаления, а мне бы хотелось жить втроем – и с Тосей, и с отцом, и вчетвером мне тоже хотелось бы жить – с отцом Василием. Хорошо бы и впятером, – с матерью и даже с Люськой, если ее комната от моей подальше. Мне хотелось бы жить большой семьей, кланом. Ведь ужились бы! Тося – с кем она не уживется?
Все эти мысли одного мгновения. Но отец куда дальновидней меня. Дети! Я их хочу. Тося, конечно, тоже. Отцу же никто не нужен. Даже я.
– Кто она? – спрашивает отец. Отцу врать нельзя. Говорю, как есть:
– Поповская дочка. Отец удивлен:
– Своеобразно, – отвечает. И, наверное, хорошо. А могла быть и диссидентка. Во всяком случае, это не банально. Мать знает?
– Звонил. Сегодня поеду к ней. А что с Люськой?
Отец не знает, что с Люськой. Она умирать будет – не сообщит отцу. Я вижу в этом жестокость, но его это явно не задевает. Наш отец наверняка доживет до ста лет.
– Она, кажется, по-прежнему крутится с диссидентами? – отвечает он вопросом на мой вопрос. Я пожимаю плечами.
– Кончится тем, что она выйдет замуж за еврея и уедет в Израиль.
Я пытаюсь уловить хоть какой-нибудь оттенок в его голосе, но нет, это спокойное и выверенное предположение. Такое действительно может произойти с Люськой. И отец к этому готов.
– Ну, а ты, как договоришься со своей женой относительно Бога?
– Постараюсь понять эту идею. – Я пожимаю плечами почти по-отцовски.
Ваше поколение ищет сложностей. В этом есть резон. Он не осуждает и не завидует, он констатирует. – Но женой она должна быть хорошей.
И опять он прав. Тося будет хорошей женой. А чем отцу была плоха моя мать? Мне очень хочется спросить его об этом, но он сам отвечает на мой незаданный вопрос:
– Ум женщины не в образовании, а в умении быть женой и матерью, в умении создавать семью, сохранять ее… Кому нужны ее степени и звания?
Эти слова были бы банальны, если бы не предназначались моей матери. В самом деле, кому нужны ееученые степени, добытые откровенной халтурой. Ученая степень отца – тоже халтура. И она тоже никому не нужна, кроме него самого. Я ему этого не хочу говорить. А, впрочем, почему бы и не сказать?
– Ну, а твой марксизм, папа? Не первый раз эта тема у нас возникает. Он еще наливает себе чай, я отказываюсь.
– Все зависит от того, как понимать истину. Разве марксизм – это только Маркс и Ленин? Это теория социализма. А социалистическому идеалу столько же лет, сколько человечеству. Какая-то часть человечества жаждала и жаждет социалистического бытия, и разве можно отказать в истине тому, что существует тысячи лет? Существующее разумно. Разумно – следовательно, истинно, то есть оно реальный элемент бытия. Кому-то этот элемент не по вкусу, ну и что? Каждая отдельно высказанная истина марксизма может звучать сомнительно, как, впрочем, и любая другая истина, но в целом марксизм или социализм – реальность, к которой и по сей день стремятся миллионы. И где? Именно там, на Западе, то есть, казалось бы, на противоположном полюсе. Социализм в известном смысле биологическое влечение человека, против которого бессильны факты и аргументы, и, следовательно, в нем подлинная истина бытия. Национализация, к примеру, хорошо ли это? Но она неизбежна, это то, к чему человечество идет, влекомое инстинктом. Значит, она тоже истина.
Отец смотрит на меня. Он не навязчив, я знаю, он не скажет лишнего слова, если увидит, что я не слушаю или слушаю плохо.
– Но ты делаешь карьеру на марксизме в стране, где марксизм себя скомпрометировал.
Брови отца в недоумении подлетают вверх.
Скомпрометировал? Ничуть. Напротив, именно в этой стране социализм победил полностью тем, что переработал душу, не оставив ни единой свободной клетки для альтернативы.
Отец улыбается, я знаю эту его улыбку, значит, сейчас он выскажет какую-то больную для меня истину.
– Социализм победил хотя бы уже тем, что выработал безобидную для себя форму оппозиции. Вот ты, к примеру, разве ты опасен социализму? А ведь ты оппозиционер. Ты не опасен, потому что твоя оппозиционность не по существу, а в сущности она глубоко эгоистична.
– Диссидентов ты тоже в счет не ставишь?
– Не ставлю, – отвечает он, – по тем же самым причинам. Их инакомыслие не по существу, а эгоизм их сугубо клановый.
– Ты полагаешь, что в тюрьмы могут идти движимые эгоизмом?
Отец прислушивается к моим интонациям. Если обнаружит, что я завожусь, разговор прекратится.
– Я полагаю другое, – осторожно возражает он, – если народовольцы были против царизма, они сражались с ним насмерть, то есть обещали смерть своим врагам и готовы были к смерти сами. Диссиденты же из кожи вон лезут, доказывая, что они не антисоветчики, что политикой они не занимаются, они и сами убеждены, что сажать их не за что. Далеко ли ходить за примером – твоя сестра убеждена, что власть должна к каждому ее слову прислушиваться, к слову-то подчас сумбурному, но должна прислушиваться, потому что, видите ли, она, сестричка твоя, этой власти добра желает! И не смешно ли, подумай сам, власть, покоящаяся на согласии миллионов, пусть на молчаливом согласии…
Тут он перехватывает мою ухмылку.
– …знаю, хочешь сказать про штыки. Но штыками подавляют бунт, и нет таких штыков, которые могли бы его предотвратить, если он созрел. Не бунтуют? Так не смешно ли, власть эта должна прислушиваться и видоизменяться каждый раз по требованию взбалмошных девчонок! Хорошо, хорошо пусть не девчонок. Но людей, у которых ни программы, ни даже просто цельного мнения о явлении, с которым они пытаются бороться. Власть – продукт целой эпохи, итог тысячелетнего инстинкта, и десяток интеллигентов, не согласных друг с другом, ей не опасен. Лично я восхищаюсь этой политической системой, она великолепна и грандиозна…
– Лагерями ты тоже восхищаешься? – вставляю я угрюмо.
– Не нужно делать из меня монстра, – спокойно говорит отец. – Но как явление, достигшее в своем развитии оптимальной жизнестойкости, социализм не может не вызывать уважения. Блефы в истории не реализуются, в истории реализуется всегда лишь то, что единственно и необходимо, и всегда по воле и желанию самих людей. Мы получили, что хотели.
– А тебе лично, тебе нравится то, чему ты служишь?
Знакомое пожатие плечами.
– Мне пятьдесят пять. Хорошо ли это, как думаешь ты, тридцатилетний? Наверное, в этом мало хорошего. Мне грустно. Но в своем возрасте я нахожу известные преимущества. Мой возраст – это такой же непреложный факт, как социализм, которому я служу. Я не собираюсь натягивать на себя джинсы и рубашки с попугаями, я не ухаживаю за восемнадцатилетними девушками. Я живу в соответствии с реальным фактом моего возраста. Ответил я?
– Ответил, допустим, – я задаю ему еще только один вопрос. – Признаешь ли ты моральное право за действиями Люськи и прочих?
Опять пожатие плечами.
– Почему бы нет? А ты, – улыбается отец, – можешь ли утверждать, что у мышки больше морального права выжить, чем у кошки ее съесть?
– Все, что ты говоришь, папа, есть цинизм.
– Нет, – возражает он твердо, – это только реализм мышления. Это реализм без всякой инфантильности. Это серьезно. И если бы Люськины приятели понимали, что имеют дело не с полицейской диктатурой, как они говорят по шаблону прошлого века, а с жестким реализмом бытия, вкотором своя правда, правда именно в том, что ОНО есть и существует, если бы они это понимали, они могли быть более серьезными противниками. Но все дело в том, что они совсем не противники, они всего лишь диссиденты, а их существование может быть вполне регламентировано системой.
Отец смотрит на меня своими светлыми марксистскими глазами, и как мне не завидовать его уверенности, я никогда не знал ее за собой, этой надежной прислоненности к чему-то, что прочнее тебя. Я всегда ощущал себя хиленьким деревцом со слабенькими корнями; всегда был занят тем, чтобы занять позу устойчивости, но меня колебало во все стороны, и я изгибался, как мим, а противоестественность моих телодвижений неглубокими людьми воспринималась как оригинальность; и я спешил уверить их в правильности впечатлений, – кто прошел через это, знает, как можно устать колебаться и изображать оригинальность… Отец смотрит на меня своими светлыми равнодушными глазами, и я знаю, что у меня такие же глаза, я ведь папин сынок, они у меня только чуть синее, у отца – малость выцвели от пристрастия к марксизму; и вот мы сталкиваемся с ним взглядами, сливаемся своим светлоглазием во что-то единое, родственное хотя бы по плоти; мы смотрим друг на друга, как будто изучаем свое подобие в зеркале, и потом взгляды размыкаются, каждый возвращается в себя, в свой мир, а миры эти чужды, и здесь уже нет родственности, только взаимовыгодная терпимость.
– С работой все в порядке? – спрашивает он.
– В порядке, – отвечаю.
Для меня этот «порядок» может означать многое, для отца лишь одно: умеренность в выполнении функций, за которые получаешь средства к жизни.
– Посуду уберешь? – спрашивает он, поднимаясь из-за стола.
Я киваю головой. В квартире у нас все определено раз и навсегда. Если я сегодня убираю посуду, то в следующий раз он.
– Когда деньги дать? – это он спрашивает уже в коридоре.
– Не сейчас, во всяком случае.
– Скажешь.
Он уходит к себе, а мне пора подумать о некоторых вещах, требующих немедленных решений. Эти же самые деньги. Нужно доставать еще минимум четыре. Значит, надо срочно искать халтуру. Я перебираю в памяти своих знакомых и останавливаюсь на Евгении Полуэктове, пронырливом очкарике, уже который год живущем на всякие халтуры литературного характера. Кое-что мне перепадало от него, то есть он уступал мне свой заработок, если у него был выбор. На него я вышел через Ирину. Долгое время у меня были подозрения, что Женька уступил мне не только заработок, Ирина же все намеки отвергала с негодованием, да оно и несущественно было для того стиля отношений, который сложился у нас с Ириной с первого сближения.
Вот еще Ирина. С ней тоже будет непросто.
Мне хотелось бы ее увидеть. Просто увидеть – не более. Не уходит ничто бесследно из наших чувств, и я больше всего боюсь разжалобиться, когда придет время объясниться с ней. У отца бы мне поучиться, как расставаться с людьми.
Я звоню на квартиру Женьке Полуэктову. Чей-то женский голос бойко диктует мне номер телефона, где Женьку можно застать в течение ближайшего часа. На чужой адрес я звоню голосом размеренным и деловым и прошу пригласить к телефону Евгения Владиславовича. Это я поддерживаю Женькину марку. Мы договариваемся о встрече в восемь у него дома. Значит, до восьми вечера я могу побывать у матери. Уже четвертый час.
Я не сообщаю отцу, что ухожу и когда вернусь. Ему это безразлично. Если бы с кем-нибудь из нас что-то случилось вне дома, ни один не хватился бы другого в течение месяцев. Идеал отношений! От этого идеала меня нет-нет, да потянет к матери. Ее квартира для меня чужая, там всегда какие-то люди, там свои заботы и хлопоты, и каждый раз, когда я, бывало, появлялся там, все почему-то начинали энергично обсуждать свои проблемы, словно подчеркивая саму проблемность их жизни, в сравнении с которой я должен выглядеть убогим мещанином. Особенно старалась Люська. Она начинала кого-то хвалить за гражданское мужество, кого-то за умелую конспирацию, кого-то за отзывчивость к диссидентским событиям. Если я пытался вступить в разговор, Люська меня игнорировала, перебивала, могла, презрительно сощурясь, спросить: «Ты чего пришел?»
Мать изводила по-своему: расспрашивала о моих делах, и если я поддавался на ее расспро-сы, начинала учить меня жить, ругать отца, доказывать его отрицательное влияние на меня.
В этот раз повезло. Еще когда Люська открывала дверь, я понял, что в квартире чужих нет. Но обеспокоило другое – Люськино лицо, и вообще-то узкоскулое и худое, а теперь – кожа да кости. Глаза как в лихорадке. Из-под халата мосла торчат. Губы синие. Растрепана.
Люська открывает дверь и не говорит ни слова. Сует мне под ноги тапочки и уходит на кухню.
– Иди сюда, Гена! – кричит мать из комнаты. И я понимаю, что мать с дочкой только что поругались, и мое появление очень кстати, через меня они помирятся, по отношению ко мне их обязательно что-нибудь объединит.
Мать тоже выглядит неважно, но в форме. Всегда, когда я вижу ее после долгого перерыва, меня посещает одна и та же иллюзия: теперь все будет по-другому, сейчас мы найдем общий язык раз и навсегда, – и чего нам делить? – и я проникаюсь внезапной нежностью к ней. Мне кажется, и она испытывает то же.
– Ты очень хорошо выглядишь, – говорит она. Она всегда так говорит.
– Ты тоже, – и я всегда это говорю, хотя иной раз и неправду, как сейчас.
– Кофе будешь?
Я соглашаюсь.
– Люся! – кричит мать. – Сделай нам кофейку, пожалуйста!
Это она делает шаг к примирению, которое им обеим нужно позарез. Сестра, не отвечая, громко звенит посудой, что должно означать: она еще сердится, но готова помириться.
– Ты в этот раз был, кажется, где-то очень далеко?
– Очень далеко. В Сибири.
– Это, наверное, интересно… – не очень уверенно говорит мать.
– Для меня интересно.
– Как отец?
И тут появляется Люська с банкой растворимого кофе. Если речь заходит об отце, она не утерпит, ей обязательно нужно присутствовать и участвовать.