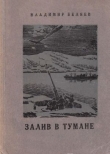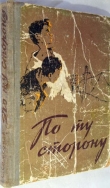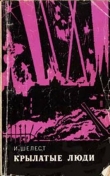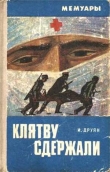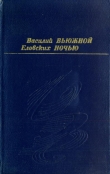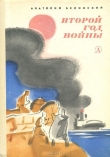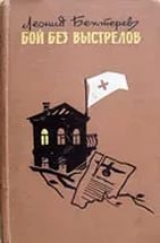
Текст книги "Бой без выстрелов"
Автор книги: Леонид Бехтерев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Леонид Бехтерев
Бой без выстрелов
Быль военных лет


1
Был август 1942 года. Курортный городок, живописно раскинувшийся у подножия Большого Кавказа, дремал в знойной истоме. Казалось, жизнь замерла и все живое беспечно и лениво пережидает дневную жару.
Но так могло только показаться. Город жил тревожно и напряженно: к нему приближался фронт. Год назад все санатории и дома отдыха здесь были заполнены ранеными и больными советскими воинами. Сейчас они наполовину опустели – раненых эвакуировали в глубокий тыл.
Дорога на юг была забита составами. Они шли по обоим путям. Правда, слово «шли» не совсем точно передавало темп движения. Не шли, а ползли. Двигались армейские тылы, эшелоны с эвакуированными, оборудованием заводов, тракторами и комбайнами, зерном и шерстью, продовольственными запасами, промышленными товарами.
Нелегко было в этих условиях вырвать и порожняк, и паровоз, и, наконец, даже место на рельсах для эвакуации госпиталей. И все-таки ежедневно на главную магистраль выходило по нескольку эшелонов с ранеными. В то же время товарищи, ведающие эвакуацией, все более настойчиво предлагали руководителям госпиталей эвакуировать раненых любыми средствами, всех, кто может ходить, отправлять пешим порядком.
На вокзале шумно. То и дело подвозят носилки с ранеными. Один эшелон полностью загружен. Его отвели на товарную станцию, чтобы не мешать погрузке двух других эшелонов.
К концу дня, когда вагоны были заполнены, на станции все затихло. Оставалось ждать паровозов.
В вагонах замолкал негромкий говор. Через раздвинутые двери вливался поток свежего, прохладного воздуха. После дневного зноя, когда вагон казался раскаленной печкой, раненые задремали. В наступившей тьме редко где можно было заметить красный огонек папиросы – докуривали на сон грядущий последние самокрутки.
Но вот тишину нарушило гудение самолета. В небе распустился один парашют, другой, вспыхнули осветительные ракеты, заливая станцию мертвенно-бледным светом повешенных в небе «лампадок». В вагонах все проснулись. Те, кто мог добраться до дверей, вываливались на асфальт перрона, сползали на шпалы, распластывались у стенки платформы или между колесами вагонов.
Большинство не могло сползти даже с носилок. Раненые с тяжелыми переломами были в гипсе. Раненые в грудь, живот, в голову, казалось, оцепенели, уставившись взглядами в крышу вагона.
Прерывисто гудел мотор самолета. Фашистский разбойник методично развешивал на парашютах свои светильники. Потом открыл пулеметный огонь. Очереди трассирующих пуль прорезали темноту неба ярким пунктиром. Пули глухо били в асфальт перронов, звонко ударяли в рельсы, певуче рикошетя в темноту… Оцепенение проходило.
– Горох не страшен!
– У него и бомбочки есть!..
– А может, он их уже покидал?..
Свет «лампадок» сперва падал через оконные проемы товарных вагонов на пол. По мере того как парашюты с осветительными бомбами спускались к земле, ярко вырезанный квадрат окна полз по полу, взбирался на стенку вагона, тускнел: догорали «лампадки».
Самолет прошелся по кругу над эшелонами, и возник новый звук: воющий свист. Тишину потрясли разрывы бомб. Приземистое, низкое здание вокзала дрогнуло. После света «лампадок» и пламени взрыва мрак ночи показался особенно густым.
Раненые окликали друг друга, выясняя, все ли живы, какой вагон резанула цветная струя свинца.
– Григорь! Как у вас?
– Порядок… А вам досталось?
– Нет, в сторону пулял…
Вагоны гудели громким разговором. Лежавшие на носилках обсуждали миновавшую опасность, высказывали надежду, что налет не повторится. Большинство тех, кто покинул вагоны, обратно забраться не могли. У многих были повреждены перевязки, открылись раны. Под вагонами раненые стонали, ругались и с муками ползли на открытое место. То и дело вспыхивали огоньки самокруток.
Под утро несколько человек приковыляли в комнату дежурного по станции. Бритоголовый мужчина в белом полотняном кителе сидел за столом, опершись подбородком на ладонь. Услышав возню у двери, он с усилием раздвинул веки, довольно нелюбезно спросил:
– Зачем пожаловали?
Раненые переглянулись.
– За отправкой пожаловали… Или ждете следующего налета? – колюче спросил один из них.
– За отправкой… Законно. Отправлять надо. А чем?.. – Дежурный сильно потер голову. – Если бы я имел хоть паровозишко… Самый паршивый…. Тяги нет!..
– Вызовите из депо… Где оно тут у вас?
– На узловой станции.
– Звоните туда, требуйте!
– Звонил, дорогие мои, звонил, и не раз…
Дежурный усталым, очевидно и ему надоевшим, жестом придвинул поближе трубку селектора и глухим голосом стал вызывать узловую станцию.
Селектор молчал. Замолчал и дежурный. Раненые переглянулись.
– Почему молчит?
– Хотел бы и я знать, почему. Последний раз говорил с диспетчером в полночь… – Дежурный посмотрел в журнал. – Да, в двадцать три с минутами… Разговор не закончили. Узловую бомбили. А потом связаться не удалось…
Еще несколько раз пытался дежурный связаться с узловой станцией, но безуспешно. Наконец удалось ему поймать голос с промежуточного разъезда. Сообщение оттуда было неутешительным: над узловой – немецкие парашютисты, путь в нескольких местах поврежден.
– Закупорили, как в бутылке, – сказал один из раненых.
– Да-а, – протянул другой.
– Может, десант в узловой уничтожат, – не очень уверенно произнес дежурный. – Путь починят…
Возражать ему никто не стал, но надежды на то, что эшелоны с ранеными уйдут из тупика, ни у кого не осталось.
2
Сформированный в городе партизанский отряд ночью ушел в горы. Николай Николаевич, командир отряда, задержался главным образом из-за того, что надо было решать судьбу раненых, погруженных в эшелоны. Утром он говорил по телефону с соседним городом, там уже определенно знали, что эшелоны отправить не удастся.
– Раненых надо спасать, – сказали Николаю Николаевичу. – Всех, кто способен двигаться, группами в сопровождении врачей направляйте по дороге в горы. Что касается тех, кто двигаться не может…
Николай Николаевич слушал, стараясь не пропустить ни одного слова. План предлагался неожиданный, трудноосуществимый. Но другого выхода не было.
– Найдите надежного человека, – напутствовали Николая Николаевича. – Под вашу личную ответственность. Не каждый справится, сами понимаете…
Николай Николаевич понимал, хорошо понимал: человек нужен незаурядный. Где же его найти такого, чтобы отвечал всем требованиям?
Ясно, что надо врача. Лучше бы не местного, а из числа раненых, который в городе малоизвестен. При всем этом надежного, отважного, но и осмотрительного, который обладал бы огромной выдержкой. Кто подскажет, где взять такого? Многие работники горкома ушли с партизанским отрядом, другие – эвакуировались. С кем посоветоваться?
Осторожно, исподволь командир включил в поиски отрядного врача. Тот называл фамилии своих коллег, давал им характеристики.
– Опытный терапевт, депутат горсовета.
– Не подойдет…
Врач называл другого:
– Всеми уважаемый. Член партии с десятилетним стажем.
– Не подходит. Давай еще.
– Очень надежный, опытный. Орденоносец…
– Тоже не годится.
– Николай Николаевич, да тебе что, прохвост нужен?
– Прохвоста мне не надо. Нужен человек надежный, но без видимых заслуг, что ли.
– Для фашистов? Чтобы доверяли?
– Вот-вот, чтобы войти в доверие мог.
Врач погрузился в долгие размышления.
– Этот, может быть, подойдет: был главным врачом, снят за растрату.
– Пьет?
– Да, не обходит.
– Нет, в сторону.
– Есть еще один: не местный, из раненых. Лечился и замещал начмеда в госпитале… Только крут очень и кулакаст.
– Что значит – кулакаст?
– Все в кулак забирает, не дает простора.
– Так это в данном случае хорошо. Врач?
– Хирург. Только вот – у женщин успехом пользуется.
– Бабник?
– Да нет вроде. Не столько он, сколько за ним ухаживают. Беспартийный. В тридцать седьмом сидел.
– За что?
– Так, по недоразумению, разобрались – и выпустили.
– Разыщи. Я хочу встретиться с ним.
– Трудно, но постараюсь.
Доктор направился к двери.
– Возьми моего коня! – разрешил Николай Николаевич.
* * *
Командование госпиталя, размещенного в военном санатории, готовилось уехать рано утром. На дворе стоял большой автобус. Мотор его работал на малых оборотах, сотрясая кузов мелкой дрожью. На две подводы укладывали последние чемоданы.
Ковшов пришел, когда почти все места уже были заняты. Он сел на заднее сиденье. Вскоре явился и начальник госпиталя. Шофер захлопнул дверцу и двинул машину к воротам.
Пока автобус петлял по горбатым улицам, Ковшов наблюдал, что творилось в городе. Улицы оживились. Многие жители шли к выходу из города – в сторону гор. Женщины и старики тащили наспех связанное в узлы имущество. Вот подросток катит детскую коляску, тяжело нагруженную скарбом, а рядом идет мать, на ее руках ребенок.
Большой продовольственный склад около товарной станции горит. Над ним медленно расплывается черное облако. Ветер несет от пожарища густой кухонный запах – горелого хлеба, мяса, масла… Горожане выхватывают из огня все, что еще можно спасти – мешки и ящики, тюки и коробки…
Ковшов видел много эвакуации и отходов. И всегда было больно и тяжело, но сегодня все воспринималось особенно остро. За время лечения и работы здесь, в глубоком тылу, притупились воспоминания об оставленных городах и селах Смоленщины, а теперь все поднялось в памяти, больно ударило по сердцу.
Автобус выбрался за город. На неровной дороге подбрасывало и раскачивало его, как утлую лодчонку в бурном море.
И все же Ковшов ухитрился задремать. Сказались многие бессонные ночи и крайняя усталость. Проснулся он тотчас, как только автобус остановился. Дорога узкая, слева – гора, справа – высокий обрыв. Впереди, перед машиной, стоит автоматчик.
К дверце автобуса подошел лейтенант. Козырнув, обратился:
– Товарищи командиры, ваши документы! – Заученно сослался на какой-то приказ.
Его право проверять документы никто не оспаривал. Лейтенант не спеша просматривал служебные удостоверения. Удостоверение Ковшова прочитал, но не вернул. Закончив проверку, сказал:
– Вас, товарищ военврач, прошу остаться.
– В чем дело? – спросил начальник госпиталя.
– Военврачу Ковшову нужно задержаться здесь, – сухо заметил лейтенант.
Автобус ушел без Ковшова.
– За вами придут, – сказал лейтенант.
– Долго ли ждать? – спросил Ковшов.
– Обещали быть часа через полтора.
Ковшов отошел в сторонку, сел на землю, прислонившись к камню. На дороге было тихо. Бойцы переговаривались вполголоса. На Ковшова навалился сон. Он пытался отогнать его, двигая то одной рукой, то другой, но движения были вялые. С мыслью о том, что спать нельзя, Ковшов уснул.
Проснулся от громкого разговора на дороге. Не сразу память восстановила прошедшее и связала с настоящим. Встал, потянулся, отряхнул приставшую к брюкам траву, зябко передернув плечами.
Было совсем светло. Только теперь заметил Ковшов, что здесь скопилась значительная группа раненых. Одни сидели, другие лежали. Все угрюмо молчали, недружелюбно рассматривая Ковшова. Он чувствовал эти взгляды даже спиной.
– Что произошло, лейтенант? – спросил Ковшов.
– Послушайте, что рассказывают раненые.
Ковшов посмотрел на отдыхавших. Заметил знакомое лицо. Где видел он этого солдата? Припомнил, что месяца два назад в одном из госпиталей он консультировал операцию – у солдата осколком мины было раздроблено плечо. Спросил:
– Как левая рука после операции?
Солдат посмотрел на левый рукав, плотно обтянувший повязку, безнадежно махнул правой:
– До руки ли, товарищ военврач, когда и голову скоро потеряю…
– Зачем же паниковать? Все будет хорошо!..
Раненые зашевелились. Лежавшие поднялись с земли.
– Хорошо? Кому хорошо? Может быть, тем, кого бросили на станции? – зло спросил боец в тельняшке, видимо, морячок.
– Ему, конечно, будет хорошо!
– Он здоров, как вол… И пешком до гор доберется. А костыльникам как? – небритый солдат оперся на костыль и встал. – Как же, товарищ военврач, мне от фашиста уходить? На карачках ползти?
– Далеко ты уползешь? Много ли прошел, а уж язык на плече! – ответил небритому солдату другой, с правой рукой на перевязи.
Лейтенант не вмешивался в разговор, он хмуро смотрел на Ковшова и тоже, как видно, осуждал его.
– Я-то еще ползу. А носилочные с вокзала куда ползти будут? В яму?!
– Товарищи, не пойму вас, – мягко сказал Ковшов. – Какие носилочные? Куда ползти? Объясните толком.
Лейтенант подошел ближе к Ковшову:
– Раненые рассказывают, что в городе на станции стоят два эшелона с больными и тяжелоранеными. Эти тоже были в эшелонах, но после ночного налета бомбардировщиков выбрались из вагонов и дотащились сюда. В вагонах большинство – носилочные больные, совершенно беспомощные. Очевидно, враг уже отрезал дорогу, пути эшелонам нет.
– Эшелоны? – изумился Ковшов. – Да ведь сегодня ночью они ушли.
– Должны были уйти, но не ушли, – жестко сказал моряк.
– Как же так? – взволновался Ковшов. – Не знал я… Не верить вам не могу, а поверить – трудно.
Подошла группа раненых. Среди них Ковшов заметил еще одного знакомца – Вадима Колесова. У него тяжелое ранение челюсти.
– Вы, Колесов, тоже ушли?
– Все уходят, кто может, товарищ военврач. Я местный житель. Мать умоляла: «Оставайся, куда пойдешь перекошенный». А я у фрица жить не согласный…
– Как рана? – спросил Ковшов, взглянув на покрасневшую повязку.
– Худо. Кровоточит, очень больно…
– А что в городе? Эшелоны стоят?
– Когда уходил, эшелоны были на станции.
Ковшов тяжело вздохнул, задумался. Его невеселые думы прервал командир:
– Товарищ военврач, за вами пришли.
Ковшов увидел врача, у которого в качестве консультанта не раз бывал на операциях. Тот улыбнулся и устало вздохнул.
– Все-таки перехватили! Успел. – И крепко стиснул руку Ковшову.
– Так это вы меня задержали?
– Да. Вас просят возвратиться в город.
– Зачем?
– А этого и я не знаю. Вам скажут.
Козырнув всем, они скорым шагом пошли по дороге, которую Ковшов недавно проехал в автобусе. Навстречу им попадались все новые группы людей. Шли раненые, поддерживая друг друга, шли старики, дети, женщины. Само горе шло по этой дороге. Многие сидели на обочине, на жесткой выгоревшей траве, припудренной пылью. Сидели, не имея сил двинуться вперед и страшась возвращаться обратно.
3
Николай Николаевич пытливо глядел на Ковшова глубоко запавшими глазами. Перед ним стоял рослый, широколицый человек. И хотя его рассматривали молча и долго, он держался спокойно, а потом усмехнулся: «Смотрите, мол, разглядывайте – мне не жалко». Стоял невозмутимо, даже с ноги на ногу не переступил.
– Садитесь, – наконец сказал Николай Николаевич. – Я теперь в городе единственная власть, – начал он. – Времени у нас мало, но все же расскажите о себе. Без лишних подробностей, но и не торопясь.
– Родом с Кубани. – Говорил Ковшов коротко, точно отдавая рапорт. – В царской армии ротный фельдшер.
В советское время окончил мединститут. В армию мобилизован перед войной. В тридцать седьмом году арестовывался, но через несколько месяцев был освобожден. Женат. Рана поджила.
– В партии?
– Нет. Готовился, но арест помешал.
– А об аресте что думаете?
– Понимаю, что была ошибка. Кто в ней виноват – не мне разбираться. С Советской властью этот случай меня не поссорил.
– На станции были сегодня?
– Нет. Но слышал, что эшелоны не ушли.
– Не ушли. И не уйдут. Некуда. Остались тяжелораненые. Вывезти их, очевидно, возможности не будет. Надо срочно убирать их с вокзала.
– Да, там им не место.
– А что потом?
– Повязки заменить, раны обработать и эвакуировать.
– А если, повторяю, не удастся всех эвакуировать? – жестко спросил Николай Николаевич.
– Тогда надо лечить.
– А если придут фашисты?
– Все равно надо лечить!
Николай Николаевич наклонился к самому уху сидящего Ковшова. Врач слушал командира так же внимательно и напряженно, как Николай Николаевич несколько часов назад слушал по телефону приглушенный голос из соседнего города.
– Согласны ли возглавить это трудное дело?
– Да, согласен.
– Все ли ясно? – уже более громко спросил командир.
– Да, все ясно. – Ковшов поднялся. – Встанут тысячи вопросов, которые придется решать самому, сейчас о них нечего и говорить.
– Дело нелегкое и опасное. Надеюсь на вас, на вашу выдержку и осмотрительность. Если есть колебания, лучше теперь отказаться.
– Опасно? На фронте тоже опасно. Выдержу.
– Там легче. Бой вести придется без оружия против жестокого вооруженного врага. Население города вас поддержит, в этом я не сомневаюсь.
Командир помолчал, закурил. И, выпустив густую струю табачного дыма, ругнулся.
– Все это дьявольски неожиданно. Задание вам дано, а на кого опереться – и сказать не могу. Надо бы толковых помощников вам подобрать. Придется и это делать самому. Да, постойте-ка, в госпитале Илья Утробин работает. Если не уехал – оставим. Человек опытный – бывал в переплетах.
– Николай Николаевич, как вы посмотрите на такое дело. Больница, если мы не эвакуируем раненых, может существовать только с помощью населения. Но с приходом фашистов в городе наступит голод. Я полагал бы, что не надо жечь продовольствие, лучше раздать его населению. Это продовольствие вернется потом в больницу, раненым. Только можно ли это? Ведь я знаю директиву: уничтожать все, ничего не оставлять врагу.
– А мы врагу и не оставим. Мысль ваша правильная: раздадим и предупредим, чтобы прятали надежно.
* * *
Начальник продовольственного снабжения госпиталя Илья Данилович Утробин впервые за трое суток спал дома – из госпиталя все, что можно, эвакуировано, раненые погружены в эшелоны. Жена и дочь готовятся в дорогу – завтра двинут в горы.
Выспался Утробин хорошо. Утром позавтракал и стал собираться. Вытащил из ящика стола картонную папку, завязанную белыми тесемками, – здесь хранились все нужные бумаги. Разворачивая пожелтевшие листы, многие из которых уже протерлись на сгибах, Утробин перебирал свою жизнь. Вот давнее письмо однополчанина Шугаева. Встретился с питерским слесарем пулеметчик Утробин в 9-м Российском полку 3-й Кавказской дивизии на Румынском фронте. Шугаев и его друг Максимов были первыми большевиками, которые помогли ему найти путь в жизни. После Февральской революции он член полкового комитета. Вот отпускное удостоверение – с ним приехал в родные места в ноябре 1917 года. Тогда же с другими фронтовиками создал Совет крестьянских депутатов. Отряд Красной гвардии в сорок штыков, которым командовал Утробин, громил контрреволюционные банды.
В особой пачке – документы героических лет гражданской войны на Северном Кавказе: командир роты в партизанской дивизии, командир летучего пулеметного отряда. Бои на Северном Кавказе, в Азербайджане, Армении, Грузии. Из степей, через горы и ущелья Закавказья пришел Илья Утробин в Батуми. Вот дорогой сердцу мандат делегата Первого всегрузинского съезда Советов… В суровые годы в тяжелой борьбе с врагами закалялся солдат революции. В 1920 году он стал членом Коммунистической партии, ее бойцом. Трудные годы восстановления, строительство колхозов, хозяйственная работа…
– Данилыч, думаешь собираться али нет? – окликнула его Елена Николаевна.
– Собираюсь, собираюсь, мать. За мной дело не станет…
– Одурела, Илюша, совсем я… Ума не приложу, что брать…
– Бери, без чего обойдись нельзя. Бельишко, там, обувь, одежку… Может, и зимовать не дома придется.
– А остальное?
– Не повезем же черепки. Не до них! После победы заведем… Ну, не плачь же…
– Линейка когда приедет? – спросила Елена Николаевна.
– Должна бы по времени и подъехать. Чего задерживается? – недоумевал Утробин.
Солнце поднялось высоко, а линейки не было. Утробин собрался дойти до госпиталя, поторопить, но не успел. Запыхавшись, вбежал санитар.
– Товарищ… Утробин… вас в… госпиталь… требуют… срочно…
Каждое слово он отделял глубоким вздохом.
Не расспрашивая, Утробин схватил фуражку и выбежал на улицу.
После ухода мужа Елена Николаевна устало опустилась на диван и закрыла глаза. Дочь Паша, думая, что мать уснула, ходила тихо, еще и еще раз вспоминая, не оставила ли чего крайне необходимого.
Уже давно перевалило за полдень, когда вспотевший от быстрой ходьбы Утробин забежал домой. К нему кинулись жена и дочь.
– Едем же! Время теряем…
– Остаюсь… Ехать нельзя… А вас захватит военная полуторка. Уговорил… Двоих возьмут.
– А ты, Илюша?
– Надо оставаться. Поверь, Лена, иначе не могу. Раненые не отправлены… На вокзале такое творится!
– Илюша, пусть едет одна Паша. Я остаюсь…
– Уезжай, родная. – Утробин обнял за плечи жену. – Мне спокойнее, если ты в безопасности.
– Нет… Паша, – обратилась мать к дочке, – ты все свое в один чемодан сложила?
– Да, мама…
Утробин обеспокоенно взглянул на ходики, что мирно и не спеша отбивали шаги времени.
– Прощайся, мать, с Пашей. Пора!
Грузовик стоял около магазина. Утробин с трудом втиснул в кузов Пашин чемодан, подсадил плачущую дочку, так и не успев поцеловать ее. Помахал ей и, надев фуражку, скорым шагом отправился в госпиталь.
* * *
Утром в эшелонах уже знали, что главная магистраль перехвачена немцами и раненых вывозить некуда. Люди понимали, что им грозит: несколько гитлеровских автоматчиков смогут расстрелять два эшелона безоружных раненых. Даже и автоматчиков не надо, достаточно двух факельщиков – подожгут вагоны, и беспомощные пассажиры задохнутся в дыму, сгорят заживо.
Те, кто мог двигаться, ползком, перекатываясь с боку на бок, подбирались к дверям вагонов и выбрасывались на рельсы, на асфальт перрона. Проклятия, стоны, крики раздавались со всех сторон. Равнодушное солнце, вставшее из-за гор, ярко освещало эту горькую картину. Оно поднималось все выше, припекало сильней, увеличивая страдания раненых.
Одна за другой на вокзале стали появляться женщины. Их вело сюда не любопытство, а беспокойство за судьбу раненых, которых они любовно и самозабвенно выхаживали в госпиталях с первых дней войны.
То, что увидели женщины на станции, сразу заставило их забыть личные тревоги и заботы. Раненым нужна теплота сердца, отзывчивость души, нежность рук. Таково уж женское сердце: увидит одного – пожалеет всех…
Анна Матвиенко, сестра-хозяйка госпиталя, встретила на станции знакомых по госпиталю.
– Аня, дай пить, – просили они.
Матвиенко с солдатской фляжкой бросилась к водопроводному крану. Выпустив тонкую струйку, кран стал хрипеть тяжело, с присвистом, как астматик. Анна ждала, ловила в горлышко редкие капли. Но вот кончились и капли. Кран перестал хрипеть и затих.
Передав раненым фляжку с небольшим количеством воды, Матвиенко побежала в госпиталь. По дороге позвала соседку Зою Завадьеву. Обе возвратились с полными ведерными чайниками и стали поить людей из рожков. На перроне, у вагонов, везде, где были раненые, сновало уже много женщин. Кто ведром, кто кофейником или миской носили воду из ближайших родников.
Не столько холодная родниковая вода, сколько душевное участие женщин ободрило раненых. Исчезло ощущение заброшенности, появилась надежда на спасение.
На станцию пришла и врач Лидия Григорьевна Тарасова. Ее поразило положение раненых. Она тотчас бросилась домой, чтобы принести все, что было у нее из пищи и медикаментов. Уже выходя с кастрюлькой и пакетом, Лидия Григорьевна натолкнулась на соседку, медсестру госпиталя Жанну Роеву. Мягкая, неизменно вежливая, Тарасова сейчас жестко бросила соседке:
– Дома сидите? А на станции раненые мучаются.
– На станции? Разве их не отправили? – удивилась Роева.
– Не отправили! – И побежала со двора.
Молва о том, что эшелоны не отправлены, что раненые на станции, распространилась по городу. Женщины наспех собирали кошелки и сумочки с едой. Несли на вокзал все, что было под рукой, – помидоры и огурцы, фрукты, кусок вареного мяса, блюдечко творогу, стакан сметаны, бутылку молока…
Напоив и накормив раненых, женщины задумались: что же дальше? Кто-то подхватил носилки и понес раненого в прохладное здание театра. Пример был подан. Никто не давал распоряжений, никто не командовал, а женщины уже бежали в вагоны за порожними носилками, клали на них раненых и несли в помещение театра. А здесь уже распоряжалась пожилая медицинская сестра, знавшая многих жительниц города:
– Не так, Маша, ставишь. Тут же проход должен быть…
– Этого, Ксеничка, несите в дальний угол. Ему нужна немедленная помощь.
Возвратившись на станцию, Лидия Григорьевна на некоторое время растерялась. Смотрела на раненых, на побуревшие от крови перевязки, сломанные лангетки, слушала стоны и не знала, что же ей делать. Но постепенно оцепенение проходило. Она не представляла всей сложности обстановки, которая сложилась в этом районе. Но одно было ясно: многие нуждались в срочной помощи. Если эшелоны уйдут даже через три-четыре часа, то все равно этих раненых нельзя отправлять, не оказав им немедленную помощь. Понимала она и другое: на вокзале, где пыль и грязь, раны открывать опасно. Требовались стационарные условия. В здании театра, куда начали переносить людей, операционную тоже скоро не развернешь.
Лидия Григорьевна решила направлять раненых в санаторий имени Пирогова, где палаты и оборудование позволяли разместить больных и быстро оказать им помощь. Многих местные жительницы разобрали по квартирам – лишь бы укрыть от гитлеровцев, которые вот-вот могли нагрянуть в город. Все понимали, как это опасно. Обнаружив раненого бойца в доме, фашисты не помилуют. Но никто не думал об опасности. Раненых укрывали и принимали всюду как самых близких, родных людей, которым в доме и лучшее место и самый вкусный кусок.