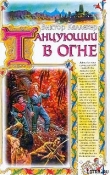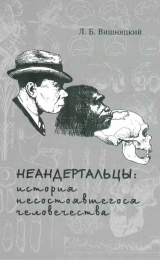
Текст книги "Неандертальцы: история несостоявшегося человечества"
Автор книги: Леонид Вишняцкий
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц)
В общем, так или иначе, с вулканами и метеоритами или без них, а природные условия на родине неандертальцев были явно не слишком ласковыми и к тому же весьма переменчивыми, да притом ещё и менялись-то они всё больше в худшую сторону. Для вида, предки которого совсем ещё недавно, всего каких-то 600 или 700 тыс. лет назад, жили в тропиках и не подозревали о существовании таких вещей, как холод, зима, снег и лёд, эти условия представляли серьёзный вызов.
Дети севера
Суровые природные условия накладывают свой специфический отпечаток как на образ жизни людей, населяющих высокоширотные районы, так и на их анатомию. Известно, что человеческие популяции, традиционно обитающие в районах с холодным климатом – например, саамы Кольского полуострова или эскимосы Гренландии, – отличаются от коренного населения низких широт целым рядом особенностей строения скелета. Такими особенностями являются, например, укороченные по отношению к длине туловища конечности, сравнительно большая по отношению к росту масса тела, утолщённые трубчатые кости и т. д. Все эти черты наблюдаются и у неандертальцев, которые по форме и пропорциям тела намного ближе к современным жителям Чукотки, Аляски и Гренландии (речь, разумеется, о коренном населении этих регионов), чем к африканцам или, скажем, палеолитическим гомо сапиенс Европы – свежеприбывшим мигрантам из той же Африки.
Особенно показательны в этом отношении два индекса, широко используемые в физической антропологии. Один из них называется круральным и характеризует пропорции ног, а второй называется брахиальным и характеризует пропорции рук. Первый высчитывается как процентное соотношение длины большеберцовой и бедренной костей (длину большеберцовой кости умножить на 100 и разделить на длину бедренной кости), а второй как процентное соотношение длины лучевой и плечевой костей (формула расчёта аналогична).
Давно замечено и многократно подтверждено специально проводившимися измерениями, что у коренных жителей высокоширотных регионов оба этих индекса значительно меньше, чем у жителей тропиков, субтропиков и даже районов с умеренным климатом. Иными словами, у саамов, эскимосов, чукчей и представителей других северных народов нога ниже колена и рука ниже локтя намного короче по отношению к верхним частям этих конечностей, чем, скажем, у центральноафриканских пигмеев, или аборигенов Австралии. Совершенно очевидно, что неандертальцы по обоим этим показателям близки к жителям севера, а палеолитические гомо сапиенс – даже европейские – больше тяготеют к обитателям низких широт, как того и следовало бы ожидать от недавних выходцев из тропической зоны (рис. 4.5–4.7).
Первым, кто обратил серьёзное внимание на существование комплекса сходных особенностей в анатомии ископаемых и современных обитателей северных областей, был американский антрополог К. Кун. Он же выдвинул и обосновал гипотезу, что размер и форма тела аборигенов высоких широт, включая неандертальцев – это следствие адаптации к холодному климату, где особое значение приобретает способность минимизировать потери тепла и энергии [92]92
Coon 1962. В общей форме гипотезу о том, что специфическая морфология «классических неандертальцев» сформировалась в результате приспособления к суровому климату севера палеолитической ойкумены, высказывали и раньше (Якимов 1949; Howell 1952), но конкретным содержанием её наполнил именно Кун, показавший, в чём мог заключаться адаптивный смысл ряда признаков (см. также Кун 1958).
[Закрыть]. Массивность тела, имеющая следствием уменьшение площади его поверхности, приходящейся на единицу объёма, помогает сэкономить и то, и другое. Не случайно у людей наблюдается обратная связь между географической широтой обитания, с одной стороны, и отношением площади поверхности тела к его массе – с другой. Чем больше первая величина, тем в среднем меньше вторая (рис. 4.8). У широко расселённых форм млекопитающих тоже представители северных видов или подвидов, как правило, крупнее своих южных сородичей (так называемое правило Бергмана). Например, уссурийские тигры превосходят по размеру бенгальских и яванских, северные олени – благородных, белые медведи – бурых и т. д.

Рис. 4.5.Соотношение длины большеберцовой и бедренной костей у разных групп современных и ископаемых людей. Очевидно, что неандертальцы по этому показателю близки жителям севера, а палеолитические гомо сапиенс больше тяготеют к обитателям низких широт, как того и следовало бы ожидать от выходцев из тропической зоны (источник: Lewin and Foley 2004)

Рис. 4.6.Соотношение среднегодовой температуры с круральным индексом, рассчитанным для разных групп современных людей. Стрелками показано, какое место занимали бы в этой картине неандертальцы, ранние гомо сапиенс Ближнего Востока (возраст около 100 тыс. лет назад) и верхнепалеолитические гомо сапиенс Восточной Европы (возраст около 25 тыс. лет назад). Источник: Lewin and Foley 2004, с изменениями и дополнениями

Рис. 4.7.Соотношение среднегодовой температуры с брахиальным индексом, рассчитанным для 12 разных групп современных людей. Звёздочка и исходящая из неё пунктирная линия показывают, какое место занимали бы в этой картине неандертальцы
Кстати, коль уж я упомянул медведей, обязательно нужно сказать хотя бы несколько слов о самом, может быть, знаменитом представителе этого славного семейства, который был «земляком» и современником неандертальцев, а очень часто ещё и их ближайшим соседом «по квартире». Речь, разумеется, о пещерном медведе – Ursus spelaeus. Количество совпадений и общих черт в истории и биологии этих двух видов настолько велико, что человек, склонный к мистике, вполне может заподозрить здесь некую сверхъестественную связь.

Рис. 4.8.Соотношение площади поверхности тела и его объёма у жителей высокоширотных районов и жителей регионов с умеренным или жарким климатом (источник: Lewin and Foley 2004)
Начнём с того, что пещерные медведи, как и неандертальцы, происходят от европейских представителей вида, имевшего более широкое распространение (медведь Денингера – Ursus deningeri). Их ареалы в значительной степени перекрываются, а периоды существования совпадают почти полностью, если не полностью: от конца среднего плейстоцена до последнего ледникового максимума [93]93
Об ареале и времени существования пещерных медведей см.: Барышников 2007: 326–327.
[Закрыть]. Пик процветания и тех, и других, судя по численности ископаемых находок, тоже приходится на одно и то же время, а именно на конец изотопной стадии 4 и первую половину стадии 3 (примерно от 65 до 35/40 тыс. лет назад). В отличие от предковых видов – человека гейдельбергского и медведя Денингера, предпочитавших, за редкими исключениями, равнины и низкогорья, неандертальцы и пещерные медведи питали явную склонность к жизни высоко в горах: следы их пребывания часто встречаются на высоте более 2000 м над уровнем моря. Наконец, нельзя не отметить и ещё одно совпадение: оба вида не только исчезли примерно синхронно, но и были замещены более грацильными формами с более разнообразным, как считает большинство исследователей, рационом. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что среди анатомических особенностей, отличающих пещерных медведей от сменивших их бурых ( Ursus arctos), есть целый ряд черт, по которым и неандертальцы тоже отличались от пришедших им на смену гомо сапиенс. Кроме большей массивности тела, список таких черт включает ещё, например, относительно укороченные дистальные сегменты конечностей, увеличенные размеры суставов трубчатых костей, утолщённые фаланги, сравнительно крупные коренные зубы и некоторые другие признаки [94]94
Estévez 2004: 190–200.
[Закрыть]. В обоих случаях часть этих особенностей явно была вызвана к жизни необходимостью обеспечить их обладателям более эффективную терморегуляцию.
Но достаточно о медведях (впрочем, нам ещё предстоит встретиться с ними в главе 7), вернёмся к неандертальцам. Можно не сомневаться, что помимо размеров и пропорций тела они должны были иметь и какие-то чисто физиологические средства приспособления к холодному климату. Первым эту идею тоже развил К. Кун, и он же указал на некоторые анатомические детали, которые её подтверждают. В частности, Кун обратил внимание на необычайно крупный размер подглазничных отверстий на верхних челюстях неандертальцев, с одной стороны, и эскимосов Гренландии – с другой. Поскольку через эти отверстия проходят сосуды, обеспечивающие приток крови к щекам, логичным кажется предположение, что их увеличение у коренных жителей севера было связано с необходимостью более интенсивного обогрева во избежание обморожения. Аналогичным образом можно истолковать и ещё несколько специфических черт в строении неандертальских костей.
Таким образом, есть все основания считать, что суровый и притом крайне нестабильный климат плейстоценовой Европы действительно оказал большое воздействие на эволюцию и анатомию неандертальцев. Это воздействие отразилось, в частности, в пропорциях их скелета, в некоторых деталях системы кровоснабжения и ряде других признаков, адаптивный смысл которых кажется более или менее понятным. Со многими другими неандертальскими особенностями, однако, ясности гораздо меньше. Какова была их адаптивная роль, и играли ли они вообще такую роль, остается неизвестно.
Одной из наиболее трудноразрешимых проблем является объяснение специфического строения неандертальского носового отверстия – более широкого и глубокого, чем у современных людей. Популярная некогда гипотеза, согласно которой это было необходимо для предотвращения попадания слишком холодного и сухого воздуха в легкие при дыхании, вступает в непреодолимое противоречие с тем фактом, что у современных людей широкий нос в норме гораздо больше характерен для обитателей регионов с мягким климатом, нежели для жителей севера. Про неандертальское носовое отверстие написаны десятки статей, но какие именно факторы обусловили его специфический формат – по-прежнему непонятно. Возможно, что холод, как и климат вообще, тут был совершенно ни при чём, а определяющую роль сыграли чисто анатомические закономерности и требования, накладываемые общими особенностями строения лицевого скелета неандертальцев. Например, не исключено, что широкий нос был всего лишь механическим следствием свойственного им среднелицевого прогнатизма [95]95
Holton and Franciscus 2008.
[Закрыть]. Правда, носовое отверстие неандертальцев характеризуется ещё и возросшей по сравнению с их предшественниками высотой, и эта черта, по мнению ряда авторов, могла быть результатом взаимодействия структурных ограничений, налагаемых особенностями исходного (предкового) состояния, с одной стороны, и адаптивных изменений в ответ на специфические требования природной среды – с другой [96]96
Hubbe et al. 2009: 1729.
[Закрыть].
Многие другие особенности неандертальского скелета, возможно, представляют собой результат адаптации не столько к холодному климату, сколько к большим физическим нагрузкам. Таковы, например, толстые стенки трубчатых костей, сравнительно сильно изогнутые проксимальные сегменты конечностей, хорошо выраженные (рельефные) участки крепления мускулов, широкие (как бы расплющенные) фаланги пальцев ног и некоторые другие признаки. Не исключено, что, по крайней мере, некоторые из них не были предопределены на генетическом уровне, а образовывались (или, по крайней мере, усугублялись) в течение жизни человека вследствие частых и долгих переходов, транспортировки тяжестей без вспомогательных средств, выслеживания и преследования охотничьей добычи, столкновений с крупными и опасными животными и т. д.
Наконец, ещё какая-то часть свойственных всем неандертальцам или отдельным их группам признаков могла закрепиться у них просто случайно, в результате процесса, который биологи называют дрейфом генов [97]97
Weaver et al. 2007.
[Закрыть]. Воздействию этого процесса более всего подвержены небольшие по численности популяции, особенно когда они оказываются в условиях полной или частичной изоляции от других популяций своего вида. В таких условиях аллели (т. е. варианты состояния или, иначе говоря, формы генов), бывшие ранее редкими, могут быстро стать преобладающими. Например, при дроблении популяции в ходе расселения или резком уменьшении её численности вследствие какой-либо катастрофы генетический состав вновь образовавшихся или уцелевших групп почти наверняка будет во многом отличаться от первоначального, предкового. Первопроходцы, уходящие на новые земли, унесут с собой лишь часть существующих аллелей, часть исходного генетического разнообразия, и чем меньше их (первопроходцев и аллелей) будет, тем больше вероятность того, что в основанной ими новой популяции нормой станет то, что раньше было отклонением от неё. Точно так же норма и отклонение на уровне вида, популяции, или хотя бы отдельной группы могут поменяться местами после массовой гибели в результате, скажем, извержения вулкана, слишком холодной и долгой зимы, схода снежной лавины, обвала в пещере, либо каких-то ещё природных катаклизмов. Более чем вероятно, что нечто подобное не раз происходило и с неандертальцами, которые, напомню, ведут своё происхождение от группы (скорее всего, очень небольшой) переселенцев из Африки, и которым выпало жить далеко не в самом благодатном краю и не в самые лёгкие времена.
Тяготы жизни
О том, что край, действительно, был суров, а времена нелегки, свидетельствуют не только палеогеографические, но и палеоантропологические материалы. Судя по этим материалам, неандертальцы жили недолго, жизнь их, начиная с раннего детства, была полна тягот и лишений, и повсюду их подстерегали опасности, следствием встречи с которыми становились многочисленные травмы: переломы, сильные ушибы, боевые или охотничьи ранения. На некоторых неандертальских скелетах прямо-таки живого места нет – и зубы, и череп, и кости конечностей несут следы всяческих болезней, стрессов и увечий. Словом, тяжко им приходилось, очень тяжко, с этим не поспоришь. Ну, а с другой-то стороны, кому в каменном веке приходилось легко? И почему все, или почти все, так уверены, что неандертальцам было хуже, чем остальным, и что тяготы, которые выпадали на их долю, обходили стороной современных им или более поздних, верхнепалеолитических и неолитических гомо сапиенс? Есть ли для такой уверенности достаточные основания?
На первый взгляд, есть. Главные я уже упомянул. Во-первых, это очень низкая средняя продолжительность жизни и очень высокая детская смертность, во-вторых, широкое распространение так называемой гипоплазии, т. е. нарушений в структуре зубной эмали, могущих являться следствием недоедания и болезней в период её формирования, и, наконец, в-третьих, наличие на многих неандертальских костяках следов неоднократных переломов и иных травм. Рассмотрим эти три группы фактов по порядку и сравним картину, имеющуюся для неандертальцев, с той, что вырисовывается для гомо сапиенс верхнего палеолита и/или охотников-собирателей и других традиционных обществ недавнего прошлого.
Итак, продолжительность жизни. Нередко ископаемые кости позволяют более или менее точно установить, на какой стадии прервалась жизнь человека, которому они принадлежали. Об этом судят, в частности, по степени развития или стёртости зубов, по состоянию швов, разделяющих кости черепа и ряду других признаков. Точно определить возраст в годах, конечно, очень трудно, а если речь идёт о людях вымерших видов, то попросту невозможно (поскольку «расписание» их индивидуального развития могло сильно отличаться от нашего), но зато часто удаётся сделать достаточно обоснованное заключение о том, к какой возрастной группе принадлежал данный индивид, т. е. имеем ли мы дело с останками ребёнка, подростка, взрослого или старика.
Считается, что средняя продолжительность жизни неандертальцев составляла около 23 лет [98]98
Бужилова 2005: 16, табл. 1.1.1.
[Закрыть]. Это, конечно, очень мало, но не следует представлять себе дело так, будто пожилых людей среди них вообще не было, или, тем более, что столь краткое существование было запрограммировано генетически. Даже у шимпанзе продолжительность жизни не так уж сильно уступает человеческой, особенно если не сравнивать с людьми развитых обществ последних ста-полутораста лет. Да, в естественных условиях шимпанзе доживают максимум до 50 лет или около того, но дело тут не в генетической предопределённости, поскольку известно, что те представители этого вида, которые пользуются благами цивилизации, могут жить гораздо дольше своих диких сородичей. Например, Чита – звезда кинематографа, игравшая одну из главных ролей в фильме о Тарзане, – перешагнула 70-летний рубеж. В 2005 г., в возрасте 71 года, она ещё здравствовала. А недавно самка шимпанзе, живущая в питомнике во Флориде, в условиях, приближённых к естественным, отличилась тем, что родила в возрасте 65 лет (детёныш, однако, прожил лишь несколько месяцев) [99]99
Cloutier et al. 2009.
[Закрыть]. Про неандертальцев, правда, в некоторых книгах можно прочесть, что они и до 45 не дотягивали, но это не так. Наиболее удачливые индивиды достигали возраста в 50 лет и больше: например, человеку из грота Фельдгофер, когда он умер, было, по всей видимости, около 60 лет. Что же касается очень низкого среднего показателя продолжительности жизни, то он объясняется, прежде всего, огромной детской смертностью. К настоящему времени найдены скелетные останки нескольких сотен неандертальцев, и едва ли не половина из них – дети, а если брать в расчёт только погребения, то детей ровно половина (см. табл. 7.1). Это очень высокий процент, особенно если учесть, что детские кости сохраняются в ископаемом состоянии гораздо хуже, чем кости взрослых, а значит, их доля в антропологических коллекциях занижена. Таким образом, доля людей, умерших до достижения половой зрелости, почти наверняка составляла не менее 50 %, а скорее всего даже несколько превышала это значение. Не случайно на большинстве тех памятников, где представлены останки нескольких человек, среди них преобладают дети (Ля Ферраси, Дедерьех, Амуд) [100]100
Единственное явное исключение из этого правила – Шанидар, но и там из 10 известных в настоящее время костяков 3 являются детскими.
[Закрыть].
Ну, а как обстояли дела по этой части у тех, кто пришёл на смену неандертальцам, т. е. у гомо сапиенс верхнего палеолита Европы? Есть мнение, что намного благополучней. Детская смертность якобы сократилась до 30 % [101]101
Adovasio et al. 2007: 157.
[Закрыть], средняя продолжительность жизни, соответственно, выросла, и, стало быть, «жить стало лучше, жить стало веселее». Однако если взять данные по возрастному составу людей из захоронений середины верхнего палеолита (погребений начала этой эпохи почти неизвестно), то выяснится, что, во-первых, доля неполовозрелых индивидов составляет не 30, а почти 40 % (табл. 4.1), а во-вторых, что и эту цифру следует рассматривать лишь как минимум, причём очень далёкий от действительности. Крайне сомнительно, что младенческая смертность в период последнего ледникового максимума была столь низка, сколь это явствует из таблицы. Такому показателю (всего 11 %) могли бы позавидовать очень многие доиндустриальные общества. Скорее, дело здесь просто в выборочном отношении к умершим, когда одних (взрослых) считали более достойными погребения, чем других (детей). Видимо, на самом деле, в верхнем палеолите, как и в предшествующую эпоху, в среднем лишь около половины всех родившихся доживало до репродуктивного возраста [102]102
Согласно старой – полувековой давности – сводке А. Валуа, из 76 человек, чьи останки были найдены к тому времени на верхнепалеолитических памятниках Евразии, 38 % не дожили до 12 лет и 54 % до 20 (Vallois 1960: 196, table 5). Эти оценки кажутся мне наиболее реалистичными.
[Закрыть]. Даже в обществах неолита и бронзового века детская смертность, судя по материалам могильников фатьяновской, андроновской, карасукской и ряда других культур, нередко значительно превышала 50 %, и аналогичные значения этого показателя зафиксированы также для многих групп охотников-собирателей недавнего прошлого [103]103
Kelly 1995: 252, table 6–9; Pennington 2001: 192, table 7.5.
[Закрыть]. По средней продолжительности жизни, кстати, некоторые из этих групп тоже совсем недалеко ушли, а то и вовсе никуда не ушли от неандертальцев. Например, у филиппинских агта и батаков она составляла 21–22 года, а у асмат Новой Гвинеи – 25 лет [104]104
Kelly 1995: 252, table 6–9.
[Закрыть].
Таблица 4.1: Сравнение возрастного состава погребённых неандертальцев и европейских Homo sapiensсередины верхнего палеолита (30–20 тыс. лет назад) [105]105
Исходные данные для неандертальцев см. в главе 7 (табл. 7.1); подсчёты для Homo sapiensоснованы на сводке Ж. Зильяо (Zilhão 2005: 234, table 1) с учётом более поздних, не вошедших в эту сводку открытий (Einwögerer 2006). Близкие цифры по обеим сравниваемым группам даёт и А. П. Бужилова (2005: 82, табл. 2.3.1).
[Закрыть]
| Homo sapiens | ||
|---|---|---|
| Младенцы | 13 (38 %) | 8 (11 %) |
| Дети | 3 (9 %) | 11 (15 %) |
| Подростки | 1 (3 %) | 9 (13 %) |
| Взрослые | 17 (50 %) | 43 (61 %) |
| Всего | 34 | 71 |
Таким образом, по доступным для оценки (конечно, очень приблизительной) демографическим параметрам особой разницы между неандертальцами и людьми верхнего палеолита, а также неандертальцами и более поздними обществами охотников-собирателей не заметно. Впрочем, не будем забывать, что большая часть приведённых выше цифр – это нечто вроде «средней температуры по больнице». В действительности же все демографические характеристики, скорее всего, довольно сильно варьировали как в пространстве, так и во времени. Ведь образ и уровень жизни неандертальцев, обитавших в разное время в разных регионах и ландшафтно-климатических условиях – от Гибралтара до Алтая и от Переднеазиатских нагорий до Русской равнины – вероятно, различались не меньше, чем у верхнепалеолитического населения тех же областей. А значит, и средняя продолжительность жизни, и уровень детской смертности, и доля людей, достигавших преклонного возраста, не были постоянны: они менялись и, возможно, весьма существенно, от эпохи к эпохе, от региона к региону, от популяции к популяции. Об этом ни в коем случае не следует забывать, тем более что это относится не только к демографическим, но и к палеопатологическим оценкам степени благополучия (или, точнее, неблагополучия) неандертальских сообществ, к разговору о которых мы переходим.
Наиболее важными для палеопатологов индикаторами отклонений от нормального хода развития организма являются те, что могут быть прослежены на зубах, поскольку зубы – это наиболее массовый палеоантропологический материал. Особую роль играют два вида нарушений: флуктуирующая зубная асимметрия и эмалевая гипоплазия. Первая выражается в отклонениях от симметрии в строении зубного ряда, а вторая в дефектах (истончении) зубной эмали. И та, и другая возникают вследствие физиологических стрессов в период формирования зубов – травм, болезней и, прежде всего, недоедания. Сопоставление степени развития флуктуирующей зубной асимметрии у неандертальцев и современных охотников-собирателей (эскимосов-инуитов) проводилось, насколько мне известно, лишь однажды и не выявило сколько-нибудь существенных различий между двумя группами [106]106
Doyle and Johnston 1977.
[Закрыть]. Эмалевой гипоплазии уделялось и уделяется гораздо больше внимания, она проявляется в разных формах и иногда позволяет не только констатировать наличие стресса, но и определить его продолжительность. Наиболее показательна в этом отношении самая распространённая из форм гипоплазии – линейная, когда истончение эмали проявляется на поверхности зуба в виде бороздок.
Первые исследования степени развития гипоплазии на зубах неандертальцев показали широкое распространение у них этого дефекта, что вполне соответствовало общим представлениям об их незавидном существовании и было воспринято как ещё одно подтверждение такового и даже как свидетельство их неспособности эффективно охотиться и в полной мере обеспечивать себя пищей. Многие авторы, ссылаясь на эти данные, писали о том, что недоедание и голод были обычным для неандертальцев состоянием. Однако когда дело дошло до сопоставления с охотниками-собирателями и примитивными земледельцами более поздних эпох, включая современность, выяснилось, что не всё так просто. Сначала обнаружилось, что частота затронутых гипоплазией зубов и индивидов во многих группах последних столь же высока, как у неандертальцев, а иногда и выше [107]107
Hutchinson et al. 1997: 911–912, tables 3–5. Очень высокие показатели частоты эмалевой гипоплазии дают даже отдельные группы средневекового населения ряда регионов, например, русского Севера (Бужилова 2005: 175, табл. 4.2.9 и 4.2.10).
[Закрыть]. Затем в результате сопоставления характера линейной гипоплазии у неандертальцев и современных инуитов было показано, что при примерно равном распространении этого дефекта в обеих выборках (рис. 4.9) продолжительность стрессов, приведших к нарушениям эмали, могла у последних быть даже выше, чем у первых [108]108
Guatelli-Steinberg et al. 2004.
[Закрыть]. Словом, с гипоплазией пока получается, в общем-то, та же история, что и с демографическими показателями. С одной стороны, безусловно подтверждается, что периодически неандертальцам приходилось испытывать серьёзные лишения, но, с другой стороны, совсем не похоже, чтобы эта неприятность случалась с ними намного чаще, или приобретала более суровые формы, чем это имело место в последующие эпохи во многих обществах анатомически современных людей.

Рис. 4.9.Процент людей и зубов (передних), затронутых линейной эмалевой гипоплазией, в двух территориальных группах неандертальцев и у эскимосов-инуитов (источник: Guatelli-Steinberg et al. 2004)
Последняя группа фактов, которую нам осталось рассмотреть, – это следы ран и иных прижизненных повреждений на неандертальских костях. Следов таких, как уже говорилось выше, много, они разнообразны, и их количество, характер и распределение по возрастным группам и частям тела не оставляют сомнений в том, что уровень бытового и производственного травматизма в среднем палеолите был высок, а с техникой безопасности дела обстояли из рук вон плохо. Если судить по наиболее полно сохранившимся скелетам, то напрашивается вывод, что ни один неандерталец, проживший более 30 лет, не избежал серьёзных травм, а некоторые получали их с незавидной регулярностью. От последствий сильных ударов и падений не раз приходилось оправляться человеку из грота Фельдгофер (повреждены плечевая и затылочная кости), его собратьям из Шанидара (Шанидар 1 – лобная, скуловая и плечевая кости, ключица, стопа) и Кебары (Кебара 2 – пятый грудной позвонок, запястье), обычным делом были переломы ребер (Ля Шапелль, Шанидар 4), рук (Крапина 180, Ля Кина 5), ног (Табун 1, Ферраси 2), порой случались проникающие ранения грудной клетки (Шанидар 3) и черепа (Сен-Сезер) и т. д.
Когда данные такого рода были обобщены и проанализированы Т. Бергером и Э. Тринкэусом, выяснилось интереснейшее обстоятельство. Оказалось, что характер локализации травм у неандертальцев почти в точности повторяет характер локализации травм у ковбоев, постоянно участвующих в родео: большинство приходится на голову и шею, множество на область плеча и предплечья и сравнительно мало на нижние конечности [109]109
Berger and Trinkaus 1995.
[Закрыть]. Такое совпадение в распределении повреждений наводило на мысль, что и получены они тоже были сходным образом, а именно – в результате прямых столкновений с крупными и опасными животными [110]110
Ibid.: 849.
[Закрыть]. Что же касается причин высокой частоты таких столкновений у неандертальцев, то главная из них, согласно весьма популярной точке зрения, заключалась в том, будто использовавшиеся ими способы и средства охоты не позволяли поражать добычу с большого расстояния. Лука и стрел они не знали, копьеметалок тоже (как не знали ни того, ни другого и жившие одновременно с ними и сразу после них гомо сапиенс [111]111
Судя по археологическим данным, луки и копьеметалки появляются лишь во второй половине, если не в самом конце, верхнего палеолита – не раньше 20 тыс. лет назад.
[Закрыть]), а их копья были, как многие думают, гораздо лучше приспособлены для прямого удара, чем для дальнего броска.
Если не ошибаюсь, впервые гипотеза о том, что неандертальцы не умели поражать дичь с дальнего расстояния и потому вынуждены были ходить на крупных и опасных животных «врукопашную», была изложена в развёрнутом виде в одной научно-популярной статье. При этом автор статьи очень живо изобразил метод такой охоты. Согласно его реконструкции, один неандерталец, изловчившись, должен был ухватить будущую добычу за шерсть, и дать, таким образом, возможность второму нанести ей прицельный удар или удары своим копьём. Первому, конечно, приходилось особенно трудно: «Сначала он должен был увернуться от атаки животного, затем быстро напасть сам, и после этого, собрав все силы, удерживать разъярённого, бьющегося зверя, не позволяя ему стряхнуть себя» [112]112
Geist 1981: 31.
[Закрыть]. Жаль, что автор не подверг свою идею экспериментальной проверке, попытавшись незаметно подобраться к какому-нибудь дикому травоядному или не очень страшному хищнику и схватить его «за грудки»: глядишь, гипотеза сразу же и отпала бы. А впрочем, возможно, я ошибаюсь, и в те далёкие времена, о которых идёт речь в этой книге, животные тоже любили поразмяться в единоборствах, и вместо того чтобы убегать от приближающегося человека, наоборот, радостно спешили ему навстречу, рыча или трубя на своём зверином языке что-нибудь вроде «эй, ты, чудище двуногое, выходи на смертный бой!»
Хотя в упомянутой работе Бергера и Тринкэуса не рассматривался специально вопрос о том, как частота травм у неандертальцев соотносится с таковой у людей иных эпох, и даже не утверждалось, что они получали раны и увечья так же часто, как участники родео, – сопоставлялся лишь характер распределения повреждений по частям тела, – очень многими их данные были восприняты именно как доказательство беспрецедентно высокого травматизма среди членов неандертальских сообществ. По мнению некоторых авторов, сообщества эти состояли едва ли не из одних калек, а увечья заменяли их членам, обделённым, якобы, способностью к символизму и языку, знаки отличия и социального статуса [113]113
См., напр.: Pettitt 2000.
[Закрыть].
На самом деле, однако, нет никаких оснований думать, что количество травм, приходившихся в среднем на одного неандертальца, было намного больше или вообще хоть сколько-нибудь больше, чем количество травм на человека в верхнем палеолите, неолите и даже в традиционных культурах исторического времени. Если взять любую часть скелета, скажем, ключицу или бедро, и подсчитать, какой процент среди всех имеющихся неандертальских костей данного вида составляют травмированные, а затем сравнить полученные цифры с аналогичными показателями для разных групп современных людей, ведших кочевой или полукочевой образ жизни (охотников-собирателей, скотоводов или хоть примитивных земледельцев), то окажется, что значимых статистических различий между первыми и вторыми нет. Такую работу проделала недавно американская исследовательница В. Эстебрук, изложившая её результаты в весьма объёмистой диссертации [114]114
Estabrook 2009.
[Закрыть]. Она показала также, что по своему характеру повреждения на неандертальских костях не отличаются сколько-нибудь заметно от повреждений на костях людей из других проанализированных выборок, и что, следовательно, причины их тоже были в основном одни и те же. Главное место среди этих причин, видимо, занимали бытовой травматизм, падения и прочие несчастные случаи. Как минимум две из зафиксированных ран были, по всей видимости, нанесены оружием (Шанидар 3, Сен-Сезер). Что же касается ран, полученных на охоте от животных, то они точной идентификации пока не поддаются (из чего, конечно, не следует, что их не было). В целом, по заключению Эстебрук, тезис, что травматизм играл в жизни неандертальцев более существенную роль, чем в жизни других человеческих групп, не подтверждается имеющимися данными [115]115
Ibid.: 341.
[Закрыть].
Думаю, общий вывод из всего, сказанного в этом разделе, понятен. Да, неандертальцам, по нашим меркам, жилось несладко, а временами приходилось и совсем туго, но те тяготы, лишения и опасности, которые выпадали на их долю, не были чем-то совершенно исключительным, не имеющим аналогий в последующей истории человечества. Более того, на протяжении десятков тысяч лет они вполне успешно – не менее успешно, чем верхнепалеолитические или неолитические гомо сапиенс – справлялись со всеми задачами, которые ставила перед ними жизнь, и любые тяготы оказывались им по плечу. А всё потому, что они были людьми, и у них, как и у нас, была такая вещь, как культура. Вот о ней-то теперь и поговорим.