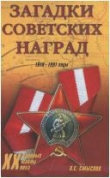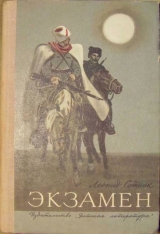
Текст книги "Экзамен"
Автор книги: Леонид Сотник
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
ГЛАВА ПЯТАЯ
Оренбург. Атаман в поход собрался
Атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов сегодня с самого утра пребывал в преотличнейшем расположении духа. Кофе со сливками, который он так любил и который заведено было подавать ему в постель, оказался весьма крепким и ароматным, так что хмель, витающий в голове генерала после вечерней трапезы с архиереем Димитрием, быстро выветрился и на душе стало легко и приятно, как на весеннем лугу.
В особняке на окраине Оренбурга, отведённом под личные апартаменты председателя «Комитета спасения родины и революции», было уютно и просторно. Солнечные зайчики прыгали по отменно надраенному паркету, тяжёлые бархатные шторы на окнах были слегка приспущены, но света не закрывали, прислуга знала: их превосходительство не любит ни темноты, ни одиночества.
Дутов потянулся в постели, так что суставы хрустнули, улыбчиво взглянул под купол балдахина, скроенного из старинных немецких гобеленов, вывезенных его казачками из какой-то разграбленной барской усадьбы, и дёрнул за шнур звонка.
Кряхтя и посапывая, вошёл старый денщик, держа на согнутой в локте руке отутюженный мундир. Он нёс его торжественно и любовно, словно мундир был пожалован не генералу, а лично ему; в тусклых слезящихся глазах денщика залегла напряжённая старательность.
Атаман сбросил одеяло, довольно резво для своей грузной фигуры спрыгнул на пол и, как был в шёлковом французском белье, в колпаке с кистью, склонился над медным тазом, наполненным до краёв водой. Водопровода в особняке не было, а потому денщик с вечера ставил таз на столике для игры в шахматы, приткнувшемся в углу спальни, а на крюке для пристенной висячей лампы развешивал полотенца.
Покончив наскоро с туалетом, их превосходительство натянул на себя тесноватый мундир – он что-то стал полнеть в последнее время – и приказал денщику вызвать к нему немедля офицера контрразведки ротмистра Межуева. Хоть и не любил Дутов начинать день ковырянием в делах заплечного ведомства (куда приятнее лично провести строевой смотр или принять очередную депутацию от благодарного за избавление от большевизма купечества), но сегодня он нуждался в свежей, а главное, объективной информации, и тут, как ни крути, без сыщиков не обойдёшься.
Почему именно сегодня? Да потому, что, овладев обширнейшей территорией Оренбургской губернии и частью Туркестанского края, всегда неторопливый и осторожный атаман решился, наконец, поразить мир поступками решительными. Он знал, что поднявшие мятеж чехословаки захлестнули серо-зелёной пеной своих мундиров всё Среднее
Поволжье и вышли к Уралу, что положение красных частей на окраинах Европейской России весьма шаткое, и если, даст бог, ему пофортунит соединиться с белочехами на севере и с казачьим войском атамана Краснова на западе, то судьба Советов будет решена.
Природа наделила Дутова характером завистливым и честолюбивым. Он презцрал своих сподвижников по «святому делу» и был твёрдо убеждён в том, что после взятия Москвы, после «ночи длинных ножей», которую он устроит большевикам, вся власть в Российской империи окажется у его пыльных сапог. Он не уступит её болтунам вроде Сашки Керенского. Для трона нужен человек, который бы твёрдо на земле стоял, обоими ногами, который с казаком да с мужиком столковаться бы мог. Именно такой, как он, атаман войска оренбургского Александр Ильич Дутов. К тому же и престиж у него, то есть первенство: пока там эти все болтуны и выскочки митинговали, он и созданный им «Комитет спасения родины и революции» делали своё дело. Ни Советов, ни большевиков на подвластных Дутову землях теперь и в помине нет – разогнал, расстрелял, перевешал, изрубил. Вот он какой – Александр Ильич Дутов.
А теперь дальше идти пристало время, туда, на белокаменную, под победные хоругви, под малиновый звон колоколов, к славе, к власти. И только одно заботило атамана – его собственный тыл, этот проклятый Туркестан, который хоть и был отрезан от хлеба и угля, от оружия и мануфактуры, от всех большевистских центров, но никак не мог задохнуться и не хотел задохнуться, который изо всех сил цеплялся за Советы, словно они ему мать родная.
Исторические размышления атамана прервал адъютант, молоденький хорунжий в английском френчике, с бледным прококаиненным личиком.
– К вам ротмистр Межуев, ваше превосходительство. Дожидается в приёмной.
– Пусть войдёт, – коротко бросил Дутов и машинально застегнул верхнюю пуговицу мундира: их превосходительство не любил показываться своим подчинённым небрежно одетым.
Из-за портьеры не вошёл, нет, а вынырнул сухопарый высокий офицер с расчёсанными на прямой пробор и набриолиненными волосами. Видно, он с детства привык стесняться своего роста, а потому всё время гнулся, стараясь казаться ниже, хотя многолетняя армейская служба внушала ему как раз противоположное: офицер перед начальством должен стоять в струнку.
– Не гнитесь, Межуев, – проворчал добродушно Дутов. – Эк вас, батенька, вымахало.
Ротмистр распрямился, звякнул шпорами и застыл, преданно глядя в глаза начальству.
– Вызывали, ваше превосходительство?
– Вызывал, Межуев, вызывал. Мог бы, конечно, и вашего начальника вызвать, но… Как бы это вам лучше сказать? Люблю информацию из первых рук. Туркестаном ведь вы занимаетесь?
– Я, ваше превосходительство.
– Вот видите… – Дутов пристально посмотрел в лицо офицера и снова перешёл на неофициальный тон: – Что серый такой? Пьёте много?
– Никак нет. Это от бессонницы. – Ротмистр провёл по лбу длинными костлявыми пальцами, точно смахивал пот. – Ночной работы много, ваше превосходительство.
Дутов отлично знал, что на языке у контрразведчиков называется ночной работой, он сам не раз присутствовал на пытках советских активистов и пленных раненых комиссаров, а потому о подробностях расспрашивать не стал.
– Да, трудов у нас теперь много. Время такое, Межуев, время… Торопит оно нас, а мы засиделись в Оренбурге. Ведь засиделись, Межуев?
– Так точно.
– Это хорошо, что вы так думаете, – сказал снисходительно Дутов, а ротмистр всё никак не мог сообразить, с какой это стати его вызвал «сам» и что «самому» от него нужно. – В таком случае дайте мне небольшую вводную по Туркестану. В любой диспозиции тыл – а Туркестан и есть тыл – должен быть надёжно прикрыт.
Межуев с облегчением вздохнул и направился к большой карте, висевшей здесь же, в спальне. Это была не совсем обычная карта: помимо губерний и краёв, на ней рукой самого атамана было обозначено некое государственное образование, простиравшееся от Приазовья до отрогов Памира. Сие несуществующее образование Дутов именовал «запасным вариантом», а смысл оного состоял в том, что если, не дай господи, большевики всё же удержатся в Москве, то он, Дутов, создаст независимую казачью державу, объединив под своим воображаемым скипетром донских, кубанских, терских, астраханских, оренбургских и семиреченских казаков.
– Обстановка на сегодняшний день такова, – ровно начал Межуев. – После того как третьего июля сего года ваше превосходительство вместе с верными войсками овладел Оренбургом, красные части оказались рассечёнными и рассеянными. Блюхер, этот крестьянский генерал, – Межуев почтительно хихикнул в кулак, – с остатками своей банды ушёл на север. Но, надеюсь, что далеко он не уйдёт, ибо преследование организовано со всей тщательностью.

– Это нам известно, дальше.
– Часть красных войск отступила к Орску, а основные силы под командованием Зиновьева – жаль, что это не тот Зиновьев, который высыпает против Ленина, – отошли по железной дороге Оренбург – Ташкент в район Актюбинска.
– Это, батюшка, мне и штабисты могли бы рассказать, – небрежно бросил Дутов и принялся набивать «кепстеном» дорогую английскую трубку. – А вот как разведка расценивает боеспособность красных войск?
Ротмистр слегка замялся.
– Видите ли, ваше превосходительство, если судить о моральном духе, так сказать…
– Ну?
– …то он достаточно высок – большевистский фанатизм вам известен. А вот что касается вооружений…
– Да не тяните вы, ротмистр, – нахмурился Дутов. – Дух мы из них как-нибудь выпустим. А оружие?…
– С оружием-то, ваше превосходительство, у красных обстоят дела совершенно скверно. Хуже некуда. Даже у тех частей, которые сидят в Орске, Актюбинске и в самом Туркестане. Ташкент им, к счастью, ничем помочь не может. От остальной же большевистской России мы их отрезали надёжнейшим образом.
– Чем же это подтверждается? – Дутов прошёлся по комнате и довольно потёр руки.
– Перехвачено радио, – продолжал осмелевший ротмистр. – Ещё 15 июля советское правительство Туркестана просило Ленина помочь оружием и боеприпасами. 17 июля Ленин ответил. – Ротмистр открыл папку и вытащил оттуда лист бумаги. – Разрешите прочесть? Да, вот… «Принимаем все возможные меры, чтобы помочь вам. Посылаем полк. Против чехословаков принимаем энергичные меры и не сомневаемся, что раздавим их. Не предавайтесь отчаянию…» Где уж тут не предаваться! – хихикнул Межуев. – С чехословаками они завязались, и не известно, когда развяжутся, а полк… Полк – не мышь, он через наши боевые порядки не прошмыгнёт. Да что полк! Мы сейчас готовы выдержать удар любой армии.
– Стратег… – хмыкнул Дутов, не то одобрительно, не то осуждающе. – Смотрите у меня, стратег: если хоть птица пролетит в Туркестанский край, я с вас голову сорву.
– Но это невозможно, ваше превосходительство, – слегка обиделся контрразведчик. – Железная дорога в наших руках…
– А Каспий? Вы забыли про Каспийское море, К сожалению, в Астрахани пока ещё большевики, а оттуда до Крановодска рукой подать. Насколько мне известно, в Астрахани скопилось достаточно всевозможной плавающей посуды, не то что полк – дивизию можно переправить.
– Исключено-с, ваше превосходительство, исключено-с. – Межуев склонил на грудь свою бриолиновую голову и принялся копаться в папке. – Вот, не изволите ли взглянуть?
Дутов взял листок и, держа его на расстоянии вытянутой руки, как это свойственно дальнозорким людям, принялся читать:
– «Господину Межуеву. Срочно. При сём информирую, что 12 августа 1918 года союзные России британские войска вторглись на территорию Туркестана, перейдя иранскую границу. В этот ще день один из английских отрядов прибыл на Байрамалийскую оборонительную позицию в помощь войскам Временного исполнительного комитета. Таким образом, Закаспийская область большевиками утрачена, и будем надеяться, навсегда. Обстановка в остальной части края весьма неустойчива. В Семиречье подняли антибольшевистский мятеж казачьи станицы Копала, Сарканда, Абакумовская, Арсанская и другие, в связи с чем советское правительство Туркестана вынуждено было создать Семиреченский фронт. В Ферганской долине активизировалась деятельность верных нам курбаши Иргаша и Мадаминбека. В Ташкенте ощущаются большие затруднения с продовольствием. Установлена постоянная и надёжная связь с господином Б., который принял живейшее участие в деятельности нашей организации. С приездом Б. заметно улучшилось снабжение оружием, деньгами, пресечены ненужные споры о будущем устройстве края.
Полагаю, что уже р нынешнем году славное воинство атамана Дутова и наша организация смогут объединить сбои усилия в борьбе за спасение родины.
Прошу информировать о намерениях господина Дутова, что необходимо для более тесной координации действий. Каналы связи прежние.
Примите мои искренние уверения и проч.
Кузнечик».
Дутов закончил чтение, взвесил на ладони тонкий листик бумаги, словно прикидывал вес заключённых в нём новостей, и сказал с хитроватой усмешкой:
– А вы шельмец, Межуев. Такие новости от меня прячете… Тэк-с, тэк-с… Выходит, англичане уже в Закаспии?
– Так точно, – щёлкнул каблуками ротмистр. – Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, информация наинадежнейшая.
– Да, кстати, кто этот загадочный Б.?
– Майор английской секретной службы Бейли. Мне Кузнечик ещё раньше писал, что ожидается его приезд, только не известно, под каким прикрытием. Сейчас и это известно: господин Бейли – глава официальной английской миссии с дипломатическим статусом.
– Как же это большевики его впустили?
– Большевики тоже бывают разные, а что касается Бейли, то возможностью беспрепятственного разгуливания по Ташкенту он обязан господину Троцкому.
– А Кузнечик – это, судя по всему, ваш агент?
Межуев замялся, отвёл в сторону свои блеклые нагловатые глазки.
– Как сказать, ваше превосходительство… Чином он прапорщик.
– Только-то?
– Но у большевиков в большом почёте. А контакт мы с ним поддерживаем по старой дружбе, ещё с Галицийского фронта. Судьба нас разбросала маленько: меня вот сюда прибило, а его в Ташкент. Считаю, что он весьма полезен нашему делу.
– Ну, ну…
Дутов не спеша прошёлся по комнате, что-то обдумывая, потрогал кисти, свисающие с гобеленового балдахина, сказал, не поворачивая головы:
– Астрахань на днях падёт. Вы связь с полковником Маркевичем держите?
– Постоянно.
– Позаботьтесь, чтобы в его окружении были наши люди. Так, на всякий случай… А главное, и зарубите это себе на носу: нет сегодня важней задачи, как пресечь всякие, даже малейшие попытки Москвы помочь красному Туркестану. Прошляпите – голову сниму. А что касается намерений господина Дутова, которыми интересуется ваш Кузнечик, то отпишите ему… Отпишите ему: через месяц будем брать Москву. Пусть и господин Бейли об этом знает.
… Через полчаса одетый в парадный мундир атаман
Оренбургского казачьего войска господин Дутов вышел из особняка и проследовал к автомобилю, который благополучно доставил его в штаб.
В десять часов по местному времени состоялся военный совет, на котором было принято решение о развёртывании широких наступательных операций. Командирам полков вручили приказ привести в порядок амуницию, оружие, конский состав и готовиться к строевому смотру. Смотр будет чинить сам атаман.
В час пополудни их превосходительство в сопровождении конвойной сотни отбыл в ресторан «Весёлый карп», где в отдельном кабинете изволил отведать свежей икры, стерляжьей ухи, шашлыка по-карски, а также выпить бутылку рейнвейна из довоенных запасов.
А в четыре часа после полудня на стол атамана в его служебном кабинете лёг пренеприятнейший документ, доставленный всё тем же Межуевым. Через пару лет, уже за границей, в Кульдже, вспоминая об этом документе, Александр Ильич непременно будет вздыхать и даже иногда про себя чертыхаться, ибо так прекрасно начавшийся день с помощью клочка грязноватой бумажки был испорчен до основания. Господин атаман приобрёл в этот день несварение желудка, а ротмистр Межуев – всего лишь оплеуху, выданную его превосходительством своему рабу за верную службу.
А документ между тем гласил:
«Припадает к стопам вашего превосходительства ваш верный слуга. Да пребудет ваше превосходительство в добром здравии и кротком расположении духа и да пошлёт его превосходительству всемилостивейший аллах всяческих благ и процветания, а также всему роду его.
Выполняя свой долг, я, ничтожный, спешу сообщить скорбную весть: попытка полковника Маркевича захватить власть в Астрахани и свергнуть большевиков (да покарает их аллах!) не удалась.
Вначале всё складывалось в пользу сего почтеннейшего воина. Красные, пребывая в великом трепете, готовы были эвакуировать город, как вдруг, откуда ни возьмись, подошло им подкрепление в виде тысячного отряда. По уточнённым данным, прибыл оный отряд из Царицына, а являет он собой вавилонское скопище в миниатюре, потому как состоит он не только из русских, но также из хохлов, именуемых ещё украинцами, немцев, австрийцев, сербов, татар, киргизов, казахов и других мусульман, забывших имя пророка. Во главе отряда стоит некий Алибей Джангильдин, житель Тургайского края, сподвижник известного вашему превосходительству бунтаря Амангельды Иманова.
Неудача полковника Маркевича – факт, достойный всяческого сожаления, но не только и не столько он заставил слугу вашего взяться на калам. Дело в том, что с отрядом упомянутого Алибея Джангильдина прибыл большой груз оружия и боеприпасов (истинная ценность груза моими людишками уточняется) для красных войск, расположенных в Туркестанском крае. В связи с этим было бы весьма желательно принять все меры к тому, чтобы ни один патрон не попал в руки мятежных безбожников.
Ваш недостойный слуга сознаёт, что единственный путь, которым может воспользоваться Джангильдин, – это прикаспийские пустыни, лишённые воды и растительности. Отправляться в экспедицию по сиим глухим и непригодным для жизни человека местам было бы чистейшим безумием, но, зная фанатизм красных, я не исключаю, что отряд предпримет попытку прорваться с грузом именно этим путём. А потому нижайше прошу ваше превосходительство принять все меры к тому, чтобы поставить надёжный заслон неверным на контролируемой вашими доблестными войсками территории.
Да снизойдёт на вас милость аллаха. Омин.
Камол Джелалиддин».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Астрахань. Боец взвода разведки, или О чём размышлял Миша Рябинин, оказавшись на плато Усть-Урт
В моей жизни произошли перемены неожиданные и в высшей степени удивительные. Если бы раньше мне сказал кто-либо о том, что всё случившееся со мной случится, то не поверил бы я этому никогда и осмеял бы говорившего. Но разве не назовёшь удивительным скорое и неожиданное превращение обыкновенного астраханского реалиста, «карандаша», как дразнили нас дети рабочих, в бойца взвода конной разведки красноармейского отряда комиссара Али– бея Джангильдина. Кому и когда снились подобные превращения? Я читал «Метаморфозы» Овидия, где все и вся превращается в новые формы, но что бы сказал старик Овидий, прослышав о моей судьбе!
Я пытался поделиться своими размышлениями с моим боевым командиром Игнатием Макарычем Степанишиным, но он не стал вникать в их сущность и сказал, чтобы я вышвырнул из своей интеллигентской башки всяческую муть и оставил там только то, что необходимо сегодня революции. Выражался он вполне определённо:
– Плюнь ты на это дело, Миша. Плюнь и разотри, хотя по причине отсутствия здесь полов и паркетов растирать, в общем-то, трудно. Ты пытаешься рассуждать по части некого непролетарского поэта Овидия, а в то же время сидишь на вверенном тебе жеребце по кличке Мальчик, как на издохшей корове или, что ещё хуже, как баба-яга на ступе. Опять же стреляешь ты, товарищ Рябинин, как пьяный губернатор по индюкам, а сие – срамотшца. Почему? Да потому, что в доблестном отряде комиссара Джангильдина, которого сам товарищ Ленин отправил с заданием государственной важности, не было, нет и не может быть охламонов. Так что постигай солдатскую науку, а Овидий потом уж к тебе как-нибудь приложится, – вот что сказал мне мой доблестный командир Игнатий Макарыч Степанишин. Сказал он всё это не повышая голоса, не раздражаясь и не злобясь, но сказал так, что мне пришлось с ним согласиться и по части непролетарского поэта Овидия больше никаких разговоров не вести.
И это лучше.
Страшно оглядываться назад… Страшно думать о том, что случилось, что довелось мне пережить в течение одного дня… Неужели и на долю других может выпасть столько же? Но вспоминать и думать об этом нужно. Вот появится такая возможность, и обязательно запишу всё на бумаге. Но сначала попытаюсь вспомнить, как всё было. С самого начала.
… С базара мы с Макарычем пошли домой – он вызвался меня проводить, потому что в городе ещё кое-где постреливали. А дома ожидал меня папа. Он страшно беспокоился обо мне, словно я уходил сражаться с пулемётчиком, и очень обрадовался, увидев меня живым и невредимым.
День я провёл на Волге. Вместе с Колькой мы ловили раков. Ныряли под крутой берег и вытаскивали их прямо из нор за усы и клешни. Пальцы потом бывают все в шрамах и порезах, становится очень больно, если на них попадает соль, но мы привычные, как говорит Колька пролетарское дитя. И день у нас прошёл очень хорошо и весело, и вода в тот день была очень тёплая и чистая, такая, что мы даже ни капельки не измазались нефтью.
Колька подобрел ко мне. Он знал, что у нас временно обосновался штаб отряда, что я помог командиру разобраться с каким-то документом, видел, как я разгуливаю по городу вместе с Макарычем.
– А ты ничего парень, – сказал он мне тогда. – Может, и вправду из тебя пролетарий получится.
А дома я снова увидел Джангильдина. Он сидел с папой за столом и пил чай. Папа поставил на стол большую хрустальную вазу, которая осталась от маминого приданого, положил в неё своего любимого черносмородинового варенья, и они вместе с Джангильдиным ели это варенье большими столовыми ложками.
Я страшно удивился и подумал, что если бы я влез столовой ложкой в заветную банку, так выволочки мне не миновать. А ещё я заметил, что смотрит папа на Джангильдина весьма дружелюбно и что беседа с ним доставляет папе огромное удовольствие.
Я тоже сел к столу. Мне налили чаю. И тут папа объявил, что, пока отряд не уйдёт из Астрахани, товарищ Джангильдин будет жить у нас, то есть ночевать, поскольку у чрезвычайного комиссара Тургайского края в дневное время очень много всяческих дел.
О чём говорили папа с Джангильдиным? Вспомнить сейчас и привести всё в систему не берусь. Помню, что папа проповедовал терпимость, говорил, что в революции каждой идее найдётся своё место. А Джангильдин возражал. Он ссылался на Ленина, который мыслит иначе, и подкреплял убеждения конкретными фактами.
– Вот, – говорил он, – уважаемый Даниил Аркадьевич, если с вами согласиться, то и полковнику Маркевичу найдётся местечко в революции, и Дутова туда пускать можно, а ведь оба они вешатели. Нас же, рабочих, крестьян, трудовую интеллигенцию, они изо всех сил стараются не пустить в революцию.
А папа всё что-то толковал о воспитании, о примирении, о поисках компромиссов. И тогда Джангильдин даже рассердился. А сердится он очень смешно. Вскочил, уселся верхом на стул, точно на лихого скакуна, и стал рукой воздух рубить, как шашкой. Рубанёт и скажет слово, ещё рубанёт – и опять скажет:
– От соглашателей и компромиссов всегда и везде гибли народные восстания. Неужели вам, как образованному человеку, это не известно?
И тогда папа рассмеялся и сказал, что ему известно и с товарищем Джангильдиным он в принципе согласен, но какой же из него интеллигент, если он перестанет сомневаться? Так уж, видно, интеллигентам на роду написано. А гость наш стал ещё больше горячиться и сказал, что папа интеллигент не типичный, что он из трудовой семьи, и если такие люди не будут помогать революции, а только будут ковыряться в себе и своих сомнениях, то революция без них, конечно, обойдётся, но не станет ли потом им стыдно приходить на готовенькое?
Но тут уже я не выдержал и сказал товарищу Джангильдину, что мы и не собираемся есть пирог, который кто-то для нас испечёт, что папа решил пойти в Совет и попросить, чтобы ему разрешили поработать на революцию. А Джангильдин засмеялся и сказал:
– Ну и слова же ты, Миша, попридумывал: «чтобы разрешили поработать на революцию»… За революцию нужно драться, нужно жить революцией и ни у кого разрешения не спрашивать. Но уж раз Даниил Аркадьевич решился, то я замолвлю за него словечко в Совете. Там как раз нужен человек, который бы школами занялся, а то у нынешнего комиссара Коршикова грамотёшки малость не хватает.
Папа возразил, что это, дескать, для него очень высокий пост, что у него нет опыта и к тому же он не состоит в большевистской партии, а Джангильдин, как мне показалось, пропустил все его возражения мимо ушей:
– Опыта, Даниил Аркадьевич, наберётесь, на большевистскую платформу станете – совесть заставит, да и не святые горшки обжигают. Я, к примеру, учился на архимандрита, а стал большевиком и комиссаром.
Они ещё долго спорили. Были в этом споре и резкие мысли, и резкие суждения, и резкие слова, но всё-таки… Меня ни на минуту не покидало чувство, что спорят единомышленники, и я был уверен, что спор этот нужен папе, чтобы проверить свои убеждения, чтобы укрепиться в своих мыслях. Не случайно он сказал мне перед сном:
– А ведь прав комиссар. Мы вот сидим с тобой в четырёх стенках, напялив маску гордого одиночества, а люди сражаются и умирают. Ты знаешь, сегодня они схоронили военрука Волкова – погиб в перестрелке с белыми…
Вот и всё, что успел сказать мне в тот вечер мой папа…
А ночью меня разбудил взрыв. Грохот был таким ужасным, что я подумал – это извергается Везувий. Почему? Не знаю почему. Просто всю ночь мне снился Рим, марширующие по улицам легионеры в белых тогах и с русскими трёхлинейками в руках. Мне снился Колизей… Полосатые тигры, роняя белую пену, метались по огромной цирковой арене, а посреди арены стояла трибуна, обитая красным сатином, а над нею возвышался мой папа в пурпурной тоге и с венком на голове. Он стоял, высоко подняв правую руку, и что-то торжественно провозглашал. Вначале мне показалось, что он читает «Метаморфозы» Овидия, потом он вдруг запел «Марсельезу» – «К оружию, граждане», и все, кто был в Колизее, подхватили эту мелодию, и она загремела так, что задрожали стены. А потом всё неожиданно смолкло, и в наступившей тишине папа сказал громко и отчётливо:
– Мы напялили на себя маску гордого одиночества и сидим здесь, в четырёх стенах, а люди сражаются и умирают.
А потом раздался взрыв.
Вспышки я не видел. Ещё во сне меня ударило по голове чем-то тяжелым, и я, не успев толком проснуться, погрузился в кромешную мглу. Немного позже, придя в себя, почувствовал запах пороха и услышал чей-то стон. Потом вспыхнул свет, комната наполнилась вооружёнными людьми – это прибежали красноармейцы охраны. Кто-то тормошил меня за плечи и заглядывал в лицо. Но я снова потерял сознание. А когда очнулся, то увидел, что на нашем большом обеденном столе лежит папа, накрытый до пояса белой простынёй, и тогда я понял, что случилось непоправимое.
Пришёл Колька Портюшин и увёл меня из дома. Я наконец заплакал, а он утешал меня, как мог, а потом тоже заплакал и говорил, что папа мой был очень хорошим человеком и, если бы ещё немножко, стал таким же командиром, как Джангильдин или Макарыч. Колька предложил мне перейти к ним на житье и заверил, что с отцом и матерью он всё уже уладил и мне будет у них хорошо. Я сказал, что подумаю, но думать не стал. После смерти папы мне вдруг захотелось бежать из города куда глаза глядят. Здесь каждый дом и каждый камень напоминали о нём, и сердце сжималось такой болью, что трудно было дышать.
Папу хоронили красноармейцы. Пришли, конечно, кое – кто из его бывших сослуживцев, но их было так мало, что в зелёном лесу красноармейских гимнастёрок серые пятна учительских тужурок были почти не заметны.
Джангильдин сказал короткую речь над могилой. О чём? О гидре контрреволюции, которая не дремлет, о том, что врагов ждёт суровая кара…
Я плохо слушал и плохо помню все слова.
Грохнул залп салюта, и все начали расходиться. Только я не знал, куда мне идти. Стоял над могилой и плакал.
Но тут подошёл Макарыч и сказал:
– Пошли, Миша, слезами горю не поможешь.
И мы пошли с ним через весь город пешком, хотя Джангильдин хотел усадить нас в пролётку и отвезти домой.
Макарыч не успокаивал меня и не причитал надо мной. Это потом уже соседки затянули деревенское: «Ох ты, сиротинушка горючая… Да как же тебе без отца и матушки на этом свете жить…»
А Макарыч сказал просто:
– Мы тебя, Миша, не оставим.
Но что же произошло в ту ночь? Я понял: человек, метнувший бомбу в окно, предназначал её для Джангильдина.
Кому-то очень мешал этот красный комиссар Джангильдин.
На следующий день после похорон я узнал, что отряд готовится выступать из города. Куда он идёт, зачем – обо всём этом я лишь смутно догадывался и, честно говоря, не очень-то интересовался передвижением воинских подразделений красных. На душе было столь горестно и тоскливо, что ни о чём, кроме постигшего меня несчастья, в те поры я не мог да и не пытался думать.
Вечером на лошадях приехали Джангильдин и Макарыч. Джангильдин был хмур, а Макарыч смущён чем-то. Он всё отворачивал глаза, а однажды даже попытался погладить меня по голове, как маленького. Чай пили почти молча, если не считать шумных вздохов Макарыча, а уж как кончили пить чай и я, убрал тарелки, тут Джангильдин решил, видно, что приспело время для разговора.
– Мы вот думали про тебя, – сказал он, глядя куда-то в угол. – Спорили. А тебя покамест ни о чём не спрашивали… Жить-то как собираешься?
– Не знаю, – ответил я. Да как я мог ответить иначе, если в самом деле не знал, как мне теперь жить и что мне делать. – Как-нибудь перебьюсь. Может, уроки давать стану…
– А, кому нужны сейчас твои уроки? – махнул в досаде рукой Макарыч. – Какие уроки, малый? Ведь гражданская война кругом. Сейчас не с азбукой – с шашкой учатся.
Я ничего не возразил, потому что прав был Макарыч, и про уроки я просто так сказал, чтобы что-то сказать.
– Мы вот подумали с ребятами, – вёл дальше Джангильдин, да так тонко вёл, словно по тонкому ледку шёл, – и порешили: назначить тебе революционную пенсию, поскольку ты пострадавший от контры.
– А что мне в этой пенсии? – сказал я. – Мне скоро шестнадцать… Разве можно в пятнадцать лет выходить на пенсию? Что-то я про такое не слыхал.
– Вот видишь, – помрачнел ещё больше Джангильдин. – Вы с Макарычем подрядились в одну дудку дуть.
– А Макарыч что, против?
– Вестимо, против, – отозвался Макарыч. – Нашёл командир пенсионера…
– А может, в приют пойдёшь, а, Миша? – без всякого энтузиазма предложил Джангильдин. – Тут, говорят, приюты есть хорошие. Дом большой у вашего миллионщика Сапожникова Советская власть забрала. С колоннами. Рыбу там дают свежую, картошку…
– Не хочу в приют, – сказал я решительно. У меня дрожь по спине пошла, когда я услышал про приют. – Уж лучше смерть.
– Ну, умирать-то тебе, положим, рано, – вновь подал голос Макарыч. – А насчёт приюта – это ты правильно: совсем там жизнь никудышная. – Он помолчал, подумал и вдруг спросил напрямик: – Сам-то ты, Михаил, чего хочешь?
И тут я решился. Нет, я скажу неправду, если стану утверждать, что слова мои были необдуманными, что я преподнёс красным командирам очередной ученический экспромт. Хоть и вломились эти люди в наш дом глухой ночью, а всё же я успел и привыкнуть к ним, и полюбить их. Были они грубоватыми и совсем не интеллигентными в обычном смысле – и это резко отличало их от папиных знакомых, но были они искренними и добрыми и твёрдо верили в то, что предназначены для большой цели, что именно им суждено воплотить эту цель в жизнь.
И я сказал:
– Хочу с вами.
Я сказал и тем очень рассердил Джангильдина. Он обозвал меня глупышом и ещё как-то, а потом стал объяснять, что на гражданской войне детям нечего делать, что он командует отрядом особого назначения, а не скаутской дружиной, что меня могут запросто убить, а ему, Джангиль– дину, придётся потом отвечать перед Советской властью и собственной совестью. И пока он так говорил, Макарыч не произнёс ни слова, а когда закончил, Макарыч сказал: