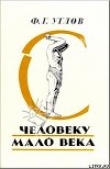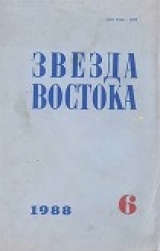
Текст книги "Черная радуга"
Автор книги: Леонид Шорохов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Было уже без четверти восемь. Если не идти в парк сейчас, то незачем было выходить из дому до обеда.
4.
На первый опохмел, к шести утра, Семен уже опоздал. Раньше шести достать спиртного было негде, к шести же открывался хлебный ларек у клуба. Открытие его с восторгом облегчения встречалось двумя десятками мужиков, распределившихся по трое-четверо на разных углах перекрестка.
Но на этот, первый, опохмел нечего было и соваться без рубля. К шести сюда стекалась первая волна, самая непробивная, и отчаянная. Тут крутились профессионалы высокого класса, которым Углов и в подметки не годился. Из любой пьянки они уходили с рублем, намертво зажатым в загашнике, и не было в мире силы, способной «расколоть» их на этот «похмельный» рубль. Углов и мечтать не мог иметь такую силу воли. Зато и утром у ларька они были короли, и нигде так явственно не ощущал Углов своего ничтожества, как подойдя на рассвете к их солидно деловой компании. Тут он в полной мере понимал и всю свою неумелость, и неправильность собственного поведения.
Семен машинально перебрал их в памяти: «Кривой», «Петро», «Сухоручка» – и покачал головой. Все они имели проникающий сквозь землю нюх на деньги компаньона и к себе в кучку принимали только с показанным рублем. Никакая «лапша» здесь не проходила и была даже опасна. На худой конец, можно было примкнуть к ним и с полтинником, но на полтинник при дележке они наливали меньше полстакана, а какой это был опохмел – полстакана бормотухи? Слезы, а не опохмел! А полтинник он прозевал утром. Своего же рубля, да еще в такое пиковое, утреннее время, у Семена не было в руках больше года. Когда-когда Лиза доверяла ему, в хорошую минуту, сходить за продуктами в магазин, но и тот кровный, сэкономленный рубль не держался у него больше часа.
Да и в шесть утра Семен не только куда-то идти, а и оторвать голову от лежака не имел силы. Так что пришлось перемучивать себя водой. Теперь же, в восемь, открывался буфет в столовке парка, и надо было хоть умереть по дороге, но непременно поспеть к открытию. И так уж Углов сильно запоздал. Все бывалые кореша уже с семи дежурили около дверей и завязывали знакомства с подходящими фраерами.
Вторая пьющая волна, та, что приливала к буфету в восемь, была недолгой. Ее составляли в основном мужики со строек да мелкий чиновный люд. И те и другие боялись опоздать на работу, и весь «балдеж» закруглялся за полчаса. Оставались только принявшие лишнее.
Тут было Семеново царство, и в былые времена он успевал в эти полчаса «взять под завязку», перекочевав через две-три складчины. Менее удачливые кореша только завистливо маялись, глядя на добычливую угловскую охоту. Однако в последние месяцы он примелькался, и мужики, уже «взявшие» у буфета первый стакан и искавшие компании под разговор и магазинную бутылку, стали его обходить. Так что полной надежды подлечиться не было и здесь.
Однако время шло и надо было вставать. Согнувшись в три погибели, Углов натянул брюки, накинул рубашку и, плюнув на ладонь, пригладил волосы. Теперь он был готов и двинулся к выходу.
Первые шаги дались ему так, как приговоренному к смерти даются, вероятно, шаги к эшафоту.
На улице в горло ему ударил пряный утренний воздух, и Семен, пошатнувшись, остановился. Его сразу замутило. Он уже не терпел уличной свежести. Немного постояв, он двинулся дальше. Его дневной крестный путь только начался, а время подгоняло и надо было спешить..
Но еще больше, чем время, подгонял его жадный червь, сидевший внутри Семёновой головы и начавший уже недовольно шевелиться. Червь только что проснулся, и его первые утренние шевеления еще можно было какое-то время терпеть, но Углов хорошо знал, что через полчаса он распрямится и превратится в дракона… Тогда он заполнит собой каждую клеточку тела – и терпеть дальше станет невозможно.
Громко охая и останавливаясь чуть ли не у каждого встречного стола, Углов спешил через весь город в парковую столовку.
5.
Старый городской парк был заложен в победном 1945-м году.
В последнее воскресенье того неповторимого мая сотни горожан вышли с лопатами на большой пустырь, раскинувшийся в центре городка. Пустырь раскинут здесь со времен доисторических.
Дребезжащая полуторка – единственное механизированное транспортное средство коммунхоза – привезла в два захода полторы тысячи саженцев. Пыхтя и задыхаясь в собственных чадных выхлопах, она остановилась у веселой толпы людей. На третью ходку ей бы уж явно не хватило моторесурса.
Городской голова (израненный фронтовой офицер, осевший в городке в сорок третьем), счастливо улыбаясь, сам разметил центральную аллею и место для памятника. Люди разбились на бригады, разошлись по своим участкам, и веселый стук лопат заглушили на время звонкие женские голоса. Работа спорилась. Давно она не была в такую охотку, отдых и радость. Это была как расплата с проклятой войной, это был первый по мечте, по сердцу мирный труд, и к полудню ровные ряды саженцев укрыли большую часть пустыря. Широкий арык был прокопан от центрального городского оросителя до главной аллеи. А это означало, что деревца с уверенностью будут жить, что они не оскудеют силой под беспощадными лучами азиатского солнца.
В сорок седьмом, когда молодые чинары и тополя уже зашелестели буйными веселыми кронами, а карагачи и акации тронулись в свой долгий и медленный путь роста, – послевоенное лихолетье и крутой излом судьбы забросили в городок немолодого ленинградского архитектора. Душа его, уставшая под грузом несчастий, истосковалась по красоте, и он спроектировал решетку парка и вход в него, заставляющие вспомнить величавую простоту Фельтена.
Бывший фронтовик, а ныне предисполкома, долго смотрел на пылающий акварельными радугами эскиз, разложенный перед ним потрепанным жизнью человеком, потом покачал головой и тихо сказал: «Да брат… Эка, ты размахнулся! Как бы нам с тобой рога не обломали за этакие-то дела».
Но глаза его заблестели лихим азартным огнем, покалеченная рука сжалась в тугой, тяжелый мосол, и сразу стало видно, что недаром у себя в полковой разведке этот худощавый тамбовский парень, как будто весь собранный из стальных пружин, – ох, как недаром носил грозное прозвище – «Украсть фрица»!
И с тем веселым и яростным блеском глаз, с каким он когда-то полз через ничейку за зазевавшимся фрицем, председатель рванул грудью сквозь надолбы чиновничьих запрещений и колючую проволоку инструкций.
На ноябрьские в сорок восьмом парк обежала литая по проекту чугунная решетка, арки парадного входа выгнули свои лебединые шеи, а бетонный монолит у ворот словно бы просел под тяжестью вставшего на него величия. В пятьдесят втором в парке появился бассейн, в пятьдесят третьем – танцевальная площадка. По обе стороны главной аллеи встали ряды постаментов с бюстами известных стране людей.
Вечерами духовая музыка плыла над притихшим городком, чинные семейные пары с детьми прогуливались по аллеям. Встречаясь, главы семейств приподнимали новенькие шляпы и вежливо раскланивались: «Как ваше здоровье, Василь Кириллыч?» – «Спасибо, а ваше, Ахрар Мурадович?»
…А рядом печально и тонко жало билась труба и, важно подпыхивая, утешал ее добродушный бас: «Пах-пах… пах-пах-пах…» А труба подымалась все выше и выше и вела все пронзительней и безнадежней. И все трогательней становились ее щемящие душу плачи, но уж на подмогу вступали альты и баритоны и говорили с ней на том чудном небесном языке, что понятен любому живому сердцу.
Ах, духовые оркестры моего детства! Где ж вы теперь?!.. Самодельные неуклюжие пюпитры, ноты, переписанные от руки на серой, шершавой бумаге, выструганная ножом палочка капельмейстера, облупившиеся инструменты, драный барабан – и самозабвенное служение музыке разношерстно и бедно одетых людей – рабочих с местного цементного заводика.
6.
Было время… Угрюмый и расстроенный, сидел я в тени тополя и потерянно повторял про себя: «Как жить дальше? Как жить?… И надо ли жить?!»
И сильное молодое существо непреклонно и гордо отвечало мне: «Живи! Живи и борись за жизнь!»
Серебристые листы трепетали; крепко и упрямо рвались тогда в небо веселые ветви, и не было для тополя иной дороги, кроме той, на которую он звал и меня: «Надо жить! Да, надо жить!»
Теперь тополь сгорбился и покривился, как, наверное, сгорбился и покривился я сам. Уж не так цепко держат землю в своих объятиях его могучие корни. И как первый звонок вечности – напоминанием и символом – торчит среди его еще буйно-зеленой листвы одинокая сухая ветка с обломанным мертвым концом – предвестница будущего угасания.
Что-то уйдет из моей жизни вместе со старым деревом. Да! Голубые лезвия бетонных лотков прорежут бока старых глинистых арыков. Лаковое асфальтовое благолепие зальет кривые тропинки, протоптанные когда-то как бог на душу послал. Прямые, как штыки, стержни цементных бордюров ограничат прихотливые плески дорожек. Каждый ухоженный кустик опояшется точеным асбестовым кольцом с отмосткой из синих глазурованных плиток.
Приедет умная и сильная машина и легко выдернет из земли вместе с корнями сухое старое дерево. Смышленые ребятишки в красных галстуках, празднуя воскресник, посадят на освободившееся место аккуратное молодое деревце с мудреным научным названием. И новый круг жизни начнет отсчитывать на циферблате вечности беспощадное время.
Все так… Но все же что-то уйдет из моей жизни. И незачем и не к кому будет приходить туда, где когда-то шелестел мой тополь. И красивый бетонный лоток, может быть, не покажется мне таким уж красивым. И нога, помнящая тепло обнаженной живой земли, едва ли захочет ощутить босой подошвой горячий, мертвый асфальт.
Все будет лучшим! Все будет и красивей, и умней, и талантливей, и, может быть, нужней людям. Но будет ли оно таким же моим, каким был старый тополь, глинистый арык, самодельная скамейка в старом парке?
Им, идущим за нами, – им и новый комфорт, и мало понятная мне функциональность, и разумные высокотеоретические решения, и ясный рационализм, – но будет ли, но вызреет ли в глубине их ученых голов то живое, что мы, понемногу уходя, уносим с собой?!
7.
Время, время! Ты проехало по старому парку, как паровой каток по асфальту.
Первыми исчезли постаменты. Потом прекратились семейные гуляния. Голубой ящик, появившийся в конце пятидесятых, как насос, выкачал с улиц городка вечерние толпы людей. Потом стихла музыка.
И парк опустел. Лишь изредка, зачарованные еще не свершившимся, заглядывали в него влюбленные.
А в пятьдесят девятом случилось страшное. И, как всякое подлинно страшное, подкралось оно незаметно, и выросло во весь свой исполинский рост с сущего пустяка. Выглядело оно поначалу серо и буднично.
Общепит построил в парке столовую. Потом это низкое продолговатое строение много раз меняло свое название – оно именовалось и буфетом, и кафе, и забегаловкой, и гадюшником, и грязнухой, – но главная, нутряная его суть всегда оставалась неизменной.
8.
В этот день чистый утренний воздух был удивителен. Как будто весь его отмыли в заоблачных ручьях и просеяли сквозь тонкое небесное сито.
Ночью в старом парке был полив, и деревья, вдоволь напившись сладкой арычной воды, распрямили усталые спины и расправили кроны. Ветки тихо шелестели, радуясь и свежести, и воде, и солнцу, и утру. Каждый листик с наслаждением пил прозрачный воздушный эфир и трепетал от переизбытка жизненной силы.
И только маленькие группки людей, рассыпанные в окрестностях столовой, выглядели угрюмо и мрачно. Сверху они, наверное, походили на темные кучи опавшей прошлогодней листвы, сметенной с дорожек. Будто бы сгреб нерадивый садовник, в кучки с тропинок и аллей полусгнивший пал, да так и не удосужился сжечь его. Пожухлая и мертвая старая листва догнила в небрежении, обросла пылью и паутиной и превратилась в мусор. Теперь ее брезгливо обходили. К одной из таких черных человеческих кучек и подошел Семен Углов. Первое похмелье досталось ему трудно и тяжело.
Буфетчица Поля припоздала открыть буфет вовремя и появилась в парке, когда уже все дожидавшиеся ее неопохмеленные мужики истомились и исстрадались в истую. До законных-то восьми часов ждать было невыносимо: каждая минута тащилась, как вечность, а уж не прийти после восьми – это был форменный разбой с ее стороны. Тут ведь счет шел прямо на секунды. Как пропикало восемь, никто не смог устоять на месте. И хоть все знали, что Поля еще не подошла и буфет закрыт, а все же каждый хоть по разу, а подошел к запертому на стальную решетку окошку и заглянул внутрь.
Подошел и заглянул и Углов.
Внутри темной комнаты громоздилась до потолка груда деревянных решетчатых ящиков с пустой посудой, рядом стояла такая же груда с полными бутылками. На стойке лежали три пыльные тарелочки с прошлогодними конфетами и раскрошенным печеньем – закусь была на месте. Под стойкой, в стеклянной витрине холодильника, виднелись запотевшие винные бутылки. В уголке сиротливо приютились несколько жалких бутербродов с глянцевым, с выпотами масла, сыром. Углов помнил эти бутерброды с прошлого года.
Поля появилась в пятнадцать минут девятого, когда общие страдания достигли невиданного градуса и среди мужиков начало возникать угрожающее ворчание. Впрочем, при ее появлении никто не осмелился проявить ни малейшего неудовольствия – напротив, лица зацвели деланными улыбками, посыпались преувеличенно-заинтересованные вопросы: не случилось ли с дорогой Полечкой какой-либо, упаси бог, беды или неприятности, а «Огонек» – столовская крыса на побегушках – подскочил к буфетчице и, радушно улыбаясь, подержал сумочку, пока Поля возилась с ключами.
Куда уж тут и кому было проявлять особое недовольство? Завсегдатаи были у буфетчицы в долгу, как в шелку, а разовые утренние посетители хорошо знали, что могут легко в таком долгу оказаться. Как можно было рисковать Полиным расположением? Не последний день живем – а ну как завтра не достанет денег на опохмел, и кто ж тогда поверит в долг до получки или аванса, если не Поля?
Углов издали поглядел, как опохмеляются первые заждавшиеся. Вперед хлынул народ с деньгами, уверенный в своем праве. Иные, увидев Углова, отворачивались – и Семен мудро сопонимал их: с одного рубля не разгуляешься, а отлей из стакана глоток такому вот Углову – и его не спасешь, и самому останется уж не столько, сколько душа просит. К ним какая ж могла быть у Семена обида? Богатых же фраеров пока не было видно. Самому Семену покудова подходить к стойке было незачем, сейчас шли первые за день рубли в Полину мошну, и не дай бы бог Углов вдруг тыркнулся попросить стакан в долг: он бы тем самым нарушил железное, непреклонное, неписаное буфетное правило разливной торговли: первый стакан должен был быть оплачен наличными. Все равно, не продав первого стакана вина за живые деньги, Поля и министру торговли не налила бы в долг с утра, окажись министр в парке в это время, – но даже и самая попытка такой неслыханной угловской наглости привела бы, конечно, к неизбежному «сглазу» Полиной торговли. Или бы санэпидстанция вдруг появилась с проверкой, или народный контроль, или, не дай бог, сама «обехаэс». И опять, давай пои их, корми, плати, а сколько недолива надо сделать да на ногах выстоять, чтоб перекрыть те дурные расходы? Никакой Углов таких денег не стоил.
После безумного нахальства нечего было бы Семену и подходить к Полиному прилавку, тем более что и парковые мужики уважали торговое суеверие и, конечно, не одобрили бы явного нарушения буфетной этики. А там хоть из парка беги! А куда бежать? Отсюда бежать Углову было некуда.
Он покрутился туда-сюда и набрел на таких же бедствующих с утра, как и он сам, Леху и Фазыла. У каждого из них была зажата в ладони горсть считанной-пересчитанной мелочи, и не складывались они вместе только потому, что на полбанки все равно бы не хватило, а брать на имевшуюся мелочь у Поли всего по полстакана портвейна было бы очевидной глупостью. И последние деньги бы ушли, и никакого разумного опохмела, конечно, не получилось.
– Здорово, братаны, – хрипло сказал Углов и пожал вялые, бессильные руки. – Сколько не хватает?
И Леха и Фазыл сразу насторожились: самый вопрос, казалось бы, обещал наличие некоторых денег в вечно пустом угловском кармане, но застарелая опытность взяла свое, и Леха, не отвечая прямо, недоверчиво бросил:
– Добавь «дуб» и возьмем «бомбу».
У Семена мгновенно сработал безошибочный арифмометр. «Так, бомба – это два с полтиной. Без моего рубля – полтора; значит, у них по семьдесят пять копеек на брата». И Углов привычно ввел поправку на приманивание. «Конечно, на деле не по семьдесят пять, а копеек по шестьдесят, не больше. Было бы семьдесят пять, они бы уж ни за что не выдержали, сунулись к Поле; за такие деньги она наливает почти полный стакан, сочувствует, а вот с шестьюдесятью копейками у нее ловить, конечно, нечего. Значит, мне надо добыть еще копеек шестьдесят, и тогда уже точно можно будет сгонять за бутылкой, пусть не за „бомбой“, о такой роскоши сейчас нечего и мечтать, но и поллитровая бутылка бормотухи на троих – это вполне нормальный первый стакан».
– Эх, – горько пожалел Семен. – Кабы сейчас иметь тот полтинник, что прозевал утром, уже б жилось по-другому.
Но все же хоть какая-то, хоть самая малая подвязка в компанию появилась, и Углов несколько ожил.
– Сейчас сделаем, братаны, – сказал он и вышел их парка на улицу. Оставался единственный и последний реальный выход из его безысходного положения, и Семен, горько вздохнув, признал его неизбежность. Время было – половина девятого, самое охотничье по сезону время; люди шли на работу, и если бы сейчас ему не повезло, то когда бы и везти-то?
9.
Женщину с ребенком Углов пропустил, двух намазанных девиц тоже: эти не годились для его дела – не тот кадр. Семен ждал своего человека. На мужчину с портфелем он глянул внимательно и сразу определил: пустой номер, нельзя. Серьезное, сосредоточенное лицо прохожего не обещало ничего доброго для Семеновой задумки. Следующим из-за угла вывернул высокий, худой парень спортивного склада в потрепанных джинсах, и Углов сладко поздравил себя: «С полем!» Правда, оказалось, что с «малым полем». Парень прошел, оставив в угловской ладони всего-навсего двенадцать копеек. Но лиха беда начало: гривенник и двушка нежно ласкали истосковавшуюся по деньгам Семенову ладонь.
Потом промелькнуло еще несколько пустых номеров, и Углов нервно ругнулся: «Ну же, ну!» И тут вдруг сразу отпустило сердце, как с неба капнуло – навстречу ему шел «карась».
«Ух, – сказал сам себе Углов. – Вот же он где!»
Невысокий полноватый мужчина в очках рассеянно натолкнулся на Семена, загородившего дорогу, и остановился.
– Вы, извините, пожалуйста, – сказал Углов, смущенно потупливаясь. – Но тут такое дело, мне, конечно, неловко, но приходится обратиться, я подумал, вы поймете, как мужчина мужчину…
Это был первый хитрый припев. Важно было сразу дать почувствовать «карасю» всю свою былую якобы интеллигентность и порядочность. Преувеличенная, смущенная за себя вежливость была лучшим способом без нажима, но достаточно явно показать свой былой лоск. На фоне царящего вокруг всеобщего взаимного хамства такая система действовала безотказно. Угодливость здесь тоже не годилась и не проходила; «карась» не должен был с первых же слов проникнуться презрением к просителю – нет, просто вполне хороший человек попал в небольшую, даже скорее пустяковую беду, попал по своей собственной слабости характера. Тут «карась» невольно должен был ощутить всю силу и значимость собственной волевой натуры и проникнуться к падшему собрату некоторой самодовольной жалостью, с оттенком горделивого превосходства.
Дальше уж все было делом голой техники: можно было доить его на сумму от десяти до девяноста копеек почти со стопроцентной гарантией. Тут важно было не перегнуть палку, не пережать. Если девяносто копеек еще могли выглядеть мелочью, то при слове «рубль» невольно возникала в уме хрусткая бумажная купюра, а разбрасываться неизвестно кому настоящими деньгами – тут любой «карась» бы призадумался. Просить рубль нельзя было ни под каким видом. Так же нежелательно было упоминать и круглые цифры: скажем сорок, пятьдесят, шестьдесят копеек. Здесь тоже имелась своя тонкость: если просить с утра полтинник, то невольно возникало разумное подозрение, что заурядный алкаш набирает на бутылку, не имея ни гроша за душой, и легко могли отказать. А вот стоило подойти по уму, и осечки почти не бывало.
– Понимаете, в чем дело, – продолжил Семен и как можно слышней позвенел в кармане двумя своими жалкими монетками. – Вчера, был грех, перебрал я маленько, сегодня, конечно, болею, и радо бы полечиться перед работой, да как назло немного не хватает на стакан, всего каких-то тридцати двух копеек. Неловко, правда, просить у незнакомого человека, но, гляжу, вы вроде человек свой, работящий… Может, выручите?
Очкастый недоуменно выслушал Углова, окинул его глазами, неловко залез в карман и, достав горсть мелочи, положил ее в протянутую руку.
– Спасибо большое, спасибо! Да тут лишнее, спасибо большое, – зачастил Углов, быстро сжимая ладонь. – Мне ведь всего-то надо…
– Ничего, ничего, возьмите, бывает, – слегка покраснев, отодвинул очкарик угловский кулак. Он повернулся и пошел прочь.
– Еще раз спасибо большое! – крикнул вслед Семен, провожая «карася» повеселевшим взглядом. Повезло, ах как повезло: да ведь там копеек шестьдесят. На всякий случай несколько преуменьшил свою удачу Углов. Еще несколько минут он стоял не считая добычи, растягивая удовольствие сладко гадать, сколько же он все-таки урвал на самом деле. Потом открыл потную ладонь, и на сердце потеплело: в его тяжелой ухватистой руке лежало девяносто две копейки. Плюс двенадцать парнишкиных – это составляло рубль и четыре копейки – целое состояние на текущую тугую минуту. Одним удачным ходом он из бездны нищеты встал чуть ли не в первые ряды парковых миллионеров.
– Покрутятся теперь Леха с Фазылом! – злорадно пробурчал Углов, направляясь ко входу в парк. Еще вопрос, стоило ли теперь вообще иметь с ними дело. Мелькнула было у него шальная мысль, а не добрать ли у прохожих еще мелочи до полного бутыля, но стрелять гривенники на углу улицы, не зная на кого нарвешься, было дело все же опасное в смысле милиции, и Семен решил не искушать больше и так благосклонную к нему нынче судьбу.
10.
Сейчас, прямо на ходу, прежде чем подойти к мужикам, Углову надо было срочно решить для себя, как распорядиться добытым рублем? Можно было, конечно, шмыгнуть через боковой вход прямо к Поле (как бы никого не видя вокруг) и просто замочить законно заработанный стакан.
Но что он стоил, один-то, первый-то?! Настоящим похмельем считался и был, конечно, на деле не первый, а второй стакан вина. Первый не вполне принимался раздраженным желудком, и приходилось посасывать его по граммульке, по глоточку, с отдыхом и перерывом, каждую секунду тревожно прислушиваясь к желудку. И все равно, как ни медлил Семен с первым стаканом, как ни осторожничал, а все ж почти половина вина пропадала зря: секунда, и драгоценная, с таким трудом добытая жидкость одним резким спазмом желудка выбрасывалась на траву. И только потом, когда уж хоть сколько-то вина впиталось в воспаленные стенки желудка и горячая спасительная волна поднималась по пищеводу все выше и выше – только тогда можно было без опаски опохмелиться по-настоящему – для головы. Тут-то и требовался основной похмельный, второй, стакан. А на него денег как раз и не хватало! И уж о следующем, третьем похмелье – для настроения, для «кайфа» – пока нечего было и мечтать.
Или можно было все же закорешиться с Фазылом и Лехой, добавить к их мелочи свой драгоценный рубль и принести «бомбу» из магазина. Но здесь опять возникала несправедливость, хотя и другого рода: он ведь один давал целый рубль, а они на двоих имели только полтора, а ведь как разливать станут, никто и не подумает налить Семену хоть на каплю больше – как же, компания, кореша! Да еще (Углов знал это так же хорошо, как и цены на вино) неизбежно кто-нибудь сторонний, увидя, что рядом разливают бутылку, «сядет на хвост», то есть подойдет и будет нахально стоять рядом и заговаривать уши, дожидаясь, пока хозяева вина не смилуются, не нальют. Этого тоже никак нельзя было избыть: рядом стоящий, совсем еще не опохмеленный однокорытник самим угнетающим видом своим неизбежно ломал всякий «кайф», и было, конечно, очень тревожно думать, что завтра сам окажешься на его месте, и тебя тоже вот так вот запросто возьмут да и обойдут. Поневоле рука сама тянулась оторвать от ужаснувшегося сердца и бесценной бутылки полстакана вина.
Так ничего толком и не решив, Семен сунулся обратно в парк. Тут он сразу наткнулся на Леху и Фазыла и подивился про себя братанову нюху.
Леха ощупал его острым пронизывающим взглядом и уверенно спросил:
– Сколько урвал, Угол?
Углов нехотя пожал плечами.
– Э, да что там… – Ему хотелось все же решить самому, как распорядиться добытой наличностью.
Фазыл взял его под локоть.
– Да ты не темни, дура, – сказал он ласково. – «Дуб»-то набрал?
– Набрал, – невольно вырвалось у Семена.
Леха в восторге хлопнул себя по плоскому затылку.
– Ну Угол, ну хмырь! Что ж ты хвоста коту крутишь?! – И деловито подсчитал – Так, «дуб» да «дуб» тридцать – два тридцать. Эх, еще двугривенный, и «бомба»! Где ж взять? – нетерпеливо повел он глазами по сторонам.
Фазыл мигом остановил его.
– Ни-ни… Никого «на хвост» не берем. А двадцатчик сейчас сделаем. Идем! – И он пошел к танцплощадке. Компания двинулась за Фазылом.
За танцплощадкой располагался «пятачок» – небольшой пустырь возле кучки мусора. Здесь было самое удобное распивочное место в парке – ты видишь всех, тебя никто. Углов принуждал себя умерять шаги. Идти быстро было нельзя, ибо тем самым становилось ясно, что они собрали на бутылку и спешат брать ее, – иначе зачем им было торопиться и куда? И конечно, увидев такую быструю, деловую походку, кто-нибудь обязательно пристал бы к компании. Но Фазыл был опытен, он чуть двигался сам и слегка придерживал за локоть нетерпеливого Леху.
Со скамейки, впереди их, поднялся Дамир, коренной парковый житель. Он почуял неладное.
– Ну чё, братаны, добавить? – вопрос был задан как бы между делом, с полным отсутствием заинтересованности. Но Фазыла ли было купить на такую дешевую уловку?
– Что ты, Дамир? – уныло махнул он рукой. – Сами ищем, кому на хвост упасть. Вот, на троих полтинник. – И он выразительно похлопал ладонью по пустому карману.
– А идете куда? – подозрительно спросил Дамир.
– Да чё у входа кучковаться? Все пустые… Может, там кто есть?
Фазыл неопределенно махнул рукой вперед. На подмогу вступился Леха. Он озабоченно провел руками по карманам, укоризненно покачал головой сам себе и спросил у Дамира:
– Братан, курево есть? Веришь-нет, с вечера «бычка» во рту не было.
Дамир вздернул острые плечи, удивляясь:
– Что ты? Откуда? – и, сразу потеряв к компании всякий интерес, уныло побрел на свою скамейку.
Компания прошла дальше и завернула за сквозной забор танцплощадки. Фазыл быстро огляделся по сторонам – никого не было. Тогда он шустро метнулся к мусорной куче, деловито порылся в ней и вытащил пустую бутылку.
– Вот вам и двадцатчик, – сказал Фазыл торжествующе. – Вчера приначил, как знал, что сегодня занадобится.
– Дай сюда! – Леха вырвал из его рук бутылку и, задрав рубашку, сунул бутылку под ремень.
Они ссыпали в его ладонь всю свою мелочь; Леха еще раз, на глазах у всех, пересчитал ее – чуть не достанет, иди потом докажи, что не отначил, и, убедившись, что нужная сумма есть, аршинными шагами припустил в магазин. Углов с Фазылом постояли пяток минут в нетерпеливом, жаждущем ожидании, потом Фазыл не выдержал.
– Пошли, Угол, – сказал он, устремляясь вперед.
Углов и сам не мог дольше оставаться на месте, ведь они доверили Лехе все свои деньги, и хотя обмануть их он, конечно, не осмелился бы, но чем черт не шутит – вдруг по дороге прискребутся «менты» или случится еще что-нибудь необычайное. Тут-то и пришлось бы кинуться на подмогу. Хотя, что была «ментам» за польза от Лехиного уловления? Таких, как он, они старались не замечать: нигде не работает, в карманах шаром покати, нечем даже заплатить за ночевку в вытрезвиловке, – мало было, что ли, у «ментов» других забот? Разве что шуганут когда, для смеха.
Углов вывернул из парка и остановился. Он издали приметил спешащего навстречу Леху. Магазин был недалеко, и долгоногий Леха слетал на удивление моментально.
Фазыл облегченно вздохнул:
– Идет.
Они вернулись назад. «Пятачок» ждал их. Углов поискал глазами поверху.
– Да вот же! – Фазыл поднялся на цыпочки и сдернул с обломанного сука липкий граненый стакан. Семен перенял стакан и ополоснул его в арыке. Фазыл нагнулся к мусорной куче и сорвал пучок растущего около нее щавеля. Закусон и посуда были готовы, бутылка шла им навстречу.
Леха подскочил, задыхаясь от быстрой ходьбы.
– Так, – сказал он, вынимая бутылку. – А ну давай по-шустрому, а то вроде меня по дороге Дамир засек.
Все засуетились. Да, если Дамир увидел, что Леха идет из магазина, то есть явно не пустой, значит, через пять минут он будет на «пятачке». Отлетела запечатка, забулькало резко пахнущее вино, – через три минуты Фазыл снова спрятал в мусор пустую бутылку, а еще через минуту из-за угла танцплощадки вылетел Дамир. Он обвел глазами индифферентно молчащую компанию и сразу все понял. Тяжелое разочарование разлилось на его опухлом лице. Дамир пожевал губами, хотел что-то сказать, но безнадежно махнул рукой и вновь скрылся за углом.
Леха зашелся в беззвучном смехе. Он тыкал пальцем в сторону ушедшего Дамира и с трудом выдавливал из себя:
– Не обломилось!
Фазыл строго остановил его:
– Чего зазря зубы скалишь? Не видишь, болеет человек.
Леха мигом взъерошился.
– Ну так налил бы! Чё ж не отначил от своей доляны?!
– На всех не отначишь, – нравоучительно заметил Фазыл. – А ржать не над чем. Сами только что помирали.
И Фазыл тяжело вздохнул:
– Эх, жизнь наша бекова. Не жизнь, а цирк…
– Почему – цирк? – заинтересовался Леха.
– А я в цирке в детстве видел, – охотно отозвался Фазыл. – Лежит мужик на кресле, да вверх ногами, лежит и бочку на пятках крутит. Вот так и мы – живем как вверх ногами, аж голова кружится. – Он сплюнул. – Антиподы, что ли, называются такие мужики, – с гордостью припомнил полузабытое слово.
– Нет, – вступился Леха. – Не антиподы, а антиподисты. – Леха был грамотный в прошлом человек. Поговаривали, что он когда-то ходил в больших чинах и имел диплом инженера.
– Земля-то ведь круглая. Антиподы – это те, что с другой стороны живут.